
КРИЗИС
ЭФИОПСКОЙ ФЕОДАЛЬНОЙ МОНАРХИИ В XVI
в.
1. Политика детей и внуков Зара Якоба
В целом решительные реформы государственного управления, проводимые Зара Якобом, не «получили поддержки в стране. Более того, с течением времени число их противников росло. Все усиливающуюся оппозицию царю составляла церковь. Здесь сложилась любопытная ситуация: стремясь к самодержавной власти, Зара Якоб по сути дела уничтожил политическое значение митрополита в Эфиопии тем, что сначала заполучил сразу двух митрополитов для своего царства, а после их смерти не стал просить у александрийского патриарха замены и оставил их кафедры вдовствовать. В то же время он превратил игуменов крупнейших эфиопских монастырей в собственных придворных и подчинил их акабе-саату.
Тем самым он наделил акабе-саата столь значительной властью и политическим влиянием, каким не пользовались в Эфиопии и митрополиты. Так, избавившись от одного соперника своему самодержавию, Зара Якоб нажил себе вдвое худшего: митрополитом в Эфиопии всегда был копт, которому нелегко бывало применяться к новой и чуждой ему обстановке и находить сторонников среди разнообразного местного монашества. Стараниями же Зара Якоба акабе-саат Амха Сион получил под свое начало уже объединенную эфиопскую церковь с игуменами-придворными и даже подобием собственной церковной канцелярии: «Когда была надобность, он призывал одного из своих верных монахов и посылал его, куда хотел, близко или далеко» [24, с. 59].
С таким возросшим политическим влиянием объединенной им церкви Зара Якобу пришлось столкнуться к концу своего царствования и отступить перед этой силой. Когда Зара Якоб разгневался на своего сына Баэда Марьяма, заподозрив его в желании узурпировать, престол, то под давлением влиятельных церковников он против обыкновения вынужден был помиловать его. То, что это милосердие не было простым проявлением отцовских чувств, видно из следующего: Зара Якоб не только простил сына, но «поставил его полномочным над всеми и над жан цараром и получением подарков» [24, с. 84]. Более того, «когда сей царь наш Зара Якоб заболел, он призвал сына своего Баэда Марьяма и сказал ему в присутствии акабе-саата: „будь внимателен и да будет благо »а всех путях твоих, ибо есть в моем желании послать тебя". И когда наступил час упокоения его, его возвели на его престол, а прочих детей царя, которые были там, связали» [24, с. 84]. В этом случае поддержка церковников, и в первую очередь акабе-саата Амха Сиона, оказалась решающей, так как, по свидетельству «Хроники» Баэда Марьяма, «сказал акабэ-саат Амха Сион всей знати эфиопской, стоя пред престолом высоким: „глас царя нашего Зара Якоба: царь Баэда Марьям не по моему хотению; но повелел мне бог, да воцарю над вами именно его, о люди эфиопские!". Так говорил пред своею кончиною государь мой Зара Яокоб, да буду свидетелем его пред ангелами и людьми, и если я солгал, свидетель мне дух снятый» [24, с. 102].
Таким
образом двадцатилетний Бавда
Марьям был возведен в
Такое положение дел мало менялось с течением времени, и вполне аналогичную картину рисует Ф. Алвариш, духовник португальского посольства к эфиопскому царю Лебна Деятелю (1508—1540), который был в Эфиопии в 1520—1526 гг. Вот что он пишет о престолонаследовании в Эфиопии, которую он именует «страной Пресвитера Иоанна»: «По смерти Пресвитера наследует старший, другие говорят, что наследует тот, кто кажется Пресвитеру более подходящим и благомыслящим, иные же говорят, что наследует тот, у кого больше сторонников... Абима Мартос (митрополит Марк.— С. Ч.) сказал мне, что он и царица Елена сделали его (Лебна Деятеля. — С. Ч.) царем, потому что вся знать была в их руках. Посему мне и кажется, что здесь, кроме первородства, важно иметь сторонников» [29, с. 143].
Взойдя подобным образом на престол, эфиопский царь, по крайней мере в начале своего правления, редко решался проводить политику, противоречащую взглядам выдвинувшей его группировки. Поэтому по первым мероприятиям Баэда Марьяма мы можем судить о Щелях, которыми руководствовался «синклит», возводя его «а царство. Мероприятия же эти носили характер подчеркнутого, и поспешного отречения от политики грозного Зара Якоба: «После сего возглашен был глашатаем указ: „отныне одевайтесь все, как хотите, в белое, или в красное, и узники ближние и дальние возвратитесь в ваши дома". Ради этого радовались все люди эфиопские и много плясали и были одеты в красивые одежды» [24, с. 102].
Сам Баэда Марьям демонстративно (появлялся перед народом на праздниках, «будучи видим всеми без своего покрывала... И радовались, созерцая лицо его, все люди, ибо обрели новое, неведомое доселе» [24, с. 85—86]. Баэда Марьям отменил не только строгий придворный этикет, введенный Зара Якобом, но и решительным образом порывал со всей предыдущей политикой своего отца. Однако то, что получили в его лице «люди эфиопские», трудно назвать особенно новым. Взойдя на царство в воскресенье, в понедельник «поставил он во все области людей, которых он избрал, ибо прежде все должности Эфиопии были в руках отца его. И он назначил чинов Эфиопии: бехт вадада справа и слева и всех подчиненных ему сановников по степеням их: в Шоа называемых цахафаламов, как и в Амхарской земле; в Анготе, Кеда и Тигрз — бахр нагаси; в Дамоте — цахафалам, в Вадж — кац, в Хадья и Ганз — гарад, в Даваро — эрас, в Фатагаре — асгуа, в Ифате — валасама, в Гедеме — аканцан, в Гань — царь. Всем им он поставил эрасов и шафшатов, и протоиереев и небура эдов поставил он также по городам, возложивши венцы на головы их» [24, с. 84—85].
Таким, образом, если Зара Якоб унифицировал всю административную систему, взяв управление провинциями в свой руки и назначая туда лишь собственных приказчиков' (рак-масаров), то Баэда Марьям вновь роздал области, выражаясь старорусским языком, «в .кормление» своим вельможам. Более того, некоторые титулььэтих «воевод кормленых» указывают на их опасную для верховной власти связь с-титулами местной родовой знати. Например, «кац» в Вадже, «гарад» в Хадья и Ганз^, «асгуа» (явно восходящий к титулу северной знати «хаогуа») в Фатагаре, «аканцан» (сокращение от «акабе-ценцен», т. е. «блюститель опахала») в Гедеме, не говоря уже о «валасама» в Ифате, что является именем мусульманской, династии. Все это не означало, конечно, что каждый такой правитель обязательно принадлежал к местной династии. Возможно, что царским наместником просто усваивался местный правительекий титул вне зависимости от его происхождения. Тем не менее, все это указывает на гораздо более тесную связь наместников с управляемыми обществами, нежели то допускал Зара Якоб, последовательно добивавшийся самодержавной власти.
Заслуживают внимания и упомянутые выше протоиереи и небура зды, и не только потому, что в свое время Зара Якоб «взял в свои руки и наместничество протоиерейств и не оставил ничего» [24, с. 82], а Баэда Марьям отменил это положение. В данном случае интересно то, что наместничества прото-иерейетв и небура-адов упоминаются рядом с наместничествами светских вельмож. И это не случайно. Выше уже говорилось о том, какую роль сыграла в Эфиопии церковь в деле широкой церковно-государственной экспансии и насаждении феодальных порядков в стране. Церковные феодалы в Эфиопии стали в середине XV в. многочисленнее я богаче феодалов светских, и это обстоятельство имело не последнее значение в дальнейшей истории эфиопского государства. К этому вопросу еще придется обратиться не раз.
Здесь .же достаточно сказать,-что засилье церковных феодалов с их в принципе неотчуждаемыми гультами серьезнейшим образом подрывало военную мощь государства. Владельцы гультов должны были служить своему сюзерену. Однако, если в деле феодального подчинения местного населения и светские и церковные феодалы одинаково стояли на страже интересов феодального государства, то в деле обороны страны церковники участвовали только молитвами, ссылаясь на слова апостола Иакова: «Много может молитва праведного споопешествуема в ней надежда жизни» (Посл. Иакова 5, 16). Церковная земля таким образом «из службы выходила». Тем не менее как крупные держатели земли и церковники попадали в поле, зрения царской власти, которая добилась прерогативы назначать протоиереев и небура-эдов, утверждая тем самым свой сюзеренитет.
Так, царствование Баэда Марьяма ознаменовало смену прежней централизаторокой политики на иную, более центробежную по своему характеру. Очень скоро, сразу же после расправы с доносчиками и наушниками Зара Якоба, от которых Баэда Марьям и сам пострадал в свое время, он упразднил и самый центр христианского царства, в который превратил Дабра Берхан его отец: «Тогда же царь наш повелел и оказал: „внимайте, лжецы, и отселе не говорите так, ибо открыл мне бог те преступления ваши, и вы, весь народ мой, приготовьте ваши пожитки и мулов; приготовьте ваши пожитки, ибо мы пойдем, куда повелит бог". Услыхав это, все воинство стало просить его, говоря: „Господия наш, мы возрадовались тому, что ты наказал сих злых людей, умертвивших много христиан, и тому, что ты повелел, чтобы впредь не повторялось всякое зло — ты хорошо это сделал. Но что до отправления в путь, то пощади свое войско, царь, ибо теперь не время — дни дождей. Окончим праздник креста, и затем пойдем с тобой, куда бог повелел тебе"» [24, с. 85]. Так закончилось недолгое существование Дабра Берхана в качестве столицы христианской Эфиопии.
Если Зара Якоб начал свое царствование, отправившись в Тигре, где он укрепил центральную власть в этой приморской провинции, преодолел церковный раскол, выписал двух митрополитов, торжественно короновался в Аксуме и всеми своими деяниями утверждал себя в качестве самодержца всей Эфиопии, то Баэда Марьям главное свое внимание сосредоточил на домене. В этом отношении показательна уже первая его раздача наместничеств: он назначил цахафаламов, т. е. управляющих областями царского домена, не только в Шоа и Амхару, эти традиционные доманиальные владения эфиопских царей, но и в богатую провинцию Дамот, чуть не на треть увеличив таким образом свой домен. Зара Якоб стремился быть могучим и грозным самодержцем. Баэда Марьям же начал свое царствование домовитым вотчинником, округляющим свои владения.
Сразу же по восшествии на престол Баэда Марьяма ожидали его обязанности государя: он должен был вознаградить своих сторонников и принять омаж многочисленных вассалов. Пойдя навстречу воинству, он помедлил с походом до праздника Воздвиженья креста 1, который справил в Дабра Берхане, и сразу же отправился в свой домен в Ам,хару, где «его встретил цахафалам Амхары с обильно приготовленными яствами и питьями» [24, с. 86]. Он обошел окрестные монастыри, игумены которых в свое время вступились за него перед разгневанным Зара Якобом, принял их омаж и роздал богатую «милостыню». Наиболее щедрые дары достались Дабра Либаносу, с настоятелем которого, Марха Крестосом, Баэда Марьяма связывала давняя дружба, и монастырь на несколько лет был освобожден он налогов. В Дабра Нагуадгуаде, любимом монастыре Зара Якоба, получившем от него в дар воинское снаряжение «скота Бадлая», где Зара Якоб был похоронен, Баэда Марьям оправил сороковины по отцу.
Далее Баэда Марьям приступил к устроению нового центра в своем домене: «Окончив это, он перешел в Келанто, которую назвал Атронса Марьям, с великим торжеством и смятением от многих коней и цевов, его сопровождавших без числа. И начал он построение этого храма при многочисленных строителях. И дал он ему в удел землю от Абал до Джамы, увеличил весьма число иереев, набрав и назвав их из всех областей, чтобы они молились в этом храме» [24, с. 102]. Не случайно Баэда Марьям начал строительство своей резиденции с возведения храма. При кочевой жизни эфиопских царей и их двора именно храмы и монастыри оставались в Эфиопии после падения Аксумского царства теми постоянными средоточиями местной экономической, торговой, политической и культурной жизни, которые делали их слабыми подобиями европейских городов. Если в Европе местным центром был город, то в Эфиопии — монастырь.
Стоит отметить также, что «пожелав итти в землю Келанто, послал он (Баэда Марьям.— С. Ч.) вперед немногих вельмож, которые у него были, и наказал им, говоря: „встречайте меня по чину, (когда я прибуду к вам". И дал им 50 тканей гемеджа для одеяния и убранства, ибо они были новое насаждение, и глашатай повелел: „не называйте сей земли Келанто, а называйте ее Атронса Эгзеетна Марьям" („трон владычицы нашей Марии".— С. Ч.)». [24, с. 87]. Видимо, Баэда Марьям решил значительно обновить" свой двор и приблизить к себе новых людей, всецело обязанных обретенным высоким положением ему. Именно этих «немногих вельмож» он и отправляет готовить себе встречу. Они — «новое насаждение», еще не имеющее собственных богатых одеяний для торжественной встречи царя.
«Новым насаждением» оказывается и Атронса Марьям, так как «земля Келанто» не принадлежала к числу старинных доманиальных владений царя. Поэтому хронист царя считает нужным подчеркнуть ее принадлежность к домену и добавить, что «эту землю некогда купил за золото царь наш Сайфа Арад, чтобы выстроить на ней церковь и не выстроил, ибо не было на то воля божией». Баэда Марьям же окончательно закрепляет ее за собою, учредив там соборный храм и собственную резиденцию и занявшись широким храмовым строительством. Царь, видимо, твердо решил превратить Атронса Марьям в центр своего домена, «и гробницы царей перенес он с места их — гробницу царя Феодора из Марха Бетэ, гробницу Гуерма Асфарэ из Асаро и Иекуно Амлака из Иекуно и других царей и митрополитов, всего 18 числом внес он и погреб в нем и установил дни памяти этих царей и митрополитов, не соединяя. И когда он находился здесь, велел перенести кости Такла Иисуса из Дабра Нагуадгуад, ибо это был его наставник, научивший его псалтирю Давида и был им весьма любим» [24, с. 103].
Зара Якоб, живя в Дабра Берхане, устроил там главный административный, но не церковный центр. Монастырям он благотворил, соблюдая ту иерархию, которую установил при дворе для их игуменов. Он и сам построил много храмов и монастырей, однако избегал объединять их административно: при дворе Зара Якоба подвизались и занимали видное место как дабра-либаносцы, так и монахи далекого северного Дабра Бизана. Баэда Марьям же слил в Атронса Марьям центр административный и церковный, перенеся туда мощи эфиопских царей и митрополитов, канонизированных к тому времени, и отдав собор Атронса Марьям под начало Марха Креетосу, настоятелю дабра-либаносскому.
Этот церковный иерарх в царствование Баэда Марьяма по своему политическому значению совершенно затмил некогда могущественную фигуру акабе-саата и положил начало особому, привилегированному положению Дабра Либаноса по отношению к правящей династии «соломонидов». Немалую роль здесь сыграло то, что земли этой конгрегации очутились в пределах домена. Если во времена Амда Сиона, когда ширилась церковная и государственная экспансия, это обстоятельство привело к жестокой распре между дабралибаносцами и царской властью, то во второй половине XV в. раздоры сменились теснейшим сотрудничеством. В первый же год своего царствования Баэда Марьям, находясь в Атронса Марьям, «повелел принести всем наместникам Эфиопии подати. И они все, согласно приказанию, принесли их в месяце Хамлэ и Нахасе. Привели и монахов Дабра Либаноса вместе с их настоятелем отцом нашим Мархена Крестосом (иногда он именуется Марха Крестос и Йемерхана Крестос. — С. Ч.). И сказал он отцу нашему Мархена Креетосу: „благослови сей храм и вы все, монахи, благословите его, и я отдам его вам, да будет вам в удел, как отдал некогда отец мой Зара Якоб отцу вашему Андрею, да будет ему в удел Дабра Нагуадгуад; отныне да не будет он отдельно от Дабра Либаноса". И об этом он установил завет с ними и никогда не прекращал каждое утро давать необходимое для сей церкви» [24, с. 90]. Так разрешился давний конфликт Дабра Либаноса с правящей династией, которая готова была благотворить монастырю на условиях вассальной зависимости монахов, чьи игумены со времен Зара Якоба наравне с наместниками являлись ко времени принесения податей и уже смирились со своей зависимостью.
То обстоятельство, что доманиальные интересы составили основу политики Баэда Марьями, отчетливо проявилось и в церемонии коронации. Баэда Марьям повелел совершить ее, хотя и по аксумскому чину, возобновленному Зара Якобом, но не в Аксуме, а в собственном домене, куда были вызваны «все потребные для пострижения ... все дабтара из своих монастырей и мужи Аксумские со своими законами» [24, с. 88]. Более того, свершив обряд помазания на царство по аксумскому уставу, Баэда Марьям счел необходимым короноваться и по местному обычаю: «Здесь царь спросил всех мужей амхарских о порядке благословения, которое творится над царем издревле и до ныне. И они объяснили ему чин благословения, которое совершается там для царя. И позвал царь законоведов и угостил их вместе с собою, облеченных в одежды из махака, ибо таков у них обычай. Других людей не было с ними, кроме Габра Вахеда и Марка... и знати правой и левой, и кроме азажа Такла Марьяма. После этого мужи амхарские благословили его по их закону и обычаю» [24, с. 104]. Установив таким образом тесные отношения с «мужами амхарскими», Баэда Марьям продолжил деятельность хлопотливого хозяина-вотчинника, объезжая земли своего разросшегося домена и строя церкви.
Это возвращение к политике и нравам времен давно прошедших «е могло не вызывать ропота и в войске и при дворе, тде хорошо помнили «руку высокую» прежнего могучего монарха. «Здесь он услышал, что все осуждают его, говоря: „Царь не живет по закону и уставам царства, но постоянно стремится быть на коне — ведь он юноша"» [24, с. 89]. Однако, если сторонники самодержавной политики затеяли заговор, то они выбрали для этого неподходящий момент. По всей стране, в особенности же в отдаленных областях, всегда тяготившихся бдительным присмотром уполномоченных Зара Якоба и скорой царской расправой, отход от прежней жесткой централизаторской политики был воспринят с облегчением. Так, когда Баэда Марьям послал в Цельмат (область провинции Самен, населенная иудеями-фалаша) родственника своего прежнего учителя Такла Иясуса — Марка, «которого сделал доверенным во всем», «он привел Амба Нахада, Цагая и Кантибу, которые изменили во дни царя нашего Зара Якоба, и помирил их с царем нашим Баэда Марьямом, и они обновили в своих областях церкви, которые некогда сожгли» [24, с. 103]. Тогда же прислал дань и правитель Адаля «Мехмад, сын скота Бадлая», говоря: «отныне я буду в мире и буду давать ежегодную дань, ты же повели всем цевам не воевать со мною и не вторгаться в мою область» [24, с. 90].
Таким образом, положение Баэда Марьяма было достаточно прочным, и он решил показать своим подданным, что он сын своего отца: «Посему разгневался царь наш весьма и повелел собрать все свое воинство, препирался с ним, говоря: „зачем вы меня осуждаете и говорите: этот царь не живет по закону и обычаям царства, но сидит на коне. Так вы говорили обо мне. Разве этот обычай ездить на коне и стрелять из лука не был у моих отцов издревле? Ныне же выведя людей, которые говорили это, предайте, мне, а если нет — все умрете". В этот день захватили многих монахов и знатных лиц и жан т абаки и предали их царю. Когда они отрицались от этих слов, и лика матан вместе с ними, царь повелел отвести их в мадханит 2, а затем им перерезали жилы на ногах и изгнали в Дак, Гуенц, Гуашаро, Дара, Крестос Фатар, а лика матани в Фенге и Амба Санэт и Дабра Маэцо. Из-за этого страх вошел в сердца всех людей и стали говорить между собою: „этот царь еще суровее отца своего". И тогда возгласил глашатай: „отныне все вы, мужи Эфиопские, будьте осторожны и живите по уставам вашим"» [24, с. 89—90].
Так началось расточение старых кадров царской администрации, преданных не столько вотчинным, сколько монархическим интересам, администрации, с таким трудом созданной Зара Яшбом. Упоминание о «многих монахах» среди роптавших и наказанных весьма симптоматично, так как церковники составляли значительную часть этой администрации. То, что они 'были отправлены в ссылку в южные монастыри, заставляет предположить северное происхождение этих «монахов», ибо царь вряд ли стал бы ссылать их в родные обители, где они встретили бы скорее сочувствие и поддержку, нежели осуждение и строгий надзор. Все это недвусмысленно указывает на падение при Баэда Марьяме политического влияния при дворе северного монашества, которым оно было обязано централизаторской политике Зара Якоба.
Однако, как показали дальнейшие события, этот переход от централизаторской политики к доманиальной, столь решительно осуществляемый Базда Марьямом, был задуман в очень неподходящее время. Вдоль побережья Африканского Рога уже началось медленное, но мощное и неотвратимое перемещение кочевых народов, которое неизбежно должно было затронуть не только прибрежные народы и торговые государства, но и высокогорную Эфиопию. Этой опасности Баэда Марьям не разглядел. Он только что принял омаж от правителя Адаля и благодушествовал в своем домене, обстраивая его, учреждая храмы и развлекаясь охотой, «ибо обычай у царей, придя в эту землю, охотиться на зверей» [24, с. 90]. Вторжение кочевников доба, подпираемых с северо-востока сомалийскими племенами, мало обеспокоило Баэда Марьяма. Он не спеша собрал свои полки и отправился в Тигре, по дороге принимая омаж от знати л церковников Ангота.
Военные столкновения на границе, всегда утомительные из-за обычной тактики кочевников нападать внезапно и так же быстро исчезать в пустыне, избегая решительного сражения, были восприняты царем как заурядная неприятность, которой следует противопоставить лишь некоторую настойчивость и личное присутствие. «Царь поклялся пред собранием: „я не уйду из этой страны, не вспахав поля, не посеяв хлеба и не накормив моего коня этим хлебом. Будьте тверды, сражайтесь и не стремитесь уходить в ваши города"» [24, с. 93]. Не смутили его и первые военные неудачи. Когда Баэда Марьяму донесли, что доба уничтожили полк гарада Бали, «царь, услыхав это, на другой день держал речь к своим воинам, и сказал им: „раньше было так на войне, что люди то поражаются, то побеждают; ныне же укрепите сердца ваши и да не войдет страх в мысль вашу, ибо есть бог, который поможет нам во время свое"» [24, с. 93].
Он вызвал из Цельмата полк Жан амора, поселенных на этой границе, но посланных сражаться в Цельмат, и с помощью этих войск, хорошо знакомых с местностью и тактикой своих кочевых соседей, разгромил доба.
Царский дееписатель склонен описывать эту победу в восторженных тонах: «И сотворил бог по слову его. Он повелел, чтобы было вспахано поле, чтобы посеяли хлеб и от этого хлеба накормили коней и мулов своих. И исполнилось слово пророчества его, ибо пророком был царь наш Баэда Марьям и для себя самого» [24, с. 95]. Однако Баэда Марьям оказался плохим пророком: он не только не смог обезопасить на сколько-нибудь длительный срок свои северо-восточные границы, но был не в состоянии надежно замирить тех же доба.
И полвека спустя они представляли все ту же опасность, как свидетельствует об этом Франсишку Алвариш: «От этой дороги, по которой мы путешествовали и которая ведет от моря на юг, живут мавры, называемые доба, потому что их страна называется Доба, и. это не царство. Говорят, что там двадцать четыре волости, и что когда двенадцать из них в мире, остальные всегда в войне. В наше время мы видели их всех в войне, и мы видели двенадцать начальников, которые бывают иногда в мире, при дворе, потому что они подняли мятеж и пришли мириться. Когда они приблизились к шатру Пресвитера Иоанна, каждый из этих начальников нес камень на голове, придерживая его обеими руками. Говорят, что это знак мира и что они пришли просить прощения. Эти начальники были приняты с честью... При заключении мира Пресвитер Иоанн повелел их выслать из их страны, более чем на сотню лиг и приказал начальников и тех людей, которых они привели с собой, поместить в царство Дамот с многочисленной стражей. Как только народ этих начальников узнал, что их господа сосланы, они назначили других начальников и подняли всю страну на войну» [29, с. 108—109].
Эфиопские цари пытались бороться с наступающей опасностью старым испытанным способом: расселяя свои полки по беспокойным окраинам. Однако это была борьба со следствием, а не с причиной. Пограничные кочевники вытеснялись на земли христианского царства не быстрой, но мощной волной миграции других кочевых народов, подпиравших их с тыла [54]. К концу XV в. эта волна еще не достигла Эфиопии, но первые предвестники ее, в виде набегов доба, делали жизнь на границе весьма беспокойной и опасной. Картину такой жизни описал тот же Ф. Алвариш: «Борьба против этих мавров доба — обязанность большого начальника, именуемого шум Жанамора, т. е. начальника той страны. Наместничество, называемое Жанамора,— большая местность со многими людьми и гористая. Говорят, что они хорошие воины, и им приходится быть таковыми и смотреть в оба. На земли и поры, где они живут, приходят мавры жечь дома и церкви и угонять со дворов коров. В этой стране я видел священника с отравленными стрелами; и я возразил ему на том основании, что он поступает так дурно, ибо он священник. Он ответил мне: „Посмотри туда и ты увидишь церковь, сожженную маврами, а неподалеку оттуда они угнали у меня пятьдесят коров и сожгли мои ульи, что служили мне пропитанием; потому я и ношу этот яд, чтобы убить того, кто убил меня". Я не нашелся, что ответить ему в том горе, какое я видел у него на лице и которое уязвляло его сердце» [29, с. 112].
Впрочем, Баэда Марьям остался вполне доволен результатами своего похода. Он впервые оказался за пределами собственного домена, и надо думать, что такое путешествие расширило его кругозор. Во всяком случае «после этого он посоветовался с отцом нашим Матфеем, настоятелем Дабра Даммо, и спросил его как своего духовника, итти ли ему в Аксум для совершения пострижения. Он оказал ему: „хорошо ты замыслил и да исполнит для тебя бог все желание твое". Тогда он послал макуанена Тигре и всех сеюмов и монахов и настоятелей, чтобы ожидать его, придя раньше в Аксум, и приготовить весь чин пострижения. Послал он и много быков для заклания» [24, с. 95].
Не стоит видеть в этом, однако; какого-либо поворота в политике Баэда Марьяма. К самодержавным претензиям своего отца он оставался по-прежнему равнодушным, и достаточно было появиться на границе воинственному наместнику Адаля по имени Ладаэ Эсман, преемнику умершего Мехмада, с которым он некогда заключил договор [24, с. 95], чтобы Баэда Марьям вовсе отменил, по-видимому, не столь уж важную для него коронацию в Аксуме и отправился инспектировать пограничные области, «где произвел счет коням, вооружению и воинской одежде» [24, с. 96]. Зятем он возвратился в свой домен, не помышляя более о помазании в Аксуме.
Если Баэда Марьяма мало волновала великодержавная идея, то свои феодальные права сюзерена он оберегал очень придирчиво. Придя в свой домен и не увидев среди встречающих «монахов Дабра Либаноса, державших от царя свои земли в Шоа, он «спросил там цахафалама Дабра Сиона: „почему не пришли встретить меня монахи Дабра Либаноса? Разве ты не цахафалам Шоа и не их земля Шоа?" Он ответил и сказал: „господин мой, все монахи с отцом нашим Иемерхана Крестосом пошли и прибыли в Дабра Берхан". На другой день, когда царь поднялся с места остановки, прибыли монахи Дабра Либаноса и все дабтара Дабра Берхана по чинам их со многими кадильницами и зонтиками навстречу ему... Тогда он повелел привести немедленно отца нашего Иемерхана Крестоса и тотчас приблизил его к себе. Тот сейчас же упал на землю от великой радости, поклонившись царю» [24, с. 96].
Неизбежным следствием такого сосредоточения царских интересов внутри домена было ухудшение положения на границах. И это естественно. Отказавшись от того административного аппарата чиновников, который был организован его отцом, Баэда Марьям все же не мог управлять своим государством в одиночестве. Он приближал к себе определенных феодалов, как светских, так и церковных, которые составляли его совет и делили с ним тяготы государственного управления. При преобладающих доманиальных интересах Баэда Марьяма местная ограниченность этого царского окружения была неизбежной, и мы видим, что это окружение было не только слабо связано с основной феодальной массой, но и даже в известной степени противостояло ей.
В результате недовольство и брожение стало появляться в воинской среде, в среде тех царских полков, которые несли трудную пограничную службу: «Когда он здесь находился, сообщили ему, что составили заговор в области Бали именуемые Таначе и приближенные Габра Иясуса, гарада Бали, и все цевы, говоря: „уйдем в землю Адаль". Услыхав об этом, царь повелел привести немедленно этих людей, составивших злой совет, и отнюдь не оставлять в их областях» [24, с. 97]. Ослабление связей между центральной властью и пограничными полками, возникновение противоречий между двором я основной массой служилых людей было весьма опасным признаком общего упадка царской власти.
Зара Якоб, столкнувшийся с аналогичной проблемой в свое время, смог разрешить ее, с одной стороны, учредив множество новых полков в противовес мятежным, создав собственный разветвленный административный аппарат, одержав впечатляющую победу над воинственным Адалем и поставив церковь как организацию на службу царской власти. Базда Марьям же не смог даже добиться безусловной верности воинов и военачальников, расселенных по окраинам царства, и последствия этой его слабости оказались весьма тяжелыми для эфиопской монархии.
Недовольство зрело не только в войсках, но и при дворе среди остатков той администрации, которая была создана в свое время Зара Якобом: «После этого лика мацани, по имени Яклэ, стал пред царя и сказал: „у меня, господин мой, есть речь, которой никто да не слушает, кроме тебя в твоем шатре, ибо она весьма важна". Этого лика мацани тотчас позвали и ввели к царю, удалив для него всех людей. И повелел ему царь рассказать все, что он находил нужным сказать. И рассказав царю все, что он хотел, он вышел от царя тотчас. На другой день повелел царь собрать всех жан масаров, и когда их вводили в палисад рано утром, их задерживали по одному и удавливали; трепетали и дрожали и они и видевшие ил. Когда он их допрашивал по этому делу каждого в отдельности и говорил: „зачем вы враждебны моему царству и хотите делать злое против меня?", они отрицали это. Их удавливали в этот день с утра до девятого часа. Затем привели лика мацани и сказал ему царь: „почему ты возводишь на этих людей твое обвинение, которое ты представил против них?". Он сказал: „я пойду в мадханит", они сказали тоже. Царь, услыхав это, сказал: „поклянись Сионом, церковью, что они творили зло против меня, и вы поклянитесь, что не делали мне никакого зла". И все ответили: „да, мы клянемся", и поклялся и он, и они» [24, с. 99]. Так Баэда Марьям продолжал разгром централизованного административного аппарата, доставшегося ему в наследство. В то же время насаждаемая им старинная организация приближенных «воевод кормленых» без надлежащего надзора рак-масаров была чревата центробежными движениями и опасностью отпадения дальних провинций, что скоро и обнаружилось: «Габра Вахеда, цасаргуэ, привел Махари Крестос из Дамота связанным по повелению царя и доставил его ко двору. И царь сказал ему: „зачем ты делал злое против меня и был весьма горд? Ведь грех твой рассказал Габра Берхан". Он отрицал и говорил: „я не творил превозношения и злого против тебя, господин мой". Их свели на суде, поставив обоих на судилище, причем царь слушал обвинения со стороны Габра Берхана, что он недостойным образом обращался с тем, что свойственно царству, что он сделал себе постель из шелковых одежд, что когда он садился на коня, делал это, как при дворе и на нем была ткань фотат. Когда он был признан виновным во всем этом, вырвали волосы его головы и повелел царь положить на одежду его жир, зажечь огонь, привязать его к его одеждам, напитанным жиром, и сжечь обернутого в одежде, повесив вниз головой 3. Но когда все судьи просили царя помиловать его от этого сожжения, его отдали гера-бацреваджатам, чтобы они заковали его десятью цепями» [24, с. 99—100]. Влияние центробежных движений чувствовалось не только внутри христианского царства. Видя ослабление контроля со стороны центральной власти, восстал Адаль, всегда бывший то ненадежным вассалом, то грозным противником эфиопских царей. Баэда Марьям назначил в Адаль наместником своего доверенного человека Габра Иясуса, «ибо он был бехт вададом и гарадом Бали». Однако, «когда он прибыл в город этих мусульман, нашел их готовыми выступить в страну нашу — всех сеюмов Адаля вместе» [24, с. 100]. Попытка восстания довольно быстро была подавлена, и Базда Марьям решил отпраздновать эту довольно незначительную победу столь же широко, как в свое время Зара Якоб отпраздновал победу над скотом Бадлаем»: «Посему возблагодарил бога царь наш Базда Марьям и сообщил это радостное известие акабэ-саату Амха Сиону. Тот, услыхав, обрадовался и возблагодарил бога. На другой день это радостное известие было сообщено через глашатая всему войску, и был весьма большой шум от плясок и пения. И повелел царь наш установить моления» [24, с. 100].
«Установление молений», подобное ежемесячному празднику дня победы над Бадлаем, а также участие в этом акабе-саата Амха Сиона очень напоминает методы Зара Якоба и вызывает подозрение: не по инициативе ли Амха Сиона было затеено церковное действо? Впрочем, церковным оно было только по форме, а цели имело вполне светские — поднять пошатнувшийся престиж царской власти, и прежде всего в воинской среде. Видимо, чувствуя непрочность своей власти и постоянно сталкиваясь то с заговорами, то с попыткой мятежа, Баэда Марьям счел за благо вернуться к помпе и строгому придворному церемониалу, введенному Зара Якобом.
Однако у Зара Якоба разработанный им этикет был зримым проявлением его действительно самодержавной власти. За реальным осуществлением этой власти бдительно следил целый аппарат царских чиновников не только при дворе, но и в отдаленных областях. У Баэда Марьяма же, не имевшего прочной опоры ни при дворе, ни в войске, аналогичные действия выглядели слабыми потугами. Недаром «все судьи» отговаривали царя от помпезной казни сожжения заживо. Говоря о разнице между положением отца и сына в сугубо придворном кругу, можно заметить, что, если Зара Якоб был'окружен слугами, та Базда Марьям — достаточно самостоятельными вассалами, которые, в отличие от слуг, не только высказывали свое мнение, но и считали себя вправе на нем настаивать.
К тому же победа Зара Якоба «ад мусульманами Адаля была весьма решительной, надолго замирившей это беспокойное государство. Что же до радости Баэда Марьяма по поводу победы Габра Иясуса в Адале, то она оказалась преждевременной. Его репрессии только сплотили мусульман, а большая карательная экспедиция, посланная под водительством того же Габра Иясуса и Махари Крестоса (старого доверенного слуги Баэда Марьяма, претерпевшего в свое время еще от грозного Зара Якоба), закончилась полным уничтожением христианских войск. Гибель христиан оставалась неотмщенной, поскольку царь не имел силы покарать Адаль и ограничился тем, что «повелел раздать святым, как и прежде... милостыню, исповедаясь пред господом богом своим, молясь о спасении душ людей своих, которые были побеждены. После этого он никуда не ходил, кроме Ваджа» [24, с. 106].
Именно
в это время (
Так как Зара Якоб не стал выписывать из Египта новых митрополитов на место скончавшихся Михаила и Гавриила, то в царствование Баэда Марьяма в стране стала остро ощущаться нехватка священников, рукополагать которых мог только митрополит. Необходимость в митрополите не подлежала сомнению. Вопрос, по которому разошлись во взглядах монахи северной и южной коигрегаций, заключался в том, призывать ли митрополита, как и прежде, из Египта или порвать с александрийским патриархатом и избрать митрополита из среды эфиопских церковников. За коптского митрополита стояли дабралибанооцы во главе с Марха Крестосом, за избрание же митрополита-эфиопа — евстафиане 4.
Политическая подоплека этого внутрицерковного спора достаточно ясна: самодержавная власть, разумеется, была заинтересована иметь на митрополичьем престоле эфиопа, ибо в таком случае дарь мог оказывать свое могущественное влияние на выбор «князя церкви, который к тому же оставался бы его подданным. Именно так и поступил Зара Якоб, отказавшись от связей с Александрией и возвысив акабе-саата до положения первого сановника государства. Евстафианокие монастыри, получившие благодаря царскому вмешательству не только официальное признание и богатые земельные пожалования, но и доступ ко двору и участие в политической и государственной деятельности, сочувствовали такой самодержавной точке зрения. Дабралибаносцы же, немало перенесшие от могучих эфиопских царей (жертвой которых пали Гонорий Цегаджский при Амда Сионе, Филипп Дабра-Либаносокий при Амда Сионе и Сайфа Араде и Андрей, предшественник Марха Крестоса при Зара Якобе), не имели причин желать усиления царской власти. Их нынешнее привилегированное положение доманиальной конгрегации, получившей «в удел» от Баэда Марьяма все возводимые в обширном домене храмы и монастыри, вполне устраивало дабралибаносцев, не желавших перемен [24, с. 90].
В
этой обстановке евстафиане подняли
вопрос о митрополите и «сказали: „Мы
слышали, что в Египте изменили
своей вере. Они едят запрещенное
законом. Ныне же давайте назначим
митрополита как сказано: да будет
назначен избранный народом"» (цит.
по [78, с. 246]). Трудно предположить, на
что они рассчитывали: идея
самодержавия никогда не была в
почете при дворе Баэда Марьяма, да и
влияние самих евстафиан сильно
мало после нескольких чисток
царской администрации. Возможно,
они надеялись, что после жестокого
поражения в Адале царь откажется
от своей прежней политики и примет
их точку зрения. Решительным
противником предлагаемого
евстафианами новшества выступил
Марха Крестос, настоятель Дабра-Либаноссний,
сославшийся на гнев божий,
постигший Эфиопию в IX в., когда во
времена патриарха Иосифа (830—849)
эфиопская церковь отказалась от
коптского митрополита. По этому
вопросу в
Однако Баэда Марьям не принял мнения большинства. Еще до собора рас Амда Микаэль, один из видных военачальников и придворных, бывший наместникам пограничного Фатагара еще со времен Зара Якоба, устроил Марха Крестосу аудиенцию у царя, где они вдвоем убедили Баэда Марьяма не порывать с александрийским патриархатом. Таким образом, еще до начала собора решение было принято. Поэтому, когда на соборе Марха Крестос сказал: «Пусть царь пошлет мудрых мужей, на чье слово можно положиться, узнать для нас. Если египтяне пребывают в вере православной, пусть они приведут нам митрололита по обычаю отцов наших. А коли не так, будем молиться богу и просить наставить нас в том, что делать», его предложение было принято царем. Баэда Марьям отправил в Египет сына Амда Микаэля с богатыми подарками для гроба господня в Иерусалиме, александрийского патриарха и султана Египта [48, с. 433].
Собор
Последним оно оказалось потому, что 8 ноября следующего года Баэда Марьям умер. Официальный хронист рисует идиллически спокойную картину наследования престола: «После него воцарился сын его Александр, как повелел он и сказал пред преставлением: „да воцарят после меня Александра, сына моего, ибо к нему благоволит господь бог мой". Это передавали слышавшие. И был Александр царем нашим благим, чистым и: кротким, ибо он был отрок и юн годами» [24, с. 106]. Однако монастырская традиция летописания сообщает о том, как придворная оппозиция попыталась, хотя и без успеха, воспользоваться смертью Баэда Марьяма для низложения могущественного Амда Микаэля и воцарения другого царя, нежели Александр: «И царствовал Баэда Марьям десять лет и два месяца. И пошел в поход Александр, сын его, с Амдо, начальником войска; и еще не вернулся он (из похода), когда упокоился Баэда Марьям. И воцарили люди двора Наода, сына его младшего. И когда вернулся Амдо, то воцарил он Александра, старшего брата. И царствовал он десять лет и семь месяцев» [79, с. 526]., Видимо, Баэда Марьям не полагался на собственный двор, где слишком, многие не одобряли его политики, и потому вверил Александра попечению Амда Миказля. Александр «был отрок и юн годами», и его участие в походе вместе с многоопытным «Амдо, начальником войска», было вызвано, очевидно, стремлением уберечь сына от козней придворных. Страх за своего старшего сына преследовал Баэда Марьяма чуть не с рождения Александра. Еще в младенчестве Александра Баэда Марьям отдал его на воспитание годжамскому нагашу Анбаса Давиту: «Сюда он велел годжамскому нагашу Анбаса Давиту принести свою подать. Когда тот, согласно повелению, принес много вещей своего царства, царь наш поблагодарил его весьма и дал ему своего сына Александра, да будет ему сыном, а он да будет ему отцом. Ол положил на его грудь этого младенца Александра. Тогда он весьма был рад этому и передал ребенку много даров — коней, мулов, золота, бумаги и оказал: „я дам ему всякое добро, ему потребное, по чину, но дай мне землю за него, на которой я помещу для него быков и волов". И сказал царь наш: „хорошо"» [24, с. 98].
Это произошло вскоре после того, как цевы Бали, несшие пограничную службу, составили заговор и решили уйти в Адаль, за что и были сосланы в Годжам в сопровождении войск годжамского нагаша. По-видимому, уже тогда Баэда Марьям начал искать опору своей слабеющей власти, среди верных военачальников, несущих службу в провинции, вдали от интриг недовольного двора. Однако вскоре «появилась злокачественная лихорадка и умертвила этого годжамского нагаша Анбаса Давита» [24, с. 98], и тогда царь обратился к Амда Микаэлю.
Таким образом, царствование Баэда Марьяма, начавшееся радостью из-за отмены строгостей Зара Якоба, закончилось всеобщим недовольством, настолько серьезным, что царь не без оснований опасался за судьбу наследника престола. Многочисленные попытки как со стороны двора, так и со стороны церкви побудить царя продолжить самодержавную политику Зара Якоба успеха не имели. Усвоив некоторые методы своего отца, Баэда Марьям поставил перед собою совершенно иные цели и последовательно придерживался феодальных принципов правления. Однако результаты политики Баэда Марьяма оказались в основном отрицательными. Приведенный некогда к покорности Адаль добился практической независимости, разгромив несколько раз с большим уроном для христиан карательные экспедиции. Наместники в провинциях, наделенные большой властью и старинными титулами, оказывались ненадежны и осмеливались при своих дворах усваивать царские прерогативы. Волновались царские полки, расселенные по окраинам. Разгон и частичное уничтожение тех кадров чиновничьего аппарата, который был создан Зара Якобом, также, не утишил придворных интриг и недовольства. Выдвижение Амда Микаэля породило зависть, равно как и привилегированное положение Дабра-Либанос-ской конгрегации. И двор и церковь утратили то свое прежнее единство, которое упорно и последовательно сколачивал Зара Якоб и которое делало их надежными орудиями самодержавной власти. При дворе шла ожесточенная борьба группировок, образовавшихся под влиянием интереса минуты вокруг различных влиятельных фигур. Что до церкви, то межконгрегационная ревность и соперничество, казалось бы, уничтоженные Зара Якобам, вспыхнули при Баэда Марьяме с новой силой, когда евстафиане были отстранены от государственных дел, а Марха Крестос, настоятель Дабра-Либаносский, сделался ближайшим доверенным лицом царя.
Последствия политики Баэда Марьяма надолго пережили самого царя и составили трудное наследство для его преемников. Несмотря на искреннее желание деепйсателя Александра изобразить его царствование как тишь, гладь и божью благодать, действительные события портят это впечатление: «И был во дни царя нашего Александра покой в радости и веселии. Были в согласии мать царя Ромяа с акабэ-саатом Тасфа Гиор-гисом и бехтвададом Амду; не было разногласия между ними тремя ни в совещаниях, ни в распоряжениях. Царь же не знал установлений Эфиопии и дел всех людей Эфиопских, ибо был весьма юн возрастом. Чрез некоторое время началась вражда аввы Хасабо, аввы Амду и уверенными в его правоте, с бехтвададом Амду, когда увидали, что он один управляет всей Эфиопией. Посему были схвачены все враждебные ему; их пытали многими истязаниями, а затем связали и сослали. Одни из них умерли в пути, другие остались в живых» [24> с. 106—107].
В какой-то степени положение Александра при восшествии его на престол было сходно с положением его отца в начале царствования: оба они были весьма молоды (хотя Александр значительно моложе), а главное — несамостоятельны и зависимы от воцаривших их группировок. Баэда Марьям взошел на престол благодаря активной поддержке влиятельного тогда акабе-саата Амха Сиона, а Александра возвел «начальник войска» Амда Микаэль, сломив сопротивление придворной оппозиции. Сходной оказалась и политика Александра, а вернее, политика той группировки во главе с Амда Микаэлем, которая сделала его царем. Эта была та же доманиальная политика с коронацией не в Аксуме, а в своем домене и с укреплением связей с Дабра Либаносом: «После этого царь наш, перейдя в землю Ялабаса, место отца своего, совершил обряд пострижения и исполнил обычай древних отцов своих... Перейдя затем в Шоа, царь наш прибыл в Амхару, обошел все монастыри и посетил Ганата Гиоргис, Дабра Нагуадгуад и Атронса Марьям... Он закончил построение этой церкви, именуемой Атронса Марьям; этот царь наш Александр окончил то, что оставил начатым отец его Баэда Марьям» [24, с. 107].
И
во взаимоотношениях с церковью мы
видим то же продолжение политики
Баэда Марьяма и Марха Крестоеа. В
В отношении субботствования евстафиан спасло то обстоятельство, что этот обычай уже прочно укоренился и в народе и в духовенстве, не склонном легко расставаться со своими благочестивыми привычками. К тому же субботствование имело авторитетное обоснование в многочисленных богословских трактатах времен Зара Якоба. Франсишку Алвариш, беседовавший с митрополитом Маркам спустя почти полвека после его прибытия в Эфиопию, так описывает с его слов этот конфликт: «Тот Пресвитер, который послал за нами, был весьма христианским, и. вскоре после их прибытия Пресвитер Иоанн повелел указом, чтобы не праздновать суббот и чтобы они не совершали иных ошибочных церемоний, к которым они привыкли, и чтобы не ели свиного мяса и мяса других животных, которым не перерезано горло. Когда это стали делать при дворе и в окрестностях, не так давно, прибыли в страну двое франков, которые и посейчас живут в ней, т. е. один — Маркорео-венецианец 5, а после него Перу де Ковильян — португалец 6; они, когда прибыли, до появления при дворе, то стали соблюдать эти обычаи страны, которых до сих пор придерживаются в некоторых частях, т. е. праздновать субботы и есть, как люди той страны. Некоторые священники и монахи, которые думают, что знают кое-что из Библии, видя, это, пришли к Пресвитеру и жаловались на двух митрополитов, а больше на викария, и говорили: „Как же так? Эти франки, которые пришли каждый из'своего царства, соблюдают наши древние обычаи, я как же митрополит, который пришел из Александрии, велит делать то, что не написано в книгах?". И потому Пресвитер повелел возвратиться к прежним обычаям» [29, с, 253—254].
Тем
не менее, хотя Александр и
возвратил субботствование, он
следовал политике Баэда Марьяма, а
не Зара Якоба и по отношению к
евстафианам и по отношению к внешнему
миру. Здесь он, как и Баэда Марьям,
был изоляционистом. Его не
интересовало ни красноморское
побережье, ни контакты с европейцами.
Если Зара Якоб через Пьетро Ромбуло
всячески стремился завязать связи
с европейскими монархами и даже с
Ватиканом, то его внук Александр
остался совершенно равнодушен к
францисканскому монаху Иоанну
Калабрийскому, посланному своим
орденом в Эфиопию вместе с Джованки
да Имоло. Они прибыли ко двору
Александра, по-видимому, в
Как и Баэда Марьям, Александр пытался возродить старинные феодальные традиции, когда во главе государства стоял царь-воин, сильный своим войском. Не удивительно, что результаты такой архаичной политики мало чем отличались от достигнутого Баэда Марьямам: «Сей царь наш Александр был полон силы и искусен в бою; он знал все военное дело, езду на коне, стрельбу из лука, умел владеть щитом и копьем, но был он и милостив, сострадателен и милосерд, любил доброе и ненавидел месть. Но воины его губили весь свет, удручали бедных и их не наказывали. Посему прогневался бог. Во второй год собрал царь всех своих воинов и опустился в землю Адаль, хотя говорили ему многие святые: „не ходи в землю Адаль, царь наш, не будет тебе пользы". Но он не послушался их, пошел и достиг Дакара. Разорили весь дом его и весь строй его. Когда он возвращался, мусульмане преследовали его, в небольшом количестве; когда он начал битву, все воины его обратились в бегство; одни погибли, другие убежали, иные попали в плен. Царя же покрыл бог крыльями своих ангелов и вернул в мире в его дворец. После этого он пребывал, скорбя и печалясь, и помышлял снова итти против врагов своих. Но не было ему по желанию» [24, с. 107].
Сложилась парадоксальная ситуация: Баэда Марьям, не ценя административных усилий Зара Якоба, свое главное внимание сосредоточил на домене и войске, этих двух источниках могущества ранних «соломонидов». Он «постоянно стремился быть на коне» и сурово наказывал осуждавших его за это. Его примеру следовал и Александр. Однако при таком преувеличенном внимании к войску и военачальникам военная мощь христианского царства падала. И этот упадок, начавшийся в царствование Баэда Марьяма, стал совершенно очевиден при Александре. К сожалению, большая часть «Хроники» Александра (от 3-го до 15-го года его царствования) пока не найдена.
О правлении его приходится судить по результатам, которые оказались весьма плачевными для царской власти. Александр царствовал 15 с половиной лет. Хотя он был возведен на престол воинами Амда Микаэля весьма юным и не мог вести самостоятельной политики в начале своего царствования, 15 лет — достаточный срок для укрепления личной власти.
Этого, однако, не случилось, и причину следует, видимо, искать не только в личных качествах Александра. За то столетие, которое прошло с конца XIV в., процесс феодализации в Эфиопии значительно продвинулся вперед. Это выразилось не только в окончательном сложении и административном оформлении царского домена, но и в появлении крупных феодальных сеньорий, не только церковных, но и светских. Дани, взимавшиеся с земледельческого населения, по большей части стали уступать место феодальной ренте. Такая хозяйственная самостоятельность крупных феодалов не могла не повлечь за собою и определенную политическую самостоятельность по отношению к царю (далекую, впрочем, от полной независимости), которая выразилась в появлении иммунитета.
Этот иммунитет следует понимать не только в его узком смысле, т. е. в смысле наличия иммунитетных грамот, или дипломов, которые были известны в Эфиопии применительно к церковному землевладению. Как справедливо отметил С.В.Юшков, «иммунитет оформляет и вместе с тем обеспечивает феодальную эксплуатацию крупными землевладельцами подвластного ему сельского населения. Возникновение иммунитета есть следствие (юридическое выражение) феодальной ренты. Час рождения феодальной ренты есть час и зарождения иммунитета... Поэтому история возникновения и первоначального развития иммунитета есть история постепенного приобретения и роста прав крупных землевладельцев над зависимым и крепостным крестьянством в смысле суда и дани. Иммунитет не сразу появляется в качестве законченного института, так же как не сразу возникает и оформляется феодальная рента» [28, с. 231—233].
Однако иммунитет вел не только к росту прав крупных землевладельцев внутри их сеньорий. Благодаря увеличению феодальной ренты крупные феодалы могли содержать не только свой собственный двор, устроенный по образцу царского, но и собственное воинство, иногда значительное. Не случайно, что при царском дворе в борьбе группировок соперничающих вельмож власть окончательно перешла от церковников к военачальникам, бывшим одновременно и крупными феодалами, которые старались добиваться своего уже не политической интригой, а военной силой.
После
неожиданной гибели Александра в
Таким образом, и к концу своего царствования Александру не удалось создать крепко спаянного и стоящего заодно административного и военного аппарата. Его военачальник Заселус бросает тело своего господина и спешит воцарить не его сына, Амда Сиона II, а Наода, его брата и соперника. Амда Сион II через семь месяцев умер, и на престол, на этот раз окончательно, взошел Наод. История смерти Александра и борьба за царство писалась, видимо, уже в правление Наода, отчего хронист тщательно избегает называть имена в своем повествовании. Так, совершенно не упомянут сам Наод: Заселус «сделал царем, кого хотел», а его противники «начали войну с Заселусом и тем, кого он поставил царем». И Заселус и его противник Такла Крестос сражаются, поддерживаемые безымянными «своими». Поэтому трудно определить состав противоборствовавших партий. Победа над Заселусом была одержана также безымянными «воинами Александра».
Согласно другому памятнику эфиопской историографии (однако историографии не официальной, а монастырской), во главе воинов стоял знакомый нам Амда Микаэль: «И когда умер Александр, то снова воцарили Наода люди двора, когда не было (там) раса Амдо. И пришел рас Амдо, и сверг Наода, и воцарил Амда Сиона, сына Александра, когда был тот младенцем. Поцарствовал он семь месяцев, и умер. И царствовал Наод шестнадцать лет. И на третий раз окрепло царство его. И отомстил Наод этому мятежнику, и закопал его живым в землю по грудь, и погнал на него коров и быков, коней и мулов, верблюдов и ослов, и они затоптали его» [79, с. 526].
Трудно сказать с уверенностью, насколько надежно это свидетельство в том отношении, что Наод казнил именно знаменитого Амда Михаэля. Ему противоречит отрывок из довольно поздней компиляции «Истории царей», опубликованной Сергеу Хабле Селласе, в котором казнь Амда Микаэля приписана царю Александру и причиной ее выставляется навет церковников: «И когда услышал царь эти два обвинения ложные, разгневался он и наполнился гнева, и не понял, что это ложь. И приказал он убить раса Амду, и тот стал мучеником, и сошел на него столп света и венец. И когда увидел царь это чудо, то раскаялся, и заплакал, и пошел в Дабра Либаное к настоятелю Марха Крестосу, и принял его эпитимию за то, что согрешил против раса Амду, и похоронил его с честью, и причислил к святым, и погреб с честью великой в новой гробнице Дабра Либаноса» [74, с. 547—548].
Марха
Крестос действительно не забыл той
поддержки, которую оказал ему на
соборе
Таддесе
Тамрат, проанализировав ряд
косвенных агиологических
свидетельств и сделав некоторые
хронологические выкладки, также
полагает, что казнь Амда Микаэля
была делом рук Александра, и
приурочивает ее к
Однако кому бы мы ни приписали роль могущественного противника Заселуса, вторично низложившего Наода и воца-рившего Амда Сиона II,— Амда Микаэлю или Такла Крестосу, общая картина засилья военачальников и слабости царской власти в Эфиопии конца XV в. от этого не меняется. Взаимное ожесточение в этих усобицах достигло крайнего предела. Официальный дееписатель Александра закончил историю царя и его сына Амда Сиона мстительной мольбой, совершенно нехарактерной для ровного тона эфиопской историографии и, пожалуй, даже и не вполне христианской по духу: «Боже, молюсь тебе, взирая горе: введи в дом твой помазанника твоего Александра имеете с сыном его Амда Сионом и дай ему пребывать одесную тебя. Утесни всех утеснивших его. Аминь» [24, с. 109].
В противоположность царской историографии монастырская традиция сообщает о смерти. Амда Сиона II с нескрываемым, облегчением. В «Житии» Марха Крестоса оно прорывается во фразе: «Через шесть месяцев жертва святого причастия вознеслась в небо, и умер царь Амда Сион» (цит. по [78. с. 293, примеч. 2]). Эта фраза была бы двусмысленна, если бы Амда Сиона успели помазать на царство. В таком случае можно было бы понять, что помазание, дарованное дарю от бога, со смертью его вознеслось обратно на небеса. Однако Амда Сион не был помазан, и упоминание о его смерти воспринимается как повествование об исполнении многих предыдущих молений по этому поводу. В подобных мольбах сомневаться не приходится, поскольку на предшествующей странице «Жития» царствование Амда Сиона описывается следующим образом: «И после сего умер Александр, царь православный, и погребен был рядом с отцом своим. И воцарился Амда Сион, сын его, и был он младенцем. И потому было пролитие крови многое и сражение меж всем войском царским, и некому было остановить их. И плач стоял в каждой области. Утварь, священная из церквей расхищалась, и пожирали друг друга князья эфиопские, как рыбы морские, и уподобились они зверью рыскающему» (цит. по [79, с. 529]).
Весьма
показательна эволюция отношения
дабралибаносцев к царской власти.
Трудно сказать, насколько агиограф
Марха Крестоса сознавал, что
описываемое им плачевное состояние
эфиопского государства явилось
прямым результатом той
ограниченной доманиальной
политики, которую всячески
поддерживал, а отчасти и направлял
герой его повествования. Вероятно,
такая мысль и в голову ему не
приходила. Тем не менее это было так.
Тесная дружба между Баэда Марьямом
и Марха Крестосом восходит еще к
Вполне приязненные отношения сохранялись у Марха Крестоса и с Александром, мать которого, Ромна, бывшая одно время регентшей его царства, перед смертью приняла постриг и удалилась в один из привилегированных келлиотских монастырьков близ Дабра Либаноса [78, с. 286]. Разумеется, казнь Амда Микаэля, которого «Житие» Марха Крестоса называет его «духовным сыном» (цит. по [78, с. 289]), должна была несколько омрачить эти отношения. Однако с раскаянием царя: они были, по-видимому, восстановлены. В результате горестные строки из «Жития» Марха Крестоса о князьях эфиопских, которые «пожирали друг друга, как рыбы морские, и уподобились зверью рыскающему», были написаны рядом с той самой «новой гробницей», где покоилось тело недавно канонизированного святого и мученика Амда Микаэля, первым подавшего царским военачальникам соблазнительный пример своевластия. Вся последующая кровопролитная борьба между такими военачальниками, как Заселус и Такла Крестос, была вызвана их стремлением занять при бессильном и несамостоятельном царе то положение могущественного временщика, которое в свое время занимал Амда Микаэль при малолетнем Александре. Эта борьба расшатывала эфиопское государство и увеличивала опасность со стороны мусульман Адаля, со времен Бадлая забывших о поражениях.
По
иронии судьбы «святой» Амда
Микаэль остался в эфиопской
средневековой историографии как
единственный человек, который был
способен дать отпор мусульманам и
чья гибель явилась для
христианской Эфиопии непоправимым
несчастьем: «И был один наместник,
по имени Амда Микаэль. Он занимал
эту должность от Зара Якоба до
Александра без смещения. И был он
праведен, богобоязнен и мудр. И
ненавидел он мусульман за веру их,
и знал обычай их суетный, и они
много ненавидели его ...И когда
услышали о смерти раса Амду амалики-тяне,
которые были на судилище, то
возрадовались они радостью
великбй и захватили в Вагаре и
Фатагаре людей и имение их и
продали их продажею» [74, с. 547—548].
Эта память об Амда Микаэле как
надежном защитнике от мусульман
оказалась столь сильна, что в
Тем
не менее к
Не удивительно, что в этих обстоятельствах новый царь обратился за помощью к церкви. В конце концов только сильная царская власть могла обеспечить церкви процветание и защиту от бесчинств и разбоя феодалов. И Наод прямо потребовал от церкви поддержки, выступив перед собранием монахов в Дабра Либаносе: «Молитесь горячо, дабы не погибла Эфиопия. Ведомо вам прежнее царствование и как разрушилось государство. (Молитесь же) дабы возвратились заблудшие овцы к единому пастырю» (цит. по [78, с. 293—294]). Таддесе Тамрат понял эту речь как призыв к дабралибаносцам употребить свое влияние против иных претендентов на престол, боровшихся против Наода. В этом, конечно, новый царь весьма нуждался. Однако призыв ко всем «овцам заблудшим» возвратиться под власть «единого пастыря» можно понять и шире — как призыв покончить с феодальной анархией и восстановить сильную царскую власть. Во всяком случае, дальнейшие действия Наода говорят в пользу последнего вывода.
Новый царь решительно и энергично принялся за борьбу с анархией, доставшейся ему в наследство. Прежде всего нужно было положить конец бесконечным сведениям счетов, которых накопилось немало со времени смерти Александра и которые раздирали и войско и двор. «После этого, когда люди были в смятении и обвиняли друг друга, говоря: „такой-то совершил то-то во дни царя нашего Александра", и от этого умножились преступления, повелел царь указом: „не говорите: ты совершил грех во дни царя вашего Амда Сиона. Кто так скажет ближнему, смертью умрет". Услыхав этот указ, все обрадовались и удивились его мудрости и разуму, и сказали: „воистину те, кто не утеснял и не совершал преступлений, учинил больше смут, чем было в это время; то, что повелел царь, хорошо". После этого он повелел приговором не лишать наследства неправедно утешенных» [24, с. 110].
Укрепившись на престоле и расправившись с такими своими противниками, как Такла Крестос, Наод сделал символический жест, который должен был показать новое направление царской политики: «Далее, самое великое из всего этого — совершил бог для него чудо и знамение: в третий год его царствования переносили тело царя нашего Зара Якоба в 30-м году после его смерти и внесли на остров Дага, где упокоилось тело его во гробе под деревом, именуемом „Упокоение праведных". Послышался голос от костей тела его: „сей покой мой во век"» [24, с. 110].
Казалось, все вернулось на круги своя. Кончилось время правления малолетних царей и всесильных регентов. На престол взошел Наод, зрелый человек, на собственном горьком опыте познавший превратности придворной жизни и горечь заточения на Амба-Гешен, что в свое время пережил и Зара Якоб. Сравнение этих двух царей напрашивается невольно. Период жестоких усобиц, предшествовавший окончательному воцарению Наода, можно было бы сравнить с правлением малолетних детей Хэзбе Наня, когда «воцарили рабы злые... Бадл Наня-младенца, желая править сами» [79, с. 512]. С воцарением Наода, так же как и с воцарением Зара Якоба, «злые рабы» были наказаны за «гордыню помышления их», и царь решил следовать самодержавной политике Зара Якоба, ибо «было явлено величие и высота его и пребывает до ныне», как сказано об этом царе в «Хронике» Наода.
Похоже,
что Наод и в быту желал подражать
своему знаменитому деду, вплоть до
его литературных увлечений. Как
сообщает один из эфиопских
летописных сводов, «государь Наод
занимался гимнами и молитвами и
составлял духовные стихи и
песнопения. В это время спустился
царь в Дабра Либанос вместе с
митрополитом аввой Марком и вынул
кости отца нашего Такла Хайманота и
поместил в золотую раку. В этот день
он устроил праздник великий со
службой и пением и сам пел вместе с
певчими. И пел он песнопения
собственные пред этой ракою, как
пел Давид пред ковчегом завета» [74,
с. 551].
Однако, как это видно из специального исследования Б. А. Тураева, литературной деятельностью Наод мог спокойно заниматься лишь в самом начале своего царствования. Внешнеполитическое положение Эфиопии оказалось слишком неспокойным, чтобы царь имел досуг для литературных занятий.
В одном из своих сочинений Наод прямо высказывает свою тревогу, обращаясь к богородице:
«Как
ты явилась явно на Дабра Метмак,
Явись
днесь, Марие, по обычаю призрения —
Говорю
тебе в восхвалении, раб твой Наод.
Тебе
подобает, Владычице моя, поклонение
в красоте служения.
Милость
твоя на мне да усугубится!
Молись
днесь, Мати Единородного,
Да
не постигнет стада моего
смертоносная язва»
[21,
с. 19].
Выход из создавшегося положения Наод видел в возвращении к политике Зара Якоба. Этому решению, однако, не суждено было осуществиться по причинам, от царя не зависящим. За те 60 лет, которые разделяют начала царствований Зара Якоба и Наода, слишком много перемен произошло и в Эфиопии и в окружающем мире, а самое главное, слишком изменилось место и значение Эфиопии в этом мире, чтобы внук мог повторить своего деда.
2.
Внешние и внутренние предпосылки
катастрофы
Во второй половине XIV в. в далекой Азии произошло событие, последствия которого спустя полтора столетия самым серьезным образом затронули судьбы христианского царства в Эфиопии: Тамерлан перерезал великий «шелковый путь» между Востоком и Западом. Невозможность сухопутной торговли резко увеличила значение и объем торговли морской с ее новыми путями и портами. Как писал Дж. Брюс, «Ормуз, островок, расположенный в Персидском заливе, превратился в перевалочный пункт торговли пряностями в то время, как эта торговля стала весьма затруднительной в Средиземноморье. Вся Азия получала через Ормуз товары Индии, и суда пересекали Баб-эль-Мандебский пролив, возродив древний путь Мекки, где встречались караваны из всех частей Африки. В это время Мекка уже не была покинутой; туда беспрерывно шли купцы, пересекавшие материк во всех направлениях» [38, с. 141 — 142]. Так, в новых условиях возродился древний торговый путь вдоль Красного моря, пребывавший в упадке с аксумских времен. Египет, контролировавший сухопутный путь между бассейнами Красного и Средиземного, морей, воспользовался преимуществами своего положения и стал даже злоупотреблять ими, перепродавая европейцам пряности буквально втридорога.
Эти
экономические изменения не
замедлили вызвать и изменения
политические. Венецианцы,
раздраженные египетскими поборами,
порвали отношения с мамлюкскими
султанами. Их примеру последовал и
король Кастилии и Арагона, давний
соперник Венецианской республики.
Положение христианских купцов в
Средиземном море еще более
ухудшилось в
Европейский
интерес к «царству Пресвитера
Иоанна» в XV в. был весьма велик. В
Тем
временем в Европе не прекращались
поиски путей в Индию. Особенно
активными в этом деле оказались
португальцы, на что были свои
причины. К XV в. европейская
экспансия на Восток, принявшая
форму крестовых походов,
остановилась, натолкнувшись на
мощное мусульманское
сопротивление. Для наиболее
развитых стран. Западной Европы
наступила эпоха разложения
феодализма и развития буржуазных
отношений внутри каждой страны. На
смену внешней экспансии пришло
внутреннее развитие. В этом
отношении, однако, Португалия
явилась исключением. Как пишет О. С.
Томановская, «к началу XV в.
социально-экономические условия в
Португалии напоминали те, которые в
свое время в Центральной Европе породили
первые крестовые походы на Восток.
Португалия в тот период была
малонаселенной страной со слабо
развитыми ремеслами и небогатой
торговлей. Португальские товары
ценились невысоко на иноземных
рынках и потому, несмотря на довольно
значительный флот и развитое
мореходство, не могли принести
Португалии экономического
процветания, как она принесла
его, скажем, итальянским
республикам... Бедственное положение
страны требовало какого-то выхода.
Таким выходом, пусть даже временным,
мог стать крестовый поход. Вот
почему, когда в
Этим португальским крестовым походам (как и всем предыдущим) не суждено было увенчаться тем успехом, на который надеялись их благочестивые устроители. Они не смогли уничтожить ислам и «ценой трудов своих и затрат привести эти души на истинный путь, помня, что нельзя принести Господу большего дара» (слова Гомиша Занивда Зурары, автора «Хроники открытий и завоеваний Гвинеи») (цит. по [17, с. 76]). Однако такие крестовые походы побудили португальцев выйти в Атлантический океан и совершить столь далекие плавания, на которые ранее европейцы не отваживались. Это достижение обычно приписывают деятельности принца Генриха Мореплавателя, о котором Дж. Брюс сообщает: «От самой нежной юности своей принц Генрих со страстью любил математику и изучал со тщанием астрономию. Щедрый и доблестный, он был врагом предрассудков, суетности и гнева. Он весьма милостиво обращался с теми евреями и арабами, которые одни, быть может, могли дать пищу тому пылу, с которым он занимался, науками. Напрасно, конечно, мечтал он сделать Португалию конкурентом в той средиземноморской торговле, которую вела Венеция. Но у него оставалось другое средство искать путей в Индию: для этого нужно было пересечь Атлантический океан» [38, с. 143—144].
Современные исследователи в значительной степени развеяли эти романтические представления о принце Генрихе как «о человеке, который по своему интеллекту, эрудиции, по широте мировоззрения значительно превосходил своих современников». На основании последних работ «складывается представление о принце скорее как о фанатичном крестоносце, который, несмотря на недюжинные знания, любознательность и энергию, не стоял выше идейного и морального уровня своего времени... Открытия, видимо, так и не стали главным делом принца Генриха. Документы свидетельствуют, что лоследвие годы жизни он целикам посвятил служению богу, благотворительности и заботам об Ордене. Большое дело, им начатое (всех последствий и всего значения которого он, скорее всего, даже не мог предвидеть), пошло своим необратимым путем, повинуясь законам истории, сам же он так и не вышел за пределы идей и представлений своей эпохи» [17, с. 87.—88]. Однако как бы там ни было, португальцы первыми из европейцев пересекли Атлантический океан, вышли за его пределы и обнаружили обширные земли к великому несчастью их обитателей.
Впрочем, это произошло далеко не сразу, и португальцам потребовалось почти столетие для того, чтобы проложить морской путь в Индию. На протяжении всего XV в., когда велись такие поиски, португальцев не покидала мысль о той помощи, которую они рассчитывали получить от «Пресвитера Иоанна», если они отыщут его царство. Об этом пишет Зурара в своей «Хронике Гвинеи», когда перечисляет причины, побудившие Генриха Мореплавателя исследовать африканское побережье Атлантики: «А вторая причина состояла вот в чем. Он рассудил, что если в тех землях найдутся какие-то поселения христиан, или же такие гавани, куда без опасения смогут заходить суда, то можно было бы в наше королевство привозить многие товары, которые, по всей вероятности, приобретались бы по дешевой цене, потому что с темп землями не торговал никто из наших краев, ни из иных, нам известных; а туда равным образом возили бы некоторые товары из тех, что есть в нашем королевстве, и торговля эта принесла бы немалую выгоду машим соотечественникам» (цит. по [17, с. 76]). Об интересе португальцев к «царству Пресвитера Иоанна» вполне ясно говорит и «Канарская книга», или «Книга завоевания и крещения канарцев», составленная в 1404—1406 гг. капелланами экспедиции Бетанкура: «Помимо этого не может быть места, более подходящего и безопасного, нежели это, для того чтобы победить сарацин и оттуда напасть на них легче всего, с наименьшим риском и тратами. Морской путь туда легок, короток и сравнительно дешев... И здесь можно легко добыть сведения о первосвященнике Иоанне» (цит. по [17, с. 78]).
К
последней трети XV в., когда
португальцы достаточно хорошо
ознакомились с западным побережьем
Африки, им стало ясно, что «царство
Пресвитера Иоанна» следует искать
или восточнее, или южнее Гвинеи. В
Любопытно, что и здесь «царство Пресвитера Иоанна» интересовало португальцев не само по себе, а в качестве источника или рынка торговли индийскими пряностями. Перед Ковильяном и Пайвой король поставил задачу «разузнать, где находятся главные рынки пряностей, каковы те различные пути, по которым они попадают в Европу, откуда идет золото и серебро, которым оплачивается эта торговля, а прежде всего узнать точно, можно ли попасть в Индию, плывя вокруг южной оконечности Африки» (55; цит. по [71, с. 19]). Для выполнения этой задачи путешественники получили «навигационную карту, срисованную с карты мира», 400 крузадо и королевское благословение, после чего они отправились из Сантарема 7 мая 1487г.
Попытки отыскать морской путь в Индию и «царство Пресвитера Иоанна» предпринимались и раньше, однако успехом не увенчались. Собственный план поисков Коцильяна и Пайвы отличался простотой и логичностью замысла: они решили проследить путь индийских пряностей в обратном порядке, от Европы до Индии. Поэтому они отправились в Италию, в Неаполь, оттуда — на Родос, где закупили партию меда, и под видом купцов прибыли в Александрию. Этот простой по замыслу план оказался далеко не прост в исполнений. В Александрии они заболели лихорадкой и чуть не умерли, а за время их болезни «наиб» Александрии присвоил их товары. Тем не менее король Португалии, видимо, хорошо разбирался в своих слугах и знал, кого посылать в столь опасное путешествие. Выздоровев и закупив новую партию товара, они присоединились к каравану некоего «магрибинского мавра из Феса» и под видом мусульман отправились в Тор на Синае, оттуда — в Суакин, и далее — в Аден.
Здесь пути товарищей разошлись. Да Пайва пересек Красное море и высадился на побережье Африканского Рога, где вскоре умер. Ковильян же поплыл в Индию и побывал в Канануре, Каликуте и Гоа. Казалось, он выполнил свою главную задачу и нашел ту страну, где пряности растут «прямо на деревьях». Однако Ковильян этим не ограничился. Из Гоа он отправился в Ормуз, затем — в Аден и Зейлу. Оттуда с караваном мусульманских купцов он посетил Софалу, и через Зейлу и Аден возвратился в Каир, чтобы узнать о судьбе да Пайвы. В Каире он был извещен о смерти своего товарища и готов был вернуться в Португалию, однако встретил двух португальских евреев, рабби Авраама и рабби Иосифа, посланных на поиски Ормуза, а также его самого. Ормуз им разыскивать не пришлось, потому что Ковильян уже побывал там. Рабби Иосиф вернулся в Португалию с отчетом Ковильяна, в котором тот описал королю, «как он побывал в Индии и узнал, что португальские суда могут доплыть туда по океану... как он обнаружил корицу и перец в городе Каликут, и что гвоздика идет оттуда... а чтобы достичь Индии суда, что плывут вниз от Гвинеи, могут точно достичь оконечности материка, держась на юг, а затем они попадут в Восточный океан, а там нужно спрашивать Софалу и остров Луны (Мадагаскар. — С. Ч.)» [55; цит по 71, с. 23].
Итак, Ковильян выполнил свою грандиозную задачу и по сути дела открыл (теоретически и, я бы сказал, картографически) морокой путь в Индию вокруг Африки. Однако его «большая служба» на этом не закончилась, так как король потребовал, чтобы он нашел «Пресвитера Иоанна». И снова Ковильян отправился в Аден, где расстался с рабби Авраамом, посетил Джидду, откуда дерзнул проникнуть даже в Мекку и Медину, снова возвратился на Синай и в который раз вновь приплыл к Зейлу. Здесь ему удалось достичь «Пресвитера Иоанна» лишь потому, что как раз в это время эфиопский царь Александр предпринял очередной карательный поход на Адаль и находился близ Зейлы. Как передает Алвариш со слов самого Ковильяна, «он (Александр.— С. Ч.) принял его с великой радостью и удовольствием и сказал, что отошлет в его страну с большим почетом» [29, с. 270]. Вскоре, однако, Александр был убит отравленной стрелой лучника из племени майя.
Согласно некоторым европейским источникам, эфиопский царь (то ли Александр, то ли Наод) хотел отправить и, собственно, даже отправил Ковильяна с посольством в Португалию, дав ему письмо и большую корону из золота и серебра. Относительно этой короны в письме якобы было сказано: «Нельзя снимать корону с главы отца, а только с главы сына, и он (эфиопский царь.— С. Ч.) и есть сын его (т. е. короля Португалии. — С. Ч.), и потому снял ее со своей главы и лослал ему самое драгоценное из того, что имеет» (цит. по [71, с. 24]). Далее в письме предлагался союз против мусульман и план освобождения Иерусалима. Однако ссора, разгоревшаяся между членами посольства еще в пределах Эфиопии, вынудила их вернуться ко двору, где Ковильян и провел остальную свою жизнь, пользуясь, впрочем, большим почетом и уважением [29, с. 270].
В этом сообщении подозрительным является лишь совершенно нехарактерное для эфиопских монархов той поры самоуничижение и признание далекого короля Португалии «отцом» и, следовательно, согласно феодальной фразеологии,— сюзереном эфиопского царя. Все остальное выглядит вполне правдоподобным и даже находит подтверждение в эфиопской историографии: «И воцарился сын Александра, по имени Наод. И во дни его усилились мусульмане, и дошли до земля Ифат, и угоняли скот и людей. Жители Вага и Фатагара сделались мусульманами. И когда оказался царь в затруднении, сделал он столицу в Звае, в месте, называемом Иярико. А матери его, царице Елене 7, была явлена (грядущая) погибель страны Эфиопии, и посылала она послания в государство португальское, чтобы было оно в помощь чадам ее. А князьям неведома была погибель страны и покорение ее от рук мусульман, и суесловили они на языке арабском и на языке амхарском. А старики горевали и говорили: „Что за времена постигли нас! И будет время наше временем раздоров, пока не наступит VIII тысячелетие 8!"» [74, с. 550—651].
Это последнее свидетельство заслуживает тем большего доверия, что источником его послужили рукописи из монастырей близ оз. Звай, где в свое время находилась резиденция царя Наода и могли сохраниться документы его канцелярии [74, с. 565]. Таким образом, к концу XV в. давний интерес Португалии к «царству Пресвитера Иоанна» начал вызывать ответные чувства в Эфиопии.
В
Как пишет Р. Панкхерст в своем «Введении в экономическую историю Эфиопии», «внешняя торговля Африканского Рога весьма пострадала в начале XVI в. от португальского столкновения с арабами. Албукерки упоминает, например, о потоплении его соотечественниками 20 судов Зейлы „большого размера", а Барбоза — о разрушении несколько лет спустя арабских торговых поселений в Зейле, Бербере и Брава. Он добавляет, что в его времена суда, шедшие с Востока, постоянно подвергались опасности быть захваченными португальцами, которые поджидали их у мыса Гвардафуй. Он говорит, что они часто получали богатую добычу, так как перехватывали каждое мусульманское судно, какое могли, заявляя, что оно плывет в нарушение запрета короля Португалии. Подобное вмешательство португальцев тяжело отразилось на всем Востоке. Корсали сообщает, например, что доходная торговля Малакки, Каликута, Ормуза и Адена пришла в упадок, а индийские купцы принуждены были уйти во внутренние районы полуострова; такие отдаленные города, как Венеция и Каир, также страдали от прекращения торговли» [69, с. 359—360].
В
этих обстоятельствах мусульмане
Средиземноморья, с давних времен
получавшие выгоды от торговли с
Индией, не могли оставаться
равнодушными. Здесь на первый план
выдвигалась быстро растущая
Оттоманская Порта. Турки двинулись
на Средний Восток, их флот обосновался
на Красном море. В
Все
переменилось с началом XVI в. В
К тому были свои причины. Турецкое присутствие на Красном море, стеснительное само по себе, к тому же весьма воодушевляло мусульман Африканского Рога, в среде которых наблюдалось отсутствие стабильности, очень опасное для христианского их соседа. Несмотря на достижение Адалем практической независимости от христианской Эфиопии, положение мусульман на Африканском Роге резко ухудшилось к началу XVI в. как из-за общего упадка красноморской торговли, блокированной португальскими кораблями, так и из-за начавшегося великого переселения кочевых племен сомалийцев и оромо (галла) [54]. В этих условиях власть наследственных «султанов» — правителей мусульманских торговых городов-государств и гаваней начала слабеть.
С падением торговли реальное влияние стало переходить в руки эмиров — «руководителей правоверных» [66]. Так идея джихада, знакомая мусульманам Африканского Рога еще со времен Саад эд-Дина, не без турецкой помощи стала приобретать все большую популярность в Адале, который, кстати, в арабоязычных памятниках того времени именовался обычно «страною Саад эд-Дина» в память этого борца и мученика ислама.
Для христианской Эфиопии брожение в Адале было чрезвычайно опасным как ввиду общей слабости царской власти, так и из-за нового соседства мощной Оттоманской Порты, провозгласившей себя покровительницей мусульман по обе стороны Красного моря. Теперь уже эфиопские цари, ранее (за примечательным исключением Зара Якоба) выказывавшие полное равнодушие к европейским посланцам и их предложениям, заинтересовались португальцами, столь очевидно доказавшими собственную силу морской блокадой подле Гвардафуя и бомбардировками мусульманских гаваней. Однако тут эфиопские и португальские интересы несколько разминулись.
Португальцы, по замечанию Дж. Брюса, «сначала жаждали дружбы с Абиссинией ради того, чтобы получить через нее путь в Индию. Теперь, однако, они стали равнодушны к этим сношениям, коль скоро они утвердились в самой Индии и нашли проход вокруг мыса Доброй Надежды вполне удобным» [38, с. 242—243]. Тот интерес, который все еще имелся у португальцев к красноморскому бассейну, диктовался исключительно соображениями сохранения своей недавно приобретенной и. в высшей степени выгодной торговой монополии, т. е. необходимостью борьбы с турецким флотом. Португальцы в начале XVI в. практически заперли его в Красном море и прилагали все усилия, чтобы не пустить турок в Индийский океан. Время от времени они громили мусульманские гавани и планировали основать несколько собственных баз на Красном море и в Аденском заливе, для снабжения которых португальцы рассчитывали воспользоваться эфиопской помощью. Целью этих мероприятий было обеспечить португальское господство в Индийском океане. Самому же красноморскому бассейну и, соответственно, Эфиопии здесь в португальских планах отводилась сугубо вспомогательная роль и то лишь постольку, поскольку на Красном море находился турецкий флот.
Проникновение португальцев в Индийский океан, повлекшее за собою то, что отныне мировая торговля между Востоком и Западом по большей части стала осуществляться морским путем вокруг Африки, а красноморский путь снова пришел в упадок, произошло как раз в то время, когда. Наод перенес на другое место тело Зара Якоба и провозгласил новую политику. В наследство от брата Наоду досталось царство, раздираемое феодальной анархией; практически независимый и крайне беспокойный Адаль, откуда под водительством эмиров постоянно совершались опустошительные набеги на пограничные области, и возросшие амбиции царских военачальников, привыкших после смерти Баэда Марьяма с оружием в руках дерзко вмешиваться в вопросы престолонаследия. Эти военачальники были склонны скорее управлять сами, нежели быть управляемыми. Наод, по-видимому, пожелал вернуться ко временам Зара Якоба, чье царство было «честно и грозно повсюду», разрешив адальскую проблему.
До сих пор науке известно лишь начало пространной «Хроники», посвященной Наоду, где повествование доводится до 3-го года его царствования. Далее оно обрывается, но есть надежда, что когда-нибудь будет найдено и ее продолжение. Пока же приходится довольствоваться лаконичными строками «Краткой хроники»: «И после сего напишем историю царя Нао-да. А прежние станы, где зимовал он в Вадже, суть Энгодит, Кес, Вагада, Занкар, Энзас и снова Занкар. А потом — в Даваро: Варе Зэнам, Дэмбе. А потом — Мальза в Амхаре, Ванзех, Дэджно. И там упокоился государь Наод» [33, с. 327]. Видимо, Наод личным присутствием стремился обеспечить безопасность пограничным областям, населенным преимущественно мусульманами. Шесть лет он провел в Вадже, что говорит о трудности выполнения этой задачи, и три года в Даваро, также населенной мусульманами. Очевидно, ему удалось добиться какого-то успеха, так как последние три года Наод пребывал в своем домене в Амхаре. Сама география «зимних местопребываний» Наода указывает на его отказ от сугубо доманиальной политики своего отца, Баэда Марьяма.
Однако решительного успеха Наод не достиг. Окончательно усмирить беспокойный Адаль не удалось, и сам царь умер, отражая очередной набег мусульман. «И после, этого опустился он и направился к Зваю, чтобы сохранить страну от рук мусульман. И когда он был там, настала зима. Мусульмане же объединились с людьми Адаля и захватили землю Ифат. Царь выступил из Иярико, чтобы сразиться с ними, подошел к реке Ацрар и обнаружил, что 24 хамле она переполнена до краев. И когда переправлялся он вместе с войском своим, унес поток войско царское. Царя же с трудом вытащили воины его. И назвали то (место) потоком, ибо он унес людей из войска. А царь заболел после того, как вышел из этого потока. Он встретился со своими людьми и опочил в мире 7 нэхасе, и погребен был на Гешен, горе царей» [74, с. 551].
Итак, новая политика Наода не увенчалась успехом, и причиной этому была, конечно, отнюдь не трагическая переправа через бурную реку в сезон дождей. По Ф. Энгельсу, «вести борьбу против феодальных порядков с помощью войска, которое само было феодальным, в котором солдаты были более тесно связаны со своими непосредственными сюзеренами, чем с командующими королевской армией,— это, очевидно, означало вращаться в порочном кругу и не сдвинуться с места» [3, с. 413]. Наод же попытался вернуться к политике Зара Якоба и разрешить адалъскую проблему именно «с помощью войска, которое само было феодальным». Представить себе, как происходило это вращение «в порочном кругу» в действительности, нам дает возможность любопытная картинка с натуры, которая заслуживает быть приведенной полностью. Это отрывок из «Завоевания Абиссинии» Шихаб эд-Дина Абдель Кадера, в котором дееписатель грозного адальского имама Ахмада ибн Ибрагима аль-Гази описывает судьбу Ванаг Жана, царского родича и наместника Бали времен царя Наода:
«Он спустился, к султану Мухаммеду и принял ислам обращением искренним. Султан выказал ему уважение и дал ему в управление Анкарсах и командование в мусульманском набеге на Бали. Он прибыл в эту страну, разорил ее и разрушил. Христианские войска объединились против него и дали ему сражение. Неверные возобладали, мусульмане бежали, и многие из них были убиты. Ванаг Жан был взят в плен и приведен к царю Абиссинии Наоду, отцу Ванаг Сагада (царя Лебна Денгеля.— С. Ч.). Его привели связанным. Его брат Васан Сагад (видный придворный и военачальник Наода.— С. Ч.) вступился за него; царь освободил его и держал в большой чести; так что сделал его как бы своим визирем. Он принял христианство с отвращением, но в сердце своем всегда был склонен к вере истинной. Царь дал ему в управление Бали, где он утвердился, укрепил свою власть, покупал коней и умножил их число. Воины повиновались ему. Однажды он сказал начальникам: „Соберитесь сегодня, я расскажу вам известие, что пришло от царя". Они собрались со всех концов Бали, числом шестьдесят (человек): каждый из них коамандовал многими всадниками. Они собрались пред ним со многими конями. „Войдите в дом,— сказал он,— мы выпьем вина". Они вошли к нему, сели, и он дал им старого вина, очень крепкого. Когда они опьянели, он спросил совета у своего наперсника, по имени Дельба Иясус: он был христианином тогда, а потом принял ислам и погиб мучеником в Бали с Курай Сабр эд-Дином, сыном дяди со стороны отца султана Мухаммеда. Ванаг Жан сказал своему поверенному: „Что нам сейчас делать? Благодарение богу, они попали в наши руки". Дельба Иясус ответил: „Давай свяжем их и перережем, как баранов"! Пока начальники были пьяны, Ванаг Жан дал такой приказ своим дружинникам: „Войдите в дом, свяжите и скрутите их и зарежьте на месте, как баранов". Те повиновались и забрали их коней и их оружие. Затем он послал к султану Мухаммеду, который был тогда в Дакаре в стране Саад эд-Дина, сказать: „Я — твой слуга; вот как я поступил с неверными: я взял их изменою и отомстил им"... Потом Ванаг Жан сказал людям Бали: „Принимайте ислам и ешьте животных, зарезанных мусульманами 9, а не то я поступлю с вами так же, как поступил с вашими начальниками". Они обратились в ислам, малые и великие» [34, с. 164—166].
Сходной
оказалась и судьба сына Ванаг Жана
— Симу. Он участвовал с
мусульманами в набегах на Бали, был
пленен христианами в битве при Дель
Майда в царствование Наода. Затем
он вторично принял христианство и
был пожалован царем в наместники
Бали. Подобно своему отцу, Симу
снова переметнулся к мусульманам,
хотя перед этим несколько раз сражался
против них. Конец его буерной жизни
положила чума, разразившаяся среди
мусульманского войска в Тигре в
Вообще мятежи и измены отдельных военачальников и их полков были вполне обычным явлением в средневековой Эфиопии и до и после Наода. Как правило, царская власть достаточно успешно справлялась с ними, противопоставляя одним полкам и личностям другие. Новым в отношениях между царской властью и царскими военачальниками в конце XV в. явилась не столько мятежность этих военачальников, сколько долготерпение царей. Долготерпение Наода и его милость к изменникам указывают на страшную слабость царской власти, вынужденной полагаться на заведомо неверных людей просто потому, что к началу XVI в. опереться ей было уже не на кого. Таковыми для царской власти оказались неизбежные последствия развития феодализма в Эфиопии. В области экономической это выразилось в развитии феодальной ренты, в области политической в дальнейшем развитии вассалитета, в области юридической — в развитии иммунитета. Как писал Ф. Энгельс, «в обществе позднего средневековья феодальное дворянство в экономическом отношении начало становиться излишним, даже прямой помехой; каким образом и политически, оно так же являлось препятствием развитию городов и национального государства, которое тогда было возможно только в монархической форме. Несмотря на все это, его поддерживало то обстоятельство, что за ним до сих пор сохранялась монополия в военном деле, что без него невозможно было вести войны, невозможно было давать сражения» [3, с. 412—413].
Однако, если в Европе начала XVI в. этот порядок начинал коренным образом меняться, и «все революционные элементы, которые образовывались под поверхностью феодализма, тяготели к королевской власти, точно так же, как королевская власть тяготела к ним» [3, с. 411], то в Эфиопии того же времени таких элементов, и в первую очередь, городского бюргерства, не было. Так сложилась ситуация, весьма тягостная для царской власти в Эфиопии и в конечном счете предопределившая ее кризис: старый военный феодальный класс уже превратился в препятствие на пути развития эфиопского государства, нового же класса, на который царская власть могла бы опереться для достижения самодержавной власти и создания национального государства, еще не было. За-старым феодальным классом по-прежнему сохранялась его «монополия в военном деле», и эфиопским царям, Наоду и его преемникам, волей-неволей приходилось мириться со своими своевольными и мятежными вассалами, без которых, однако, они были не в состоянии обойтись.
Не имея возможности надежно заручиться верностью своих наместников, эфиопские цари старались почаще менять их, чтобы те не успевали «пустить корней» в ту землю, которая дана им в кормление. Как писал Франсишку Алвариш, «уж не мало времени Тигримахом (наместник Тигре.— С. Ч.) держал это наместничество, однако все еще не закончил объезд всех своих земель, которые под его властью и правлением, а также (земель) тех, которые имеют титул королей, а также других, ниже их чином. Пресвитер Иоанн смещает и назначает их, когда хочет, за дело или без дела; а если за этим и кроется, кое-что, то это тайна, поскольку за то время, каковое мы оставались в стране, я видывал многих великих вельмож, смещенных с наместничества, и других, назначенных на их место, и я видел их вместе, и они выглядели добрыми друзьями (Бог весть их сердца)... Земли столь населены, что подати не могут быть малыми, а эти вельможи, хотя и получают свои подати, кормятся за счет народа и бедных» [29, с. 93—94].
Чрезвычайно любопытно осуждение, которое сквозит в последней фразе у Алвариша. Казалось бы, в первой трети XVI в. его родная Португалия не так уж далеко ушла от Эфиопии в смысле развития общественных отношений. Однако товарно-денежные отношения к этому времени в Португалии, не говоря уже обо всей Западной Европе, развились достаточно широко. Как писал Ф. Энгельс, «всюду, где личное отношение было вытеснено денежным отношением, а натуральная повинность — денежной, там место феодального отношения заступало буржуазное» [3, с. 408], и Алвариша уже шокирует эфиопская система «кормлений».
Однако частая смена наместников сама по себе не могла разрешить острой проблемы феодальных мятежей в христианской стране. Царь призывал наместников к себе и менял их. Они являлись ко двору, смиренно представали пред своим государем обнаженными по пояс 10 и «выглядели добрыми друзьями» и добрыми подданными. Но «бог весть их сердца» — все это не мешало им затевать бесконечные мятежи и измены, как показывает пример Ванаг Жана. Кроме того, и возможности смены наместников были весьма ограничены тем обстоятельством, что между военачальником (а любой наместник в Эфиопии был прежде всего военачальником) и его воинами существовала глубокая личная связь, на которой, собственно, и держалась военная дисциплина феодальной армии. Часто прерывать ее постоянной перетасовкой начальников далеко не всегда было в интересах царской власти. В конце концов верный государю, но бессильный добиться повиновения собственных воинов начальник оказывался на поле брани не менее опасным, нежели мятежник и изменник.
Чтобы избежать этого, эфиопские цари пробовали, не меняя военачальников, разделять большие области на несколько наместничеств. Таким образом, не ослабляя связи между начальниками и их воинством, можно было поддерживать соперничество между этими военачальниками, которое обеспечивало бы их относительную верность престолу. Во всяком случае, мятежник в этом случае рисковал остаться в одиночестве и встретить отпор уже со стороны своих непосредственных соседей-соперников. Именно такая политика была применена в пограничном Фатагаре после казни раса Амда Микаэля, как об этом свидетельствует Шихаб эд-Дин: «Главных начальников было числом семеро, и каждый имел под своим командованием большое войско. Во времена деда царя Абиссинии (т. е. во времена Баэда Марьяма. — С. Ч.) во всем Фатагаре был один начальник, который командовал войском: этот же принц учредил семерых, которые соперничали, между собою в войне против мусульман» [34, с. 83].
Однако
и этот способ управления имел
отрицательные последствия: он
безусловно распылял военные силы
христиан. Если при отражении
заурядных набегов хищных
кочевников каждый военачальник,
действительно, старался защитить
свою область и отличиться в глазах
государя, то при более серьезных
вторжениях дело обстояло иначе.
Будучи не в силах отразить
вторжение собственными силами,
военачальники оказывались
неспособными ни к сплочению, ни к
четким действиям под общим единым
руководствам. Жалея своих воинов,
они не спешили приходить на помощь
соседям-соперникам, когда те
попадали в затруднительное
положение. Так военная мощь христианского
царства оказалась ослабленной в
тот самый момент, когда в водах
Красного моря появился турецкий
флот, а побережье Африканского
Рога стало ареной морской войны
между португальцами и турками. Эта
война с неизбежностью приняла
характер войны за веру, в которую
тут же быля втянуты и местные
африканские народы.
3. Первая половина царствования Лебна Денгеля и начало прямых сношений с португальцами
После
смерти Наода в августе
Елена была женой царя Зара Якоба и носила титул «царицы справа». Именно ее отцу, «гараду Хадья Мехмеду», не доверял Зара Якоб и не разрешил ему идти воевать против Бадлая, «ибо он был мусульманин, как и скот Бадлай, почему и не велено было ему приходить на место битвы и не доверяли его настроению» [24, с. 71—72]. Елена была бездетна, но это Проклятие женщины на Востоке, лишающее ее всякого уважения и влияния в доме, мало отразилось на ее положении при дворе. Видимо, она была действительно недюжинной личностью, так как и после смерти Зара Якоба играла важную роль в придворной жизни. При помазании на царство Баэда Марьяма «за ним следовала царица слева, а за ней царица Елена, царствовавшая с нею в этот день» [24, с. 104].
Такой чести Елена была обязана собственным достоинствам, а не прежнему своему положению при Зара Якобе, и хронист Баэда Марьяма оговаривает это обстоятельство особо: «Царь весьма любил и царицу справа Елену, ибо она была от бога совершенна во всем — в праведности, в вере, в молитве, и при общении и в мирских делах — в изготовлении стола, в законе, в знании писания и речи. За все это любил царь весьма царицу Елену и относился к ней как к матери» [24, с. 104]. В период ожесточенной борьбы за власть между придворными группировками после смерти Баэда Марьяма Елена также участвовала в ней с переменным для себя успехом. Похоже, что она принадлежала к числу противников раса Амда Микаэля [78, с. 289], и Лебна Денгель решился перенести его прах из Дабра Либаноса в Атронса Марьям лишь после смерти влиятельной царицы. В этой борьбе Елена, конечно, знала и победы и поражения. Бразды же государственного правления она получила с воцарением Лебна Денгеля, и начало его царствования было по существу временем правления царицы Елены.
Большинство исследователей считают Елену поборницей мира между Адалем и христианской Эфиопией. Впервые эта мысль была высказана и обоснована Дж. Брюсом [38, с. 188—189]. Он полагает (возможно, основываясь на каких-то эфиопских источниках, которых, однако, не упоминает), что Елена видела причину благосостояния как христианского царства, так и Адаля во взаимовыгодной торговле, которая издавна велась между ними, и потому стремилась к миру как непременному условию такой торговли. Однако благодетельное равновесие в этом регионе было нарушено появлением турецкого флота. Турки возбуждали фанатизм местных мусульман, и именно против турок, подрывавших мир и торговлю, Елена стала искать союзников, которых и нашла в лице Португалии, сильной державы, обосновавшейся в Индииг
Такой ход мыслей (принадлежавших, видимо, больше Брюсу, чем Елене), справедлив лишь отчасти. Появление турецкого флота на Красном море и турецких гарнизонов на побережье, конечно, тяжким бременем легло на местную торговлю. Однако торговлю с Индией подорвало не столько турецкое присутствие на Красном море, сколько португальское военно-морское господство в Индийском океане. «Равновесие же сил» на Африканском Роге само по себе было весьма недавнего происхождения, когда при Баэда Марьяме Адалю удалось достичь независимости от христианского царства, независимости, которую эфиопские цари не признавали, но сокрушить которой не могли. Таких попыток они, однако, не оставляли, и положение на границе было самым тревожным. В том же, что давняя борьба за торговую монополию между мусульманами и христианами Средиземноморья в XVI в. вышла далеко за пределы Средиземного моря, можно винить в равной степени как турок, так и португальцев.
Как
бы там ни было, турецкое
присутствие на Красном море
явилось крайне опасным соседством
для христианской Эфиопии. Это
побуждало эфиопский двор искать
союзников, и естественно, что их
помыслы обратились к португальцам,
чьи победы в Индийском океане
цривлекли всеобщее внимание на
Африканском Роге. Сведения о
морской мощи Португалии при эфиопском
дворе могли быть получены как от
Перу де Ковильяна, прибывшего в
Эфиопию к концу царствования
Александра, так и от других
португальцев, посланных на поиски
исчезнувшего Ковильяна. Это были
Жуан Гомиш (духовник Триштана да
Кунья, родом из Сардинии), арабский
христианин Хуан Санчес и тунисский
араб, называемый то Сиди Али, то
Сиди Мафамеде (Саййид Мухаммед?). По
приказанию Афонсу де Албукерки,
вице-короля Индии, Триштан да Кунья
высадил их на мысе Гвардафуй в
Им удалось выполнить лишь первую часть этой задачи, да и то лишь потому, что в нарушение приказа Триштана да Кунья они предпочли морской путь сухопутному и прибыли в Эфиопию через Зейлу вместе с мусульманскими купцами [67, с. 566]. Там они отыскали Ковильяна, однако, подобно ему, им не было разрешено возвратиться на родину. Тем не менее это путешествие послужило развитию эфиопско-португальских сношений. Жуан Гомиш и Хуан Санчес не только подтвердили рассказы Ковильяна о военно-морской мощи Португалии, но и навели царицу Елену на мысль отправить собственное посольство к королю Португалии через португальского вице-короля в Индии. Это посольство тщательно подготавливалось царицей. В качестве посла Елена выбрала армянского купца Матфея. Брюс описывает его как «человека, вполне достойного доверия и осторожного, который давно привык разъезжать по различным странам Востока с торговыми поручениями царя и его вельмож. Он бывал в Каире, Иерусалиме, Ормузе, Исфахане и в восточной Индии на малабароком побережье» [38, с. 198]. Впоследствии, когда Матфей достиг Индии и представился португальцам в качестве эфиопского посла, то обстоятельство, что сам он был армянином, а не эфиопом, возбудило сильнейшие подозрения португальцев, принявших было его за турецкого шпиона. Эти подозрения были совершенно неосновательны. Странно, что португальцы, на протяжении всего XV в. рассылавшие собственных шпионов по всему мусульманскому Востоку и на собственном опыте убедившиеся, что через мусульманские страны можно путешествовать лишь будучи мусульманином или евреем или выдавая себя за такового, не поняли отчего эфиопским послом оказался армянин.
Армяне неоднократно выполняли роль посредников в сношениях Эфиопии с внешним миром [70]. С одной стороны, единоверные эфиопам армяне более чем кто бы то ни было могли рассчитывать на их доверие. С другой стороны, будучи раййа, т. е. налогоплательщиками турецкого султана, армяне могли относительно свободно передвигаться и в пределах мусульманского мира, где они к тому же имели довольно широкие собственные торговые связи. Как заметил Брюс относительно Матфея, «в распоряжении царицы не было никого, хоть наполовину равного ему по своим качествам; и кроме того, если бы кто-то из эфиопской знати и отважился на эту поездку, то ведь он был бы беззащитен повсюду за пределами этой страны, и первый же турок, в чьей власти он мог оказаться, продал бы его в рабство» [38, с. 204]. Таким образом, выбор царицей Еленой армянина Матфея в качестве посла был более чем оправдан. Сам Матфей, отправляясь в это опасное путешествие, счел за благо поменять свое явно христианское имя на имя Ибрагим, поскольку оно не выдавало своего носителя, будучи равно широко распространено как среди мусульман, так и среди христиан и иудеев.
Не менее тщательно было продумано и послание, отправляемое к королю Португалии. До недавнего времени был известен лишь португальский его вариант, сделанный, по-видимому, с помощью Ковильяна при эфиопском дворе. Однако эфиопский историк Сергеу Хабле Селласе обнаружил и опубликовал уже эфиопский список этого послания, отличавшийся от португальского рядом деталей. Он заслуживает быть приведенным здесь с некоторыми сокращениями, так как тю нему можно судить о планах и намерениях царицы Елены:
«Грамота послания, отправленного Еленой, царицей Эфиопии, Его Высочеству 11 Иоанну, царю Португалии. (Далее, после краткого вступления, царица излагает суть своего предложения):
Откроем
вам, брат наш возлюбленный, что
прибыли к нам два мужа из людей дома
вашего: один иерей, по имени Иоанн
Бермудес, а второй — мирянин, по
имени Иоанн Гомес 12. И из-за
прибытия их послали мы к вам «ашего
посланца Матфея, брата нашего, что
пребывает под властью и в
подчинении отца нашего Марка,
митрополита александрийского...
Причину же послания нашего мы
поведаем. Мы готовы помочь войску
вашему пропитанием и оружием.
Слышали мы ныне, что султан Египта
готовит большую войну на путях
морских, завидуя народу вашему,
что в Индии, потому что посрамлен он
был весьма и побежден много раз. Да
будет воля божья на то, чтобы
укреплялся (народ ваш) изо дня в
день и чтобы попали под власть вашу
все неверные. Мы же пошлем войско
наше в Мекку или в Баб-эль-Мандеб. А
если вам это покажется лучше, то мы
пошлем его к поселению Джидда или в
Тор, дабы исполнилось желание
сердца вашего на благо и были
изгнаны и уничтожены эти неверные
магометане с лица земли, дабы не
давать больше этим собакам даров,
которые посылает отселе народ наш к
гробу святому господа нашего
Иисуса Христа. Сей день есть день, о
котором возвещали прежде господь
наш и матерь его святая, что родится
царь в Европе, который победит и
уничтожит неверных магометан. Без
сомнения, о сегодняшнем дне
пророчествовал спаситель и матерь
его святая. И ныне все поведает вам
посланец наш Матфей. Выслушайте и
примите (что он вам скажет), как мою
собственную речь.
Не огорчите его, ибо он учен среди вельмож дома нашего, и потому мы посылаем его к вам... И еще, если вы хотите поженить сынов ваших и дочерей наших и сынов наших и дочерей ваших, то мы тоже этого хотим. Но да не будет это один раз, а да будет всегда. Жизнь и благодать Иисуса Христа, спаса нашего, и владычицы нашей Марий, пресвятой богородицы, во всякое время да пребудет с вами и с сыяами вашими и с дочерьми вашими и со всеми людьми дома вашего. Мы же, когда соберем вой око наше, обретем силу, ибо бог поможет нам победить всех противящихся нашей вере святой. А на путях морских пусть Иисус Христос укрепляет вас во всякое время. 'Ибо слышали мы рассказы о том, что совершило войско ваше в Индии; и кажется это нам чудесами, а не делом рук человеческих. Если вы хотите снарядить тысячу судов, мы пришлем вам пропитание» [74, с. 554—556].
Это
письмо интересно во многих
отношениях. Во-первых, из него
следует, что сама идея португало-эфиопского
союза против мусульман
принадлежала, собственно говоря,
португальцам. Как о существовании
Португалии, так и о ее военных
действиях против мусульман
эфиопский двор узнал от тех португальцев,
которым удалось проникнуть в.
Эфиопию, т. е. от Ковильяна,
попавшего туда в
Во-вторых,
послание Елены говорит о ее
прекрасной осведомленности о
положении дел у мусульман
красноморского бассейна.
Предупреждение о том, что «султан
Египта готовит большую войну на
путях морских, завидуя народу
вашему, что в Индии», полностью
соответствовало действительности.
После того как Васко да Гама
обстрелял из пушек Могадишо в
Хотя религиозные мотивы неоднократно упоминаются в ее послании, нельзя говорить о религиозном фанатизме Елены. На мусульман и на их господство на торговых путях она смотрела исключительно с эфиопской точки зрения. Ее не возмущала мусульманская торговая монополия: в Эфиопии вся мало-мальски значительная торговля издавна находилась в руках мусульманских купцов, а эфиопские христиане брезгали столь недостойным занятием. К ним в полной мере применимы слова К. Маркса о том, что «древние единодушно почитали земледелие единственным делом, подобающим для свободного человека, школой солдата» [1, с. 468], и в традиционном христианском эфиопском обществе господствовал неписаный закон, подобный писаному римскому: «„Никому из римлян не дозволялось вести образ жизни торговца или ремесленника"» [1, с. 469].
Единственное, что оскорбляло самолюбие эфиопов и обременяло их материально,— это необходимость задабривать мамлюкских султанов Египта ради получения коптских митрополитов на эфиопскую кафедру и ради обеспечения безопасного пути эфиопским паломникам в Иерусалим. Естественно, они желали «не давать больше этим собакам даров, которые посылает отселе народ наш к гробу святому». Португальцы же, напротив, воевали с мусульманами именно за монополию в торговле с Индией, иногда всерьез считая свои военные усилия не чем иным, как продолжением крестового похода, начатого еще Генрихом Мореплавателем. Видимо, этими «христианнейшими» целями объясняли военную деятельность своего короля и свое собственное появление при эфиопском дворе и Ковильян и посланцы Триштана да Куньи. Поэтому и царица Елена желает своему португальскому адресату, чтобы «исполнилось желание сердца вашего на благо и были изгнаны и уничтожены эти неверные магометане с лица земли».
Стоит отметить, что царица Елена, хотя и предлагает португальскому королю военный союз, который она готова скрепить и династическими браками, отнюдь не приглашает португальцев в Эфиопию и не просит помощи против своих мусульманских соседей. В ее послании много умолчаний и недомолвок. Так, она не повторяет тех португальских предложений, с которыми явились Жуан Гомиш и Хуан Санчес, а только ссылается на них. Собственные конкретные предложения она также предпочитает передавать устно через Матфея. Но общий замысел достаточно ясен и из написанного. Португалии в качестве морокой державы предлагается бороться с мусульманами на море, причем бороться с мусульманами Средиземноморья, а отнюдь не с мусульманами Африканского Рога. Эфиопия же как сухопутная держава готова оказать Португалии помощь и войсками и продовольствием за пределами Эфиопии. Однако, несмотря на всю ясность в этом вопросе, впоследствии возник целый ряд недоразумений, которые самым роковым образом сказались и на судьбе Матфея и на характере первых прямых сношений Португалии и Эфиопии.
Потом
португальцы утверждали, что царица
Елена устно, через Матфея
предлагала им треть своей страны [71,
с. 33], — в высшей степени
невероятное предложение! Трудно
сказать, каким образом возникло
подобное недоразумение в самом
начале прямых эфиопско-яортугальских
сношений. Возможно, что оно обязано
своим происхождением не столько
посланию Елены или ее устным
инструкциям, сколько той булле,
которую в
Впрочем,
в те времена и путешествия и обмен
посольствами в этом регионе были
делом отнюдь не скорым, и прошло
десять лет, прежде чем Матфей
вернулся в Эфиопию с ответным португальским
посольством. Из Эфиопии он
отправился в Индию через Зейлу в
Мытарства
несчастного Матфея не прекратились
и тогда, когда его наконец-то
отправили в Португалию обычным
тогда морским путем вокруг Африки.
Капитан судна, Берналдим Фрейре, «обращался
с ним плохо», а дойдя до Мозамбика,
даже «заковал его» по требованию
некоего Франсишку Перейры. По
прибытии судна в Лиссабон король
Мануэл, однако, признал полномочия
Матфея, «устроил ему хороший прием
и всегда обращался с ним, как
подобает обращаться с послами» [53, с.
254]. Его обидчиков король посадил в
тюрьму, и лишь великодушное
вмешательство самого Матфея спасло
их от примерного наказания. При
этом король все же не спешил предпринимать
какие-либо действия по поводу
прибывшего эфиопского посольства.
Два года Матфей находился при его
дворе, где его усиленно
расспрашивали об Эфиопии как люди
короля, так и папы Льва X.
Впоследствии Матфей даже
отправился в Рим, где был принят
папой. На основании рассказов
Матфея хронист короля Мануэла
Дамиан де Гоиш составил сочинение
под названием «Великое посольство
Императора индийцев Пресвитера
Иоанна», напечатанное в
Весной
Лишь
8 февраля
Неудачи,
однако, с поразительным
постоянством преследовали это
посольство, возможно, потому что
новый вице-король Индии по своим
качествам не шел ни в какое
сравнение со старым грозным де
Албукерки. Лапу Суариш вновь начал
подозревать в Матфее шпиона
мусульман, а это, естественно, отражалось
и на отношении к эфиопскому
посланцу подчиненных вице-короля.
Когда корабль, на котором плыл
Матфей, отстал от флота и очутился у
архипелага Дахлак подле эфиопского
побережья Красного моря, капитан
отказался высадить Матфея на берег,
хотя Эфиопия была совсем рядом.
Суариш не рискнул даже зазимовать у
эфиопского берега, а бросил якорь у
о-ва Камаран близ аравийского
побережья. Этот выбор места зимовки
оказался крайне неудачным:
португальцы очень страдали от
нездорового климата, не выдержав
которого умер престарелый дон
Дуарте де Галван. Лопу Суариш
разрешил было сойти в Массауа
одному Матфею, однако, не послушав
его совета, высадил на один из
островов архипелага Дахлак
небольшую группу португальцев во
главе с сыном покойного дона Дуарте.
Последовало то, что предвидел
Матфей: местные мусульмане
перерезали немногочисленных
португальцев. Обескураженный этой
неудачей вице-король Индии
отказался от высадки на берег
Матфея. Он долго бесцельно
курсировал в Красном море и
Аденском заливе, а в июле
Тем
временем в Эфиопии, покинутой
Матфеем в
С падением торговли пало и влияние как богатого купечества, так и «султанов», защищавших интересы прежде всего торгового класса,— этих главных, сторонников мира и торговли с христианской Эфиопией. Одновременно шло обнищание и: росло недовольство городских низов и даже кочевников, для которых торговля и охрана караванов также были немаловажным средством существования. Особенно чувствительной к падению торговли оказалась Зейла, тесно связанная с мусульманским торговым миром. В ней искал последнее свое прибежище знаменитый Саад эд-Дин, оттуда повел свои войска против Баэда Марьяма эмир Ладаэ Эсман, там же собирал свои силы и эмир Махфуз, старый противник царя Наода, не сложивший оружия и в царствование Лебяа Денгеля.
Следует сказать, что с падением авторитета наследственных «султанов», традиционно тесно связанных как с купеческим классам, так и со своим номинальным сюзереном — христианским щарем Эфиопии — и заинтересованных в мире как непременном условии торговли, выросло влияние так называемых эмиров, правда, уже не светских, а религиозных военных предводителей, подчиненных «султанам» лишь номинально. Как писал Шихаб эд-Дин, «по обычаю страны Саад ад-Дина каждый змир имел власть предпринимать или останавливать действия, соБерииать набеги и вести священную войну. Большинство воинов было под их рукой, а султан имел лишь свою долю налогов» [34, с. 25—26]. Таким образом, по словам Дж. Тримингхэма, «с возвышением этих эмиров и с разжиганием духа населения в Харарском государстве появились две партии: народная партия, фанатичная и воинственная, предводителями которой были эти эмиры; и другая — аристократическая партия, связанная с торговлей и мирными занятиями, которая окружала двор султана» [82, с. 80—81].
К этому можно прибавить, однако, что подобная ситуация была характерна не только для начала XVI в., а вообще для политической обстановки в мусульманских городах-государствах. На городские низы в Ифате опирались воинственные братья Хакк эд-Дин и Саад эд-Дин, создавая новое государство Адаль и воюя против христианского царя Эфиопии. Однако именно в начале XVI в. с падением красноморокой и индийской торговли этот конфликт приобрел небывалую остроту, а эмиры — популярность.
Самым популярным эмиром на рубеже XV—XVI вв. был наместник Зейлы Махфуз, которого мусульмане часто называли имамом Махфузом (весьма показательное обстоятельство, о нем еще будет речь впереди). Владея Зейлой, весьма страдавшей от упадка торговли, и имея доступ к огнестрельному оружию, которым его снабжали не только единоверцы, но и каталонские купцы — эти давние враги и соперники португальцев [82, с. 86; 69, с. 161], Махфуз возглавил воинственных фанатиков и повел систематическую войну против христианской Эфиопии. Его тактика заключалась в стремительных набегах на пограничные области (главным образом Фатагар и Шоа) на пасху, сразу после великого поста. Выбор времени для ежегодных набегов обусловливался следующими двумя обстоятельствами: эфиопские христиане, строжайшим образом соблюдавшие все посты, очень ослабевали к пасхе физически, и к этому сроку поспевал урожай. По свидетельству Ф. Алвариша, «он начал совершать эти набеги при жизни даря Александра, который является дядей этого даря (т. е. Лебна Денгеля. — С. Ч.) и продолжал их в течение двенадцати лет его жизни; и так как он умер бездетным, ему наследовал Нахум (Наод.— С. Ч.), его брат, отец этого царя, и Махфуз делал то же в его время. Этот Давид, который царствует сейчас (Лебна Денгель.— С. Ч.), начал править двенадцати лет от роду, и пока он не достиг семнадцати лет, Махфуз не прекращал этих набегов и войны во время поста» [29, с. 307].
Таким
образом, к
Чаша царского терпения переполнилась, поскольку Махфуз к обычным разорениям прибавил и издевку. Вот как описывает Ф. Алвариш это событие; «На двадцать четвертый год своих набегов, когда он вошел в царство Фатагар, все люди бежали и скрылись на вышеупомянутой горе, а Махфуз преследовал их; и, говорят, он взошел на гору и сжег все церкви и монастыри, что были там. Я прежде повествовал, что во всех странах Пресвитера есть чава 14, то бишь воины, так как в этих царствах крестьяне не участвуют в войнах, и что в этих царствах много чава, а среди тех, кто скрылся на горе, были и крестьяне и чава, т. е. воины, которые бежали. Махфуз взял их в плен и приказал отделить крестьян от воинов и велел отпустить крестьян с миром, чтобы они сеяли больше пшеницы и ячменя к следующему году, когда он придет, дабы он и его люди имели достаточно на прокорм себя и своих коней. А воинам он сказал: „Рабов, которые едят царский хлеб и так скверно стерегут его земли,— всех вас предать мечу!"; и он приказал убить пятнадцать воинов; и возвратился с большим войском без какого-либо препятствия. Пресвитер Иоанн весьма сердился на это, главным образом на сожжение монастырей и церквей, и велел лазутчикам отправиться в царство Адаль и разузнать, куда именно Махфуз решится напасть. И он узнал, что придет сам царь Адаля и Махфуз вместе с ним с большой силою и что они придут в то же самое царство Фатагар, и придут они не в пост, а в то время, когда пшеница и ячмень зеленые, чтобы погубить их, а в пост они отправятся в другое место. Узнав это, Пресвитер Иоанн решил подстеречь их на дороге и, говорят, этому воспротивился весь его народ и придворная знать, которые говорили, что он — юноша семнадцати лет, и не подобает ему идти на такую войну, и там достаточно бетудетов (бехт-вададов.— С. Ч.) и других начальников его царств. Говорят, он ответил, что он должен идти лично, чтобы отомстить за обиды, причиненные его дяде Александру и его отцу Нахуму (Наоду.— С. Ч.) и ему самому в течение шести лет, и он полагается на бога и отомстит за все» [29, с. 307—308].
Лебна Денгелю, действительно, удалось подстеречь войско мусульман в узком проходе, перекрыть все выходы и разгромить его. В этом сражении пал имам Махфуз, а султану Мухаммеду с большим трудом удалось бежать с поля брани. «Хроника» Лебна Денгеля повествует об этом, расходясь с изложением Алвариша лишь в возрасте царя: «Когда он достиг возраста 20 лет, выступил царь Адаля по имени Мухаммед, с многочисленным войском, и был в это время начальником его сил Махфуд. Царь, услыхав о прибытии этих мусульман, отправился поспешно на войну с ними и с помощью бога, коему слава, те тотчас побежали пред лицом его; он убил многих воинов, сражавшихся с ним на конях, держа щиты и копья. И начальник войска этих мусульман, упомянутый нами раньше, был убит в этот день; уцелели из них немногие, убежавшие от убиения. Царь их Мухаммед вышел среди битвы, бежав в страхе и трепете; относительно его одни говорили: „встретили его люди из Даваро, когда он уходил, и дали ему итти в его страну в мире, ибо согласны Маласаи и жители Даваро". Другие говорили: „его не видали и не встречали; если бы его встретили, то задержали, привели бы его, а если нет, доставили бы царю его отрубленную голову, ища почета и назначения". Кого из них считать правдивым, кого — лжецом — предоставим знание богу. Здесь же воздадим благодарение богу, при помощи которого, становятся победителями и от гнева коего побеждаются» [24, с. 119—120].
По
удивительному стечению
обстоятельств Махфуз был разгромлен
в тот же день, когда флот Лопу
Суариша бомбардировал и жег Зейлу.
Это совпадение сыграло роль
последней капли, переполнявшей
чашу. Если к маю

В этих новых обстоятельствах мусульмане Африканского Рога, которые прежде, по словам аль-Омари, «прибегали под руку царя Амхары и находились под его властью, в своем унижении и бедности платя ему указываемую дань» (цит. по [82, с. 73]), увидели в христианской Эфиопии уже не сюзерена, а непримиримого врага, которому необходимо было противопоставить «твердое единство». Им не было нужды вырабатывать самим историческую форму такого единства, так как она давно существовала на Арабском Востоке. Этой формой, было теократическое государство, управляемое согласно шариату имамами (предводителями правоверных), эмирами (военачальниками) и кадиями (судьями), с халифом (т. е. имамом ех оfficio) во главе. В этом идеальном государстве экономическая, политическая и общественная жизнь должна регулироваться в соответствии с требованиями ислама. Подобный «наднациональный» характер мусульманской государственности был весьма привлекателен как раз в тех случаях, когда возникала потребность «держаться заодно и сменить соперничество на твердое единство» (цит. по [82, с. 72]).
...Так идея халифата, уже изжившая себя к XVI в. на Арабском Востоке, неожиданно возродилась на Африканском Роге. Такое регулярное обращение мусульман самых различных регионов к старой идее теократического идеального государства (ведущая в конечном счете к махдизму как общественно-религиозному явлению) породила недавно в западной исторической науке особую концепцию «возвращающегося ислама». Б. Льюис в своей статье, так и озаглавленной «Возвращение ислама», объясняет это обстоятельство особенностями ислама как религии: «С самого своего появления ислам выступает религией власти, и с точки зрения мусульманского мира это правильно и справедливо, если власть принадлежит мусульманам и только мусульманам. Прочие могут пользоваться терпимостью и даже благоволением в мусульманском государстве, но лишь в. том случае, когда они безоговорочно признают мусульманское превосходство. Если мусульмане правят немусульманами — это справедливо и естественно; если же немусульмане травят мусульманами — это вызов законам бога и природы... Ислам со времени жизни своего основателя являлся, государством» [64, с. 39—40].
Последнее утверждение далеко не бесспорно; однако следует, признать, что Б. Льюис достаточно точно сформулировал отношение мусульман к иноверцам.. Таким в начале XVI в. оказался в условиях обострившегося христиано-мусульманского противоборства ответ мусульман Африканского Рога на притязания эфиопских царей, высказанные еще Амда Сионом: «Ибо я царь над всеми мусульманами земли Эфиопской» [24, с. 24]. И в этом регионе мусульмане, объединенные общим несчастьем — упадком красноморской и индийской торговли,— высказали гораздо большую сплоченность, нежели христиане. В царствование Лебна Денгеля перебежчики в мусульманский лагерь из среды христианского войска были столь же обычны, как и в правление его отца, Наода.
Об этом свидетельствует тот же Алвариш, повествуя о победе Лебна Денгеля над имамом Махфузом и султаном Мухаммедом: «Говорят, что там был большой перевал, который царь Адаля прошел за день до этого, и расположился на расстоянии полулиги от страны Пресвитера поодаль от дороги; а Пресвитер расположился в стране Адаль. Когда наступил ясный день, они увидели друг друга, и говорят, что как только Махфуз увидел лагерь Пресвитера и увидел красные палатки, которые разбивают лишь для больших праздников и приемов, он сказал царю Адаля: „Государь, здесь сам негус эфиопский; нынешний день — день смерти нашей, опасайтесь, коль можете, ибо я умру здесь". Говорят, что царь спасся с четырьмя всадниками, и одним из этих четырех был сын Бетудете (бехт-вадада.— С. Ч.), который был с царем Адаля, а сейчас — с Пресвитером при его дворе, ибо они ничтоже сумяяпгеся присоединяются к маврам и становятся маврами, а если захотят вернуться, то крестятся вновь, получают прощение и становятся христианами, как и прежде. Он и рассказал, что происходило у них» [29, с. 308—309].
В
то же самое время в мусульманской
среде шел прямо противоположный:
процесс объединения всех
недовольных под знаменем джихада.
Свидетельством этому могут служить
уже: успехи Махфуза, принявшего
титул имама и собравшего значительное
по размерам войско. За успехами
Махфуза внимательно следили и его
единоверцы в Аравии, а старейшины
Мекки послали ему в подарок шатер
и знамя. В этих условиях общемусульманской
консолидации простой военный успех
христиан не мог остановить всего
процесса в целом. Так, собственно,
и случилось после гибели Махфуза.
Хотя султан Мухаммед, никогда не
пользовавшийся большим
авторитетом, да к тому же еще и
скомпрометировавший себя бегством
с поля брани, на котором погиб
Махфуз, был убит в
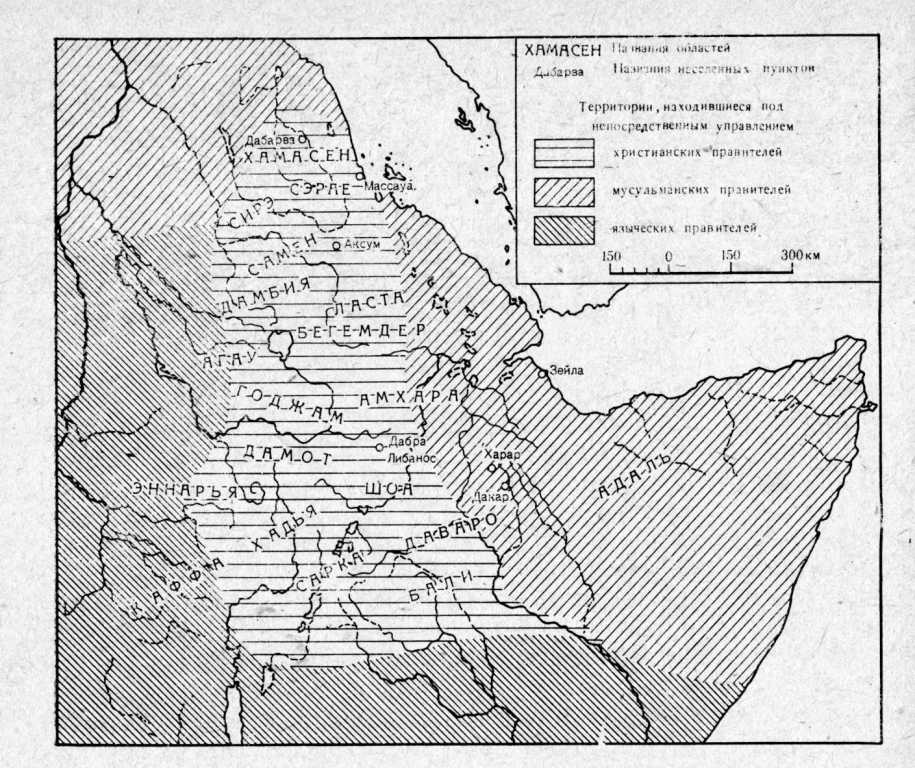
Эфиопия в эпоху нашествия имама Ахмада Граня
В стране умножались пророчества и вещие сны о грядущем явлении «имама последних дней», т. е. Махди [34, с. 27—29]. Причем идея грядущего Махди, который и создаст идеальное государство ислама, прямо связывалась в народном сознании с необходимостью ведения «священной войны» против христианской Эфиопии. Это видно из следующих строк Шихаб эд-Дина: «Люди, на чье слово я могу положиться, такие, как Али ибн Салах аль-Джебеля и Ахмад ибн Тахир аль-Мар'уви, говорили мне, что они слышали рассказ человека, по имени Саад ибн Юнус аль-Арджи: „Однажды ночью, когда я спал, я увидел Пророка с Абу Бакром ас-Сиддиком одесную и Омаром ибн аль-Хаттабом ошую, а перед, ним стоял Али ибн Абу Талиб, а перед Али стоял ямам Ахмад ибн Ибрагим. Я сказал: „О пророк Аллаха, кто этот человек перед Али ибн Абу Талибом? " Он сказал: „Через этого человека Аллах преобразует Абиссинию". Во времена этого видения имам был простым воином, и видевший этот сон никогда не видел его, кроме как во сне подле Али. Во времена Гарада Абуна видевший сон пришел в Харар и рассказал свое видение горожанам, которые спросили его: „Это его (Абуна) ты видел в своем сне?". Но он ответил: „Нет"». [34, с. 29—30]. Так вызревала и идея «имама последних дней» и идея «священной войны» против Эфиопии. Не хватало лишь человека, предводителя, способного возглавить это растущее движение. Однако продолжающаяся борьба за власть в Адале рано или поздно должна была его выдвинуть.
В христианской Эфиопии, однако, не замечали этого весьма опасного для них процесса. Царь Лебна Денгель, увлеченный своей победой над грозным Махфузом, поспешил закрепить ее: «Через немного дней после этого он замыслил и решил итти в землю Адаль, ибо обыкновенно победитель желает битвы и сражения, как елень желает на источники водные; также и побежденный не желает битвы, будучи побежден один раз Он собрал войско по его чинам и племенам и вторгся в землю Адаль, сжег ее города, разрушил их укрепления. Затем, придя в землю Занкар уничтожил высоко построенный и дивно сооруженный царский замок, и ничего не оставил неразрушенным, ни замка, ни мечети. Никто не осмеливался сразиться с ним, ибо устранил их ужас того дня его победы, о котором мы упоминали выше. И он пленил из всех городов мужчин и женщин, старых и малых и вернулся благополучно» [24, с. 120].
Казалось,
решительная политика молодого
эфиопского царя принесла гораздо
больший эффект, нежели
осторожность старой царицы Елены,
рассылавшей безответные
посольства то в Индию к
португальцам, то в Египет «
мамлюкам. Все это заставляло Лебна
Денгеля весьма критически
относиться к прежним инициативам
Елены и, в частности к миссии Матфея,
о котором до
4. Португальское посольство ко двору «Пресвитера Иоанна»
Тем
временем в Индии на посту вице-короля
Лопу Суариша де Албергардия сменил
энергичный Диегу Лопиш де Секеира (1518—1521),
который решил доставить-таки
португальское посольство в Эфиопию.
Он отплыл из Гоа 13 февраля
Однако дело, вероятно, было не только в этом. Когда Лопиш де Секейра достиг 9 апреля Массауа, его встретила депутация местных христиан из Аркико и «они спросили Алехандре де Атайде, который был переводчиком, не имеют ли они (т. е. португальцы.— С. Ч.) вестей о человеке, по имени Матфей, который отправился искать их. Они ответили „нет" и стали спрашивать, что за человек этот Матфей и кто послал его. И они сказали „нет" для того, чтобы выведать у них всю правду, какую можно, и увидеть, был ли тот настоящим послом Пресвитера Иоанна, из-за своих сомнений по этому поводу. Они (т. е. эфиопы. — С. Ч.) сказали, что он был человеком из Каира, которому Пресвитер Иоанн дал такое поручение, и что по его приказу он час-то приходил в их места доставать разные вещи; и что он был также доверенным лицом царицы Елены, матери указанного Пресвитера, и приходил добывать все вещи, которые были ей нужны, из этих гаваней, то бишь Массауа, Декамим и Дахлак; и что Пресвитер Иоанн послал его со своим посольством и письмами к королю, нашему господину. Тогда капитан-майор (т. е. Секейра.— С. Ч.) сказал им, что он (т. е. Матфей.— С. Ч.) прибыл с ним и призвал его на корабль „Сан Педру", на борту которого находился он сам» (32; цит. по [80, с. 70]).
Португальцы были в восторге. Их тяжелые сомнения рассеялись, и радость по этому поводу, сменившая обычную настороженность, помешала им обратить внимание на некоторые более чем подозрительные детали разговора. В самом деле, получалось так, что эфиопы больше искали Матфея, посланного за португальцами, нежели самих португальцев. Подобные неумеренные заботы о собственных слугах были менее всего характерны для монархов — эфиопских, португальских или любых других. Далее, эфиопская депутация из Аркико знала не только прежние функции Матфея при эфиопском дворе (что, в общем-то не удивительно, ибо Матфей часто бывал в Аркико, выполняя царские поручения). Удивительно другое: для жителей Аркико, оказывается, было не секрет, куда и зачем эфиопский царь отослал Матфея в последний раз. А это уже была государственная тайна, и португальцы об этом знали, так как в «Хронике де Ал-букерки» прямо говорится: «Посол (т. е. Матфей.— С. Ч.) ответил, что он прибыл через Зейлу и что только в тот час, когда Пресвитер Иоанн призвал его для отправления в путь, он открыл ему также и его путь, не сообщив его более никому, и что тогда он вручил ему письма для короля Португалии, не сказав кроме этого ничего, и что он должен был пробраться в Индию и просить генерал-губернатора дать ему проезд в Португалию, поскольку знай при дворе Пресвитера Иоанна, что он отправлен с посланием к королю Португалии, то никак бы ему не пройти через земли мавров без великой для себя опасности» [53, с. 262].
В этих условиях сам Матфей вряд ли рискнул бы проболтаться о цели своей поездки и сути царского поручения. К тому же он ехал через Зейлу, а не через Аркико. То обстоятельство, что великая тайна, которой была покрыта его миссия в Португалию, оказалась известна всему красноморокому базару и что Лебна Денгель дал христианам побережья приказ разыскивать Матфея, грозило опасностью для несчастного посланца. Причём опасность подстерегала его уже не в «земле мавров», а в стране того самого «Пресвитера Иоанна», к которому он вел ответное посольство.
Действительно,
за десять лет отсутствия Матфея
многое переменилось при эфиопском
дворе. Старая царица Елена сошла с
политической сцены и удалилась в
свой удел в Годжаме. Она по-прежнему
пользовалась большим уважением и
популярностью в народе [29, с. 321], но
Лебна Денгель уже сам взял бразды
государственного правления и не
склонен был терпеть над собой чьей
бы то ни было опеки. Его военные
победы над мусульманами, от чего,
эфиопские христиане в XVI в. уже успели
отвыкнуть, внушили ему мысль о
ненужности и, пожалуй, даже
вредности привлечения такого
слишком могущественного союзника,
как португальцы. Та обстановка на
Африканском Роге, которая
сложилась к
Первой жертвою такой резкой перемены политического курса был Матфей, этот единственный исполнитель и свидетель дипломатической инициативы царицы Елены. Депутация жителей Аркико, вполне подтвердившая его полномочия в глазах португальцев, также обрадовала его. Эфиопы, видевшие в каждом белом христианине жителя или паломника иерусалимского и относившиеся к ним с величайшим почтением, устроили Матфею самый торжественный прием: «Матфей прибыл; тут они (т. е. эфиопы. — С. Ч.) выказали превеликое удовольствие и целовали ему руки. А Матфей со многими слезами воздал благодарение, господу нашему, ибо тот привел его вовремя, дабы показать, что его посольство истинно и (сказал), что теперь он ставит ни во что все пережитые трудности, и другие достойные слова (оказал он). И он велел «казать начальнику Аркико тут же послать к Барнегаису (т. е. бахр-нагашу — наместнику приморской провинции Эфиопии.— С. Ч.) и к монахам, ибо, хотя тогда были праздничные дни, для них это была служба господу придти и встретить христиан. И они ушли очень радостными с этими вестями. А на следующий день много людей пришло посмотреть на Матфея, и они спрашивали „абуну Матеуса", что означает „отца нашего Матфея". И все они целовали его руку и его одежды и выказывали ему другие знаки величайшего почтения» (32; цит. по [80, с. 70]).
Однако после переговоров с бахр-нагашем и после отправления посольства в путь ко двору вся сложность той ситуации, в которой он оказался, стала постепенно доходить до Матфея. Он понял, что «все пережитые им трудности» во время десятилетнего путешествия и опасности в «стране мавров» действительно ничто по сравнению с ожидавшим его в Эфиопии. Ф. Алвариш, духовник и историограф португальского посольства, с недоумением описывает приступы необъяснимой, на его взгляд, паники, которая временами охватывала Матфея: «Когда мы там отдыхали у русла реки, туда к нам прибыл знатный, человек, по имени Фрей (Фэре.— С. Ч.) Маскаль, что на нашем языке означает „слуга (вернее, плод.— С. Ч.) креста". Он при всей своей черноте был знатным человеком, по его словам, своякам бахр-нагаша, братом его жены. Перед приходом к нам он спешился, поскольку таков их обычай, и они почитают это за любезность. Посол Матфей, услышав о его прибытии, оказал, что он разбойник и что он пришел ограбить нас, и велел нам взяться за оружие; и сам он, Матфей, взял свой меч и надел шлем на голову. Фрей Маскаль, видя это смятение, послал спросить разрешения, чтобы придти к нам. Матфей все еще сомневался» « в это время тот прибыл к нам как человек хорошо воспитанный, образованный и любезный... По своей речи, разговору, вопросам и ответам он был человеком осведомленным и любезным, а посол Матфей не мог переносить его, говоря, что он разбойник» [29, с. 12]. .
Страхов Матфея не могло утишить ничто. Он всячески пытался отделаться от Фэре Маскаля и задержать отправление посольства ко двору. Седьмая глава повествования Ф. Алвариша так и называется: «Как Матфей заставил нас уйти с дороги и путешествовать через горы по сухому руслу реки». И Фэре Маскаль и португальцы требовали идти прямо караванным путем. Матфей же всеми правдами и неправдами стремился увлечь их к монастырю Дабра Бизан: «Когда настал час отдыха, Матфей все настаивал на том, чтобы уйти с проезжей дороги и идти в монастырь Визам (Бизан.— С. Ч.); мы держали совет с Фрей Маскалем, который сказал нам, что дорога к монастырю такова, что груз на спине туда не дотащить, а что мы уходим с проезжей дороги, по которой ходят караваны христиан и мавров, и никто не причиняет им никакого зла, и что тем более не причинят зла нам, которые путешествуют на службе бога и Пресвитера Иоанна... Видя это, Матфей умолял меня обратиться к дону. Родригу и ко всем другим и уговорить их идти к монастырю Визам, поскольку это очень важно для него, и что он останется там не более шести или семи дней (а остался там навеки, ибо он умер там); и что, когда пройдут эти семь или восемь дней, в которые он будет торговать тем, что принадлежит ему, мы в добрый час вернемся на нашу дорогу» [29, с. 14—15].
Добродушный и по-своему весьма проницательный отец Франсишку, видя отчаяние Матфея, наполнил его просьбу и уговорил португальцев зайти в Дабра Бизан. Дорога была, действительно, тяжела; так как обычно эфиопские монастыри располагаются на вершинах труднодоступных гор, что обеспечивав ло им относительную безопасность, добраться туда бывает не легко. Идя неизвестно «уда и изнемогая под тяжестью груза, португальцы роптали и на Матфея и на Ф. Алвариша: «Всем казалось, что Матфей завел нас сюда, желая убить нас; и все обратились против меня, ибо я сделал это»,— писал Алвариш [29, с. 15]. Фэре Маскаль же, неизвестно из каких соображений присоединившийся к португальскому каравану, последовал за ними и в Дабра Бизан. В мае, в день обретения креста они прибыли к монастырю св. Михаила, одному из монастырей Дабра-Бизанской конгрегации. Португальцы отслужили праздничную мессу и устроили обед. Фэре Маскаль, видя, что португальцы, действительно, пришли во владения Дабра Бизана, не пошел в монастырь, а после обеда покинул их и ушел восвояси, Португальцы же расположились в монастыре св. Михаила.
Однако здесь Матфей вместо того, чтобы заняться торговлей, объявил португальцам об отправленном им письме ко двору для царя, царицы Елены и для митрополита, что ответ придет дней через 40, а пока нужно ждать, так как лишь по получении ответа они получат вьючных животных для их груза. Кроме того, путешествие немыслимо из-за начала сезона дождей. Португальцы поняли, что Матфей провел их, но причины этого обмана остались им непонятны. Во всей этой истории, действительно, неясного млого. Матфей так рвался в Эфиопию и стремился доказать несправедливость португальских подозрений в том, что он не тот, за кого себя выдает. А тут, когда он уже в качестве полноправного посла ехал ко двору, Матфей вдруг стал делать все возможное, чтобы оттянуть свое возвращение и остаться в монастыре. Совершенно непонятен и его страх перед Фзре Маскалем, весьма знатным человеком, которого даже португальцы не могли принять за разбойника с большой дороги. Кому-кому, а уж Матфею, много лет подвизавшемуся при эфиопском дворе и по делам службы часто посещавшему приморские провинции, следовало бы знать этого свояка бахр-нагаша.
Вывод напрашивается только один: Матфей боялся Фэре Маскаля именно потому, что знал его и знал хорошо. Видимо, высадившись на эфиопский берег и поговорив со своими старыми эфиопскими знакомыми, Матфей понял, что прибыл не вовремя. В новой обстановке, сложившейся после побед Лебна Деятеля, Матфей со своими португальцами был совсем не нужен царю. Так положение Матфея оказалось отчаянным: с одной стороны, для него самого лучше было бы переждать; с другой стороны, португальское, посольство горело желанием выполнить волю своего короля и спешило ко двору «Пресвитера Иоанна». Встретив по дороге Фэре Маскаля, этого, по-видимому, действительно знатного человека, а может быть и уполномоченного Лебна Денгеля, Матфей напугался по-настоящему. То, что эта встреча не была случайной, свидетельствует все поведение Фэре Маскаля. Поговорив с послом, доном Родригу да Лимой, он не расстался с португальцами, а стал сопровождать их повсюду. Тогда Матфей увидел свое единственное спасение в близком монастыре Дабра Бизан. Этот монастырь играл не последнюю роль в приморской торговле, и Матфей, по-видимому, имел с ним прочные деловые связи еще со времен своей придворной службы. Кроме того, крупные эфиопские монастыри, вроде Дабра Бизана, традиционно обладали правом убежища, нарушать которое не смели и цари. Там действительно можно было отсидеться какое-то время, за которое Матфей надеялся восстановить свои прежние связи с царицей Еленой, двором и митрополитом и просить их о заступничестве перед царем. Недаром он посылал из монастыря свои письма.
Однако после праздничного обеда в день обретения креста и отъезда Фэре Маскаля события в монастыре св. Михаила стали развиваться очень быстро. Как пишет Ф. Алвариш,. «через несколько дней по нашему прибытии люди заболели, и португальцы, и наши рабы, мало или никого не осталось не заболевших, и многие подвергались смертельной.опасности от многого кровопускания и слабительного. Среди первых заболел господин Жуан 15, и не было у нас другого целителя. Господь благоволил, чтобы понос с кровопусканием пришли к нему сами собой, и он обрел здоровье. После этого болезнь напала на других со всей своей силой; среди них заболел и посол Матфей, и пользовали его многими лекарствами» [29, с. 18]. Ч. Рей, описывавший впоследствии приключения португальцев в Эфиопии, с ужасом говорит об этих лекарствах, «усердных кровопусканиях и сильном слабительном», считая их «хуже самой болезни» [71, с. 44].
Вероятно, однако, португальцы знали, что делали, прибегая к столь сильным средствам: симптомы болезни «господина Жуана» довольно ясно указывают не столько на чуму, как назвал эту болезнь Ч. Рей, сколько на отравление. К тому же эта болезнь не коснулась монахов монастыря св. Михаила. Заболели только португальцы и их рабы. Видимо, они сами сделали из этого соответствующие выводы, ведь португальцы знали толк и в ядах и в отравлениях. Как писал век спустя один капитан, «португальцы — столь искусные отравители, что... когда они отрезают кусок мяса, та сторона, которую они хотят дать врагу, будет отравлена ядом, в то время как другой его даже не почувствует, поскольку нож отравлен только с одной стороны» (цит. по [26, с. 192]). Возможно, португальцы выздоровели не «несмотря на свои лекарства», как пишет Ч. Рей, а благодаря им.
Португальцы вылечили и Матфея, однако это не спасло его от смерти. Считая, что опасность миновала, он начал хлопотать о своих товарах и покинул на время португальцев, отправившись в монастырскую деревню Жангаргара. Алвариш пишет об этом: «Он отправил туда свой груз и сам отправился с ним, а через два дня по прибытии прислал за господином (Жуаном.— С. Ч.), так как снова заболел. Тот оставил всех больных, а вслед за ним не стали мешкать и мы, посол дон Родригу и я, отправились навестить его и обнаружили его весьма страдающим. Дон Родригу вернулся, а я оставался с ним три дня, и исповедал его и причастил св. тайн, а по окончанию трех дней он умер 23 мая 1520 года» [29, с. 18—19].
Перед смертью Матфей все товары отписал своей старинной благодетельнице царице Елене, которой он верно служил и на службе которой он умер. Умер ли он от болезни или от яда (а это в таком случае заставляет считать причиной его смерти Фзре Маскаля и праздничный обед в день обретения креста), в любом случае его смерть имела то немаловажное значение, что она развязывала руки Лебна Денгелю. Царь избавился таким образом от единственного свидетеля, способного подтвердить обязательства, данные Еленой португальцам от имени малолет-него царя, которые, однако, взрослый царь признавать уже не хотел. Впрочем, португальцы далеко не сразу почувствовали перемену. Для этого нужно было, чтобы вести о смерти Матфея дошли до царя, а новые царские инструкции достигли португальского посольства.
Между тем положение португальцев было незавидным: свернув по непонятной для себя причине на несколько дней в Дабра Бизан, они задержались там надолго, до сезона дождей, и лишились своего проводника Матфея, который, как они думали, обеспечит им свободный проезд по незнакомой стране и благожелательный прием при дворе «Пресвитера Иоанна». Бизанские монахи, безусловно, лучше понимали всю сложность ситуации и отнюдь не радовались столь опасным гостям, однако боялись и отпускать их без царской на то воли, а не только способствовать их отъезду. Они умоляли португальцев подождать до приезда их настоятеля, который был тогда при царском дворе и, вернувшись, так или иначе мог решить этот вопрос.
Однако неукротимый да Лима не мог сидеть в бездействии. Несмотря на то, что он (как, впрочем, и все остальные португальцы) поклялся монахам на распятии не предпринимать ничего до возвращения дабра-бизанского настоятеля, португальский посол все же послал к бахр-нагашу просить о вьючных животных для своего дальнейшего путешествия. Не быстро, спустя месяц, бахр-нагаш прислал животных, которые прибыли в монастырь 4 июня, когда дождливый сезон уже начался. Животных было недостаточно, и часть груза португальцам пришлось оставить на хранение в монастыре.
Можно было бы удивляться, отчего бахр-нагаш вообще пожелал вмешиваться в эту историю и пришел на помощь португальцам. Однако его собственное положение здесь было также в достаточной мере сложным. С одной стороны, бахр-нагаш был, безусловно, осведомлен, что португальцы для царя — далеко не желанные гости. С другой стороны, наместник приморской провинпии с вполне понятным страхом относился к португальцам, господствовавшим в Индийском океане и часто рейдировавшим в Красном море. К тому же, когда в апреле португальцы высадились в Массауа, Лопиш де Секейра, вице-король Индии и командующий флотом, вел переговоры с бахр-нагашем, и они целовали друг другу крест в вечной дружбе. Какое бы решение ни принял эфиопский царь и какая бы участь ни постигла португальское посольство, бахр-нагаш был прежде всего заинтересован в том, чтобы самому остаться в стороне и чтобы никаких неприятностей не случилось с португальцами в пределах его провинции. В то же время он не желал и скомпрометировать себя в глазах эфиопского царя и выглядеть в качестве пособника португальцев. Поэтому на прямо высказанную просьбу да Лимы (который, кстати, напомнил бахр-нагашу о крестном целовании) бахр-нагаш прислал умеренное количество вьючных животных и устранился от дальнейшего участия в португальских делах.
Португальцы отважно пустились в путь в разгар дождливого сезона. Помимо невероятных трудностей путешествия по размокшим склонам крутых гор они на собственном горьком опыте познакомились с участью «частного путешественника» в Эфиопии — понятия, совершенно чуждого эфиопам. Если в Эфиопии человек путешествовал на большие расстояния по царскому поручению, то в таком случае на местное население и администрацию возлагалась обязанность размещать его на отдых, кормить, поить и снабжать вьючными и верховыми животными. Купцы по своим торговым делам ездили обычно в составе больших караванов с надежной охраной и в определенное время года. Они встречали прием и заботу у своих многочисленных контрагентов, живших в деревнях, расположенных вдоль караванных путей. Путешествуя из года в год, как правило, одними и теми же маршрутами, купцы были хорошо известны местному населению, среди которого имели разнообразные деловые и дружеские связи. Вообще же путешествия в Эфиопии считались делом трудным и опасным. Когда необходимость заставляла эфиопа отправляться в далекий путь, он предпочитал не спешить, а выждать несколько месяцев и присоединиться к каравану единог верцев. Теряя в скорости, он значительно выигрывал в безопаст ности пути. Если же путешественник не желал довольствоваться скромным положением человека, примкнувшего к чужому каравану, и ехал самостоятельно, не имея ни царского предписания, ни связей среди местного населения, он оказывался в полот жении не только опасном, но и затруднительном. Ему неизбежно приходилось сталкиваться с вымогательством со стороны местных властей и страхом и недоброжелательством местного населения, уставшего от содержания проезжающих нахлебников, требовательных и наглых, как и все царские слуги, начиная со знатного придворного и кончая последним солдатом.
Все это пришлось испытать и португальцам. В конце концов, когда окончательно выяснилось, что собственными усилиями им далеко не уехать, а от бахр-нагаша помощи ждать нечего, дон Родригу оставил свой караван на месте, а сам с небольшим эскортом отправился в Тигре, чтобы заручиться поддержкой; наместника этой провинции. Действительно, опыт подтверждал, что без содействия местных властей путешествие в Эфиопии невозможно. Расчет посла оказался верным, и все остальные португальцы получили от дона Родригу известие, что люди наместника Тигре будут ждать их с вьючными животными у пограничной р. Мареб. Однако и наместник Тигре пригласил к себе португальцев не столько для помощи в их дальнейшем продвижении к царскому двору (а на это он, собственно, не, имел и права без царского на то приказа), сколько для того, чтобы не отстать от своего соседа и соперника, бахр-нагаша, который уже успел завязать дружественные связи с могущественными португальцами.
Следует оказать, что у местной знати португальцы вызывали вполне понятное любопытство, умеряемое, впрочем, царским к ним нерасположением. Насколько роль «частных путешественников» ставила португальцев в изолированное положение, показывает их встреча с бальгада 16 Робелем. Наместник Тигре поместил португальцев как своих гостей в так называемый бетенегус, (буквально «царский дом»). Подобные дома имелись во всех эфиопских провинциях, и в случае нужды там мог располагаться либо сам царь, либо его наместник или посланец во время своих поездок тю стране. Местные жители не имели права не только заходить туда, но даже приближаться к этим домам без вызова. Таким образом, португальцы оказались достаточно хорошо изолированными от местного населения и посетителей без малейшего насилия над ними со стороны властей. Не имея вьючных животных, они были лишены и возможности передвижения по собственному желанию. Местное же население и не пыталось общаться с такими гостями.
Бальгада Робель, будучи человеком высокопоставленным и, по-видимому, любопытным, тем не менее рискнул. Вот как описывает эту встречу Алвариш: «Когда мы были там, прибыл весьма знатный человек, по имени Робель, а его должность называется бальгада, и потому его зовут бальгада Робель. С ним прибыло много людей верхом на мулах и на конях, и они вели парадных мулов с барабанами. Этот знатный человек является подданным Тигримахома (т. е. наместника Тигре.— С. Ч.). Этот вельможа прислал просить посла выйти и поговорить с ним вне бетенегуса и его дома, поскольку он не может войти туда, если там нет Тигримахома: потому что, как я уже писал, они весьма почитают эти беты, которые стоят с открытыми дверями и никто в них не входит, говоря, что это запрещено под страхом смерти каждому заходить в любой бетенегус, когда там нет его господина, который управляет страной от имени Пресвитера Иоанна. Когда прибыло это известие, посол велел сказать ему, что он прошел расстояние в пять тысяч лиг, и если кто-нибудь хочет увидеть его, пусть приходит в его дом, а он никуда не выйдет. Тогда этот вельможа прислал корову и большой горшок меда, «белого, как снег, и твердого, как камень, и прислал сказать, что ради разговора с послом он придет в бетенегус и его помилуют от наказания ради иноземных христиан. Когда он прибыл к бету, был такой дождь, что он вынужден был войти внутрь, и он говорил с послом и со всеми нами о нашем прибытии и о христианстве в наших странах, которые им неизвестны. После этого он говорил о войнах, которые они вели с маврами, которые отняли у них приморские страны, и что они не перестают с ними воевать; и он дал очень хорошего мула за меч, и посол дал ему шлем. Мы узнали потом при дворе, где часто видели этого вельможу, что он великий воитель, постоянно занятый войнами, и, как нам сказали, весьма в них удачлив» [29, с. 97—98].
Излишняя самоуверенность постоянно вредила дону Родригу. Не желая понимать чужого положения, он не мог правильно оценить и своего собственного, а оно было далеко не завидным. Он всячески рвался ко двору, куда его никто не звал, и настаивал на скорейшем отправлении в путь, хотя многие эфиопы удерживали его от этого и давали понять, что не видят в этом, ничего хорошего. Наконец дон Родригу вынудил наместника Тигре отправить его в путь и дать ему эфиопский эскорт. Это уже ставило португальцев в положение официальных гостей, а со стороны наместника было некоторым превышением власти. Пострадать за это пришлось начальнику эфиопского эскорта. При дворе было решено после смерти Матфея, развязавшей царю руки, на всякий случай принять португальцев, а уж потом посмотреть, что делать с ними и с их предложениями. Леб-на Денгель послал к ним своих людей во главе с монахом Цега Зеабом, который, видимо, был выбран для этой миссии как человек бывалый.
Когда Цега Зеаб встретил португальцев, уже направляющихся ко двору со своим эскортом, он, не говоря худого слова, «сразу же схватил начальника (эфиопского эскорта.— С. Ч.), который отвечал за наш груз, за голову и принялся его бить» [29, с. 100]. Португальцы, завидев такую встречу, бросились к монаху с оружием в руках и чуть «е убили его. Как пишет Алвариш, «случилось, что он говорил немного по-итальянски, а там был Жоржи д'Абреу, который его немного понимает; когда бы не это, да не я, который увидал его клобук и сказал, что это монах, это бы для него так не обошлось. Дело кончилось примирением, и монах рассказал, что он прибыл по приказу Пресвитера Иоанна доставить наш груз и он дивится на этого начальника и поступил с ним так из-за того, что тот плохо снарядил нас в дорогу» [29, с. 100]. Начальник эскорта, действительно, обращался с португальским грузом не лучшим образом, однако вряд ли ярость Цега Зеаба была вызвана этим обстоятельством, так как сразу разглядеть состояние груза не было возможности. Скорее всего начальник эфиопского эскорта был побит не за плохое исполнение своих обязанностей, а за то, что он вообще взялся их исполнять без царского на то повеления. Все происшедшее, однако, ничуть не омрачило португальской уверенности в том, что при дворе их ожидает самый лучший прием.
В
этом португальцам пришлось очень
скоро и жестоко разочароваться.
Все шло хорошо, пока 17 октября
Таким образом, эфиопский двор, воспользовавшись смертью Матфея, перечеркнул все предыдущие переговоры с португальцами, которые Матфей вел от имени «Пресвитера Иоанна», и начал их сызнова с посольством во главе с доном Родригу. Здесь, однако, уже португальцам отводилась малоприятная роль инициаторов и заинтересованной стороны, а эфиопы получали все возможности присматриваться к своим гостям, знакомиться через них с новым для них европейским миром, причем делать это не спеша, тянуть время и не брать на себя никаких обременительных обязательств.
При этом эфиопская сторона не стеснялась подчеркивать превосходство своего положения. Португальцев неоднократно вызывали к Лебна Денгелю, долго держали перед шатром, а потом отправляли обратно несолоно хлебавшими, о чем со свойственным ему крестьянским юмором рассказывал Ф. Алвариш: «Так мы и остались, как павлин: как он то распускает хвост и радуется, то складывает его и печалится, так и мы радовались, отправляясь, и печалились, возвращаясь» [29, с. 179—180]. Все это крайне раздражало и самих португальцев и позднейших европейских исследователей Эфиопии. Согласно Ч. Рею, «с другой стороны, Лебна Денгель не хотел отвечать португальской миссии и прямым отказом, и потому он использовал тактику, которая весьма характерна и для современных абиссинцев, и увиливал, тянул и уклонялся неделя за неделей и месяц за месяцем» [71, с. 79].
С португальской точки зрения это было именно так. С точки зрения европейской дипломатии конца XIX — начала XX в. это было тоже так. Однако с точки зрения эфиопов, столкнувшихся с посланцами мощной европейской державы, проводящей политику широчайшей военной экспансии, державой, чья польза была сомнительной, а опасность, безусловно, большой, политика проволочек и оттяжек в переговорах, общих заверений в дружбе без каких-либо конкретных обязательств — такая политика была единственным разумным выходом из создавшегося щекотливого положения. Не удивительно, что многие эфиопские правители занимали аналогичную позицию и гораздо позже, уже в XIX в., когда оказывались лицом к лицу с настойчивыми представителями европейских колониальных держав, первое место среди которых принадлежало Великобритании. Поэтому английское раздражение Ч. Рея вполне понятно.
Впрочем,
Лебна Денгель не только тянул время.
Он также внимательно
присматривался к португальцам и
старался составить по возможности
полное представление как о них
самих, так и о Португалии и
португальском монархе.
Португальским посланцам
задавались самые разнообразные
вопросы, начиная с того, «женат ли
король Португалии, сколько, у него
жен и сколько крепостей в Индии», и
кончая гаросьбами показать бой на
мечах и португальские танцы. Среди
прочих вопросов были и такие,
которые прямо затрагивали жгучие
вопросы христиано-мусульманского
противоборства: «Кто научил мавров
делать мушкеты и бомбарды, и когда
они стреляют друг в друга, они в
португальцев, а португальцы в них,
кто болыце страшится, мавры или
португальцы? Каждый вопрос
задавался отдельно, и ответы
давались отдельно; что до страха
перед бомбардами, то так как
португальцев укрепляет вера в
Иисуса Христа, они не боятся мавров;
а если бы боялись, то не отправились
бы они в столь долгий путь без
надобности искать их. Что же до изготовления
мушкетов и бомбард, то мавры — люди,
обладающие знанием и умением, как
все прочие люди. Когда спросили,
есть ли у турок хорошие бомбарды,
посол ответил, что их так же хороши,
как и наши, но мы не боимся их,
потому что мы воюем за веру Иисуса
Христа, а они против нее. Он (Лебна
Денгель.— С. Ч.) спросил, кто
научил турок делать бомбарды. Ответ
был дан таков же, как и относительно
мавров, т. е., что турки — люди и
имеют человеческий разум и
познания, совершенные во всех
отношениях, кроме веры» [29, с. 184—185].
Немало вопросов выпало и на долю Ф. Алвариша как священника и духовника португальского посольства. Ему пришлось не только чуть ли не в лицах представить и объяснить Лебна Денгелю всю католическую мессу, но я не раз беседовать о сложных богословских вопросах и пересказывать и показывать жития католических святых: Иеронима, Франциска, Доминика, Кирика и папы Льва. Столь большое внимание, уделяемое религиозным вопросам, — вполне естественно. Средневековые общества, каковыми в начале XVI в. являлись и Эфиопия и Португалия, были вполне равнодушны к расовым различиям, и это с достаточной ясностью видно как из отношения португальцев к эфиопам, так и эфиолов к португальцам. К вероисповедным же вопросам, напротив, был самый жгучий интерес. Политический союз был возможен лишь при непременном условии единства вероисповедного, и не случайно, что и эфиопы и португальцы внимательнейшим образом рассматривали и оценивали как обрядовую, так и догматическую стороны веры друг друга.
Первое знакомство вполне удовлетворило обе стороны в этом отношении, тем более, что отец Франсишку, представлявший католическую веру царю Лебна Денгелю и сам оценивавший эфиопскую веру, отличался большой широтой взглядов. Однако такое первоначальное согласие в вопросах веры было хотя и необходимым, но далеко не достаточным условием для союза политического.
Результат португальского посольства, которое не завершилось заключением политического союза, нередко объясняют фатальной несовместимостью личных качеств пылкого до бестактности Родригу да Лима и осторожного и недалекого Лебна Денгеля, неспособного оценить всю опасность растущей мусульманской угрозы. Эти качества договаривающихся сторон, безусловно, не могли не иметь значение для исхода переговоров, однако трудно не заметить, что и пылкость португальского посла и осторожность эфиопского монарха были, если угодно, исторически обусловлены.
Дон Родригу да Лима, прошедший под знаменем своего короля огнем и мечом полмира и бывший свидетелем без преувеличения поразительных побед португальского оружия, менее всего был склонен выжидать и дипломатничать. Когда перед ним вставала проблема, он решал ее быстро и просто, мало задумываясь над возможными последствиями. Например, Лебна Денгель просил дона Родригу сделать эфиопскими буквами надписи на подаренной ему португальцами карте мира, да Лима ничтоже сумняшеся обозначил всю Португалию как Лиссабон, а Испанию как Севилью из опасения, что небольшие размеры этих стран не произведут должного впечатления на эфиопского даря. Неизбежным результатом столь неловкого обмана было его разоблачение, после чего Лебна Денгель послал сказать португальцам о своем сомнении, чтобы короли Португалии и Испании могли прогнать турок из краономорского бассейна, поскольку им подвластны весьма немногочисленные земли. Поэтому эфиопский царь, заинтересованный в нейтрализации турецкой опасности, предложил написать королю Испании, чтобы он построил форт в Зейле, король Португалии — в Массауа, а король Франции — в Суакине, что обеспечило бы христианское господство на Красном море. Безусловно, с точки зрения португальской дипломатии трудно было достичь худших результатов.
Исторически обусловленной была и позиция Лебна Денгеля в его переговорах с португальцами. И суть дела состояла не только в том, что португальские гости со своими постоянными внутренними сварами и рукопашными побоищами произвели неблагоприятное впечатление на эфиопский двор. Основная причина отсутствия единодушия заключалась в полном несоответствии как целей, так и воззрений договаривающихся сторон. В первой четверти XVI в. португальцы мыслили и действовали в масштабе всемирном, стремясь захватить и удержать в своих руках основные пути мировой торговли, что приносило им колоссальные доходы. Эфиопы же вовсе не старались вырваться в окружающий мир, истинные размеры которого они представляли себе весьма смутно. Когда же этот неведомый мир сам придвинулся вплотную к Эфиопии и на Красном море появились турки и португальцы, главной заботой эфиопских царей стало оградить себя от постороннего вторжения. Это, однако, оказывалось совсем не просто, поскольку португало-турецкая борьба за торговые пути в Индию неизбежно приобретала характер христиано-мусульманского противоборства, и христианскому царю Эфиопии трудно было остаться в стороне. Впрочем, Лебна Денгель не мог вмешаться в борьбу этих ддух морских держав на Красном море, не имея флота. Он желал устранить турецкую опасность при помощи португальцев, а с местными мусульманами на суше он надеялся справиться сам. Поэтому он предложил португальцам построить крепость и церковь в Массауа и Делагоа для борьбы с турками и обещал им помощь «всадниками и лучниками», если военные действия развернутся на суше [29, с. 371—372].
Таким
образом, хотя при эфиопском дворе и
дезавуировали покойного Матфея,
посланного царицей Еленой, которая
скончалась в
Дальнейшее пребывание португальского посольства в Эфиопии было омрачено жесточайшими раздорами между доном Родригу и Жоржи д'Абреу, так что дело доходило до вооруженных столкновений между португальцами. Попытка Лебна Денгеля выступить в качестве миротворца была бестактно отвергнута доном Родригу, что не прибавило царского уважения ни к самому послу, ни к его посольству. Возможно, Лебна-Денгель временами подумывал о том, не поступить ли ему со своими буйными и беспардонными гостями по старым эфиопским обычаям и не запретить ли им навсегда возвращение на родину. В своем повествовании Ф. Алвариш не раз делится тяжелыми раздумьями по этому поводу. Тем не менее после множества безобразных столкновений между собою и нескольких бесполезных путешествий к побережью и обратно 28 апреля 1526 .г. небольшой португальский флот под командованием дона Экторе да Силвейры, состоявший из трех королевских галеонов и двух каравелл, отплыл в Индию, увозя уже не чаявших вернуться португальцев и эфиопского посланца Цега Зеаба. В Эфиопии остались лишь цирюльник Жуан Бермудиш и художник Лазаро д'Андрадо.
Неудачи
упорно сопровождали несчастное
посольство и на обратном пути на
родину. На о-ве Камаран они не
сумели отыскать останки
похороненного там дона Дуарте де
Галвана, и отец Франсишку смог
привезти его сыну для захоронения в
фамильной усыпальнице только три
зуба, найденные им при раскопках.
Затем флагманский галеон попал в
штиль подле Маската, и все они чуть
не погибли от жажды. Люди не пили
три дня, и дон Экторе да Силвейра
обходил умирающих с единственной
флягой воды. Сам он, как и вся
команда, не пил ничего и все три
дня оставался на мостике галеона и
не отлучался в свою каюту, чтобы
все видели его и никто бы не заподозрил,
что юн пьет воду тайком [71, с. 103].
Когда 24 июля
Наконец
они приняты были королем Жуаном III,
которому они передали письма и
подарки Лебна Денгеля. Король щедро
вознаградил участников посольства,
однако не стал предпринимать
ничего для дальнейшего налаживания
португало-эфиопских связей.
Настоящая Эфиопия, не легендарное «царство
Пресвитера Иоанна», не вызвала у
него делового интереса. Португалия
не нуждалась в Эфиопии. Так почти
одновременно два монарха,
эфиопский и португальский,
ознакомившись со странами друг
друга через посредство
португальского посольства, не
проявили заметного стремления
заключить совместный антимусульманский
союз, хотя при обмене посланиями
они и выражали антимусульманские
чувства, приличествующие христианам.
Казалось, что в этих условиях
эфиопско-португальские отношения
не могли получить ни действенного
продолжения, ни значительного
развития.