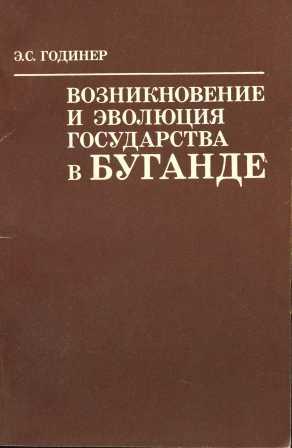
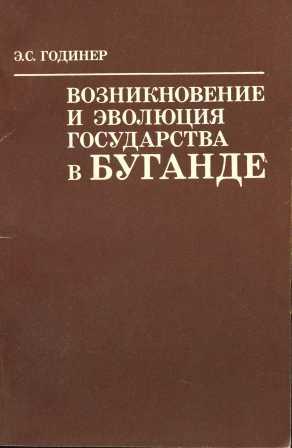
АКАДЕМИЯ
НАУК СССР
ИНСТИТУТ
ЭТНОГРАФИИ
ИМЕНИ
Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
Э.
С. ГОДИНЕР
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВА В БУГАНДЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»
ГЛАВНАЯ
РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА
1982
Ответственный редактор Л. Е. КУББЕЛЬ
В книге исследуется генезис государственности в Буганде — одном из раннеклассовых доколониальных образований Восточной Африки. Анализируются социально-экономические предпосылки классообразования, уровень развития производительных сил, а также процесс разложения родоплеменных институтов.
©
Главная редакция восточной
литературы издательства «Наука»,
1982.
________________________________
OCR
и вычитка – Aspar, 2009. Поглавная
нумерация сносок заменена сквозной.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава
I
Экономические
предпосылки образования государства
(XII—XIII вв.)
Глава
II
Становление
государства в Буганде эпохи
Кинту (XIII—XV вв.)
Глава III
Эпоха Кимеры и дальнейшая эволюция государства баганда (XVI—XVIII вв.)
Глава IV
Социально-политическая структура Буганды конца XVIII—первой половины XIX в.
Список литературы
Список сокращений
Summary
ВВЕДЕНИЕ
Возникновение государства — один из важнейших рубежей в истории человечества. Бесчисленное множество раз — на разных континентах и в разное время — процесс начинался и развивался, обнаруживая одновременно и сходство некоторых основных своих предпосылок и механизмов, и многообразие форм и типов, и неодинаковую стадиальную зрелость. Иными словами, любой самобытный случай становления государственности, имея самостоятельную историческую ценность, будучи по-своему неповторим, в то же подчиняется действию некоторых общих законов, присущих этой переломной эпохе. Поэтому каждый такой случай, при его изучении, способен, пусть в скромных масштабах, обогатить наше представление о процессе в целом. А нынешнее состояние знаний о происхождении государства еще далеко от полной картины, разрешающей все стороны проблемы. Достаточно сказать, что до сих пор не достигнуто единства взглядов соотношение и роль ряда факторов его генезиса (см. например, [97; 103]).
Раннегосударственные образования изучены крайне неравномерно, и до недавнего времени едва ли не самыми обойденными в этом отношении оставались общества доколониальной Тропической Африки. Причем как раз для многих африканских народов упомянутая проблема имеет отнюдь не только академический, теоретико-познавательный интерес — для них она воплощает сравнительно недалекое прошлое, которое ощутимо, а подчас и остро дает о себе знать в разных сферах современной политической и общественной жизни.
Настоящая работа является первой в советской африканистике попыткой историко-этнографического исследования генезиса и основных тенденций эволюции государственности в Буганде — одном из доколониальных политических образований восточноафриканского Межозерья.
Хронологически работа охватывает в основном период между временем зарождения процессов классообразования в Буганде (XIII—XV вв.) и серединой XIX в., когда активное приобщение Буганды к арабо-суахилийской работорговле, а затем европейская экспансия положили начало деформации традиционной общественной структуры.
В африканистике последних лет становится, пожалуй, уже общим местом констатация лучшей обеспеченности источниками историка доколониальной Буганды по сравнению с его коллегами — специалистами по многим другим регионам континента. Однако, несмотря на довольно интенсивную работу по созданию источниковедческой базы, главная трудность исторической реконструкции остается в данном случае той же, что и для большинства африканистов и вообще для всех исследователей бесписьменных народов независимо от того, на каком они обитают континенте.
Письменные свидетельства по истории межозерных государств, и в том числе Буганды, появились лишь во второй половине XIX в. Поэтому важнейшее значение для реконструкции исторического прошлого народов Межозерья приобретает устная традиция. Соответственно встает вопрос о возможности и специфике ее использования в качестве исторического источника. Во многих отношениях вопрос этот остается пока открытым. В предельно широкой гамме мнений можно увидеть все оттенки перехода от наивного доверия традиции, присущего, правда, лишь некоторым африканским историкам-самоучкам (см., например, [177, с. IX]), до почти безнадежного скептического отношения к ней [135; 249]. И до тех пор, пока не будет выработана надежная и достаточно детальная методика анализа различных жанров устного творчества (при всем признании заслуг Я. Вансины и ряда других специалистов в этой области), вряд ли можно ожидать относительного единства мнений в оценке характера устной традиции как исторического источника и ее конкретных интерпретаций. Одно лишь не подлежит сомнению: без использования традиции историку-африканисту не обойтись. Никакие другие виды источников, сколь бы важны они ни были, естественно, не могут в той же мере восполнить отсутствия письменных.
Хотя
устная историческая традиция
народов Межозерья собрана далеко
не полностью, а многое, вероятно,
потеряно навсегда, сохранившиеся и
зафиксированные данные
представляют обширный
содержательный свод. В Буганде в
отличие от некоторых других
доколониальных государств Африки
не было специального института «королевских
историков»; хранителями эпических
преданий могли быть не только
приобщенные ко двору и престолу, но
и старейшины родов, да и рядовым
родичам они в той или иной степени
были известны. Д. Коэн сообщает, что
у басога, восточных соседей баганда,
этнически и культурно очень
близких к ним, «вожди родов не
обладали лучшим знанием традиций
по сравнению со своими сородичами».
Похоже, что в большой мере это
относится и к баганда [102, с 32].
Сохранению памяти о давних событиях и участвовавших в них людях способствовали подмеченные в этнографических описаниях баганда (и свойственные многим народам сходной стадии развития) особенности циклического восприятия времени и представления о необходимости родственно-наследственных связей всего и возрождении в наследниках основных жизненных черт предков. Ничто и никто не пропадает бесследно — мировоззренческая природа баганда «не терпит пустоты». Всему должны быть свои преемники, опустевшее место должно быть заполнено, и так, как будто бы и не было потери. Поэтому для устной традиции баганда характерна очень живая передача прошлого, как бы проигрывание заново событий и характеров. Память о них является обязательной для любого наследника: для старейшины рода, вступающего в должность и тем самым берущего на себя функцию хранителя родовых преданий, придворного «церемониймейстера», обязанного знать не только ритуал, но и легенду о его происхождении и всех, занимавших этот пост; наконец, просто для рядового сородича, не только помнящего генеалогию и деяния предков, но при вступлении в права наследования в роде буквально играющего роль своего предшественника, с точным подражанием его манере говорить, двигаться и т.д. [203, с. 3].
Вот как описывает миссионер Дж. Роско, один из первых европейцев, появившихся в Буганде, свое непосредственное впечатление от способа изустной передачи исторической памяти баганда: «Глава рода носил титул, некогда принадлежавший первому старейшине... Он говорил о прошлых событиях так, как если бы он был их свидетелем и принимал в них участие, и до такой степени идентифицировал себя с первым носителем титула, что мог, например, говорить о себе как о предводителе похода, бывшего сотни лет назад, или как об отце давно умерших людей» [203, с. 136].
По мнению угандийского историка М. Кивануки, «основной и лучший источник по истории монархии Киганда» — написанная А. Кагвой хроника «Besekabaka be Buganda» — «Короли Буганды». Кизанука перевел ее с луганда на английский и снабдил предисловием и комментариями, по существу имеющими значение самостоятельного исследования [143].
Аполло
Кагва сделал блестящую и
показательную для баганда карьеру.
Начав слугой в доме родственника,
мелкого омвами (вождя), он затем
постепенно поднялся до должности катикиро
— ближайшего советника
верховного правителя Буганды и
продержался на ней долгие и трудные
годы установления и упрочения колониального
режима (1889—1926). Одним из первых
Кагва был обращен в христианство и,
побуждаемый Дж. Роско, автором
одной из наиболее обстоятельных
сводок этнографического материала
по баганда, кстати, собранного им
при большом содействии Кагвы. сам
начал записывать сведения об
истории и обычаях своего народа. Из
написанного им (на луганда)
переведены на английский только «Обычаи
баганда» и «Короли Буганды» [143; 144],
но выдержки из остальных
публикаций и рукописей А. Кагвы
содержатся в переводе в фундаментальном
исследовании М. Кивануки «История
Буганды. От основания королевства
до
Устная традиция в изложении А. Кагвы начинает генеалогию бугандских правителей с мифического Кинту — прапредка, культурного героя и одновременно первого кабаки — правителя баганда. Это наиболее распространенная версия легендарной традиции, прослеживающая 30 (по Кагве) правлений бугандской династии на фоне сопутствующих преданий о миграциях, войнах, межродовых отношениях и появлении тех или иных культурно-хозяйственных или социальных особенностей жизненного уклада баганда.
Отсчет
бугандской династии от Кинту —
принципиальное кредо А. Кагвы. В
этом отношении он резко расходится
со сторонниками так называемой
местной школы (native school),
образованной в начале нашего века
группой хронистов-баганда, окончивших
миссионерские школы и занявшихся
записью и интерпретацией устной
традиции. Сообщения этих историков-любителей
публиковались в миссионерских
периодических изданиях «Эбифа» («Ebifa»)
и «Мунно» («Мunno») и содержат
полемику с Кагвой относительно раннего
периода истории Буганды. По мнению
представителей «местной школы»,
Кинту предшествовал длинный
династический ряд «королей» и ко
времени его появления Буганда была
уже централизованной монархией» [148,
с. 94—95].
К сожалению, автору настоящей работы не пришлось ознакомиться с этими материалами по первоисточникам. Но даже на основании информации Кивануки можно предположить, что представители «местной школы» не проводят сколько-нибудь ясного различия между понятиями племенного лидера и главы государства, вследствие чего вся реконструкция приобретает наивно-модернизаторский характер. Возможно, и до эпохи Кинту в Буганде происходили процессы племенной консолидации. Но все известное сейчас об этом времени, не говоря уж о предшествующем периоде, не позволяет рдеть в Буганде XII—XIV вв. «централизованную монархию», и в этом отношении Кагва, очевидно, ближе истине, чем его оппоненты. Другое дело, что адресованный ему упрек в недостаточном внимании к докинтуским слоям традиции по крайней мере отчасти справедлив. Это признает и Киванука, в целом солидарный с Кагвой [148, с. 94]. Однако древнейшие пласты традиции стоит, по-видимому, искать не только и не столько в генеалогии правителей Буганды, сколько в родовых преданиях баганда.
Нельзя сказать, что в этом направлении исследования не велись, имеются записи истории нескольких родов, фрагментарные данные по остальным родам мозаично вкраплены в тексты изданных источников. Значительная часть этих материалов еще не опубликована или опубликована только на луганда, и пока приходится довольствоваться выдержками из них, приведенными в некоторых трудах, и ссылаться на составленную Д. Роу библиографию источников на луганда [208]. Последняя включает публикации и рукописи, хранящиеся главным образом в библиотеке университета Макерере в Кампале, в том числе собрание традиции, озаглавленное «Маkulа» («Сокровище»). Но даже при учете неопубликованных данных диспропорция все равно, по-видимому, останется в силе, так как «королевская» традиция записана полнее родовой. Два обстоятельства тому виной: относительно большая сложность сбора информации о родовой истории (на это, например, жалуется угандийский этнограф и историк Г. Узоигве [242, с. 185]) и недооценка, в большинстве случаев неосознанная, ее значения. На последнее обратил внимание Д. Коэн [102], и именно благодаря тому, что в собранном им полевом материале (но не по баганда, а по их восточным соседям — басога) восстановлен необходимый баланс родовых и «королевских» версий, Коэну открылись дополнительные возможности более достоверных и глубоких интерпретаций.
Казалось бы, сама по себе необходимость привлечения данных родовой традиции не нуждается в доказательствах. Однако, как показывает позиция Г. Узоигве, одного из самых известных угандийских исследователей, существует определенная недооценка значения «простонародной» устной истории и даже признаки откровенно пренебрежительного отношения к ней. По мнению Узоигве, для изучения «централизованного деспотического государства» (в данном случае речь идет о соседней с Бугандой Китаре-Буньоро) локальные, семейные и родовые традиции имеют лишь второстепенное значение, так как общая, сводная традиция охватывает все важные аспекты традиций этих групп [242, с. 184— 185]. Под общей традицией Узоигве имеет в виду то, что «отобрали и предназначили для нас», т. е. для потомков, «элитные» группы. И с этим, заключает Узоигве, ничего не поделаешь. Историку остается лишь критически разобраться в частностях, не нарушая уготованной «элитой» для будущего общей схемы. Любые существенные отклонения от нее могут породить в историческом сознании народа только распад и хаос [242, с. 186].
Но
существование государства, даже
«централизованного и
деспотического» (кстати, эти
эпитеты не вполне применимы в
данном случае), вовсе не означает,
тем более априорно,
второстепенности информации о его
развитии «снизу», со стороны
родовых, семейных и прочих коллективов,
в совокупности составлявших большинство
его населения. Ведь эта информация
не только включается вместе с «элитной»
в некий общий свод, но и создает в
нем противоборствующие течения.
Сопоставляя легендарную
историю любого рода с
общегосударственной, «официальной»
версией, легко убедиться, что они во
многом конфликтны. Соответственно
отождествлять «королевский» или «элитный»
стереотипы с единой и единственной
концепцией устной истории не
приходится. Такое отождествление
не только обедняет
источниковедческую базу
исследования, но и (как видно из
заключительного вывода Узоигве) вносит
в него заметный элемент
предвзятости, чреватый
односторонним, искаженным
освещением исторической
реальности.
Помимо рукописных и опубликованных сводов данные устной традиции в том или ином объеме приводятся почти во всех работах по доколониальной Буганде, как правило в значительной мере основанных на полевом материале авторов. И хотя эта традиция восходит к временам, отстоящим от нас на пять-семь столетий, и достаточно мифологична и противоречива, большинство специалистов по Межозерью (за исключением К. Ригли и Д. Хениджа, крайне скептически относящихся к ее сведениям, особенно для ранних периодов) [249; 135][1] не только считают ее ценным источником для исторических реконструкций, но и находят возможным с ее помощью и в сопоставлении с данными археологии, антропологии и лингвистики отодвинуть хронологические рубежи предыстории Буганды во времена, предшествующие эпохе Кинту.
Обращаясь к истории Буганды, нужно помнить, что последняя была органической частью особой, относительно автономной историко-культурной области, какую представляло собой Межозерье. В ее пределах только Буньоро могло соперничать с Бугандой в роли политического лидера региона, причем к концу доколониальной эпохи (конец XVIII — начало XIX.в.) оно уступило ей это лидерство. Оба эти образования составляли как бы два центра притяжения, к которым тяготели все ближние и дальние соседи в пределах Межозерья. В Буньоро и Буганде реализовались два существенно различных способа государствообразования, повлиявшие на сопредельные зависимые области. Отсюда следует, что относительная изолированность Межозерья, с одной стороны, и роль Буганды внутри его — с другой, достаточно хорошо определяют пространственно-исторический контекст, в котором необходимо рассматривать историю Буганды. Поэтому в круг используемых материалов включены и некоторые основные источники и исследования по контактным с Бугандой обществам Межозерья — прежде всего Китаре-Буньоро, а также Бусоге, Анколе (Нкоре), Торо, Карагве и др.
Так же как и баганда, другим народам Межозерья не был известен институт гриотов, и традиция запоминалась, по выражению Узоигве [242, с. 130], «свободными текстами», т. е. без требования строгой формализации изложения. Наблюдается определенное соответствие характера и масштаба социально-политической структуры общества и социального состава хранителей его устной истории. Так, в Буньоро хранителями и сказителями ее официально-престижных версий выступают главным образом приобщившиеся к верхам общества «королевские» сородичи, их приближенные, прославленные военачальники, некоторые родовые старейшины. Локальные и родовые версии при этом не исчезли, но оказались как бы в тени «королевской». Напротив, в небольших, иногда просто крошечных объединениях Бусоги отмечается преимущественное бытование традиции в простонародной среде.
Не
останавливаясь специально на
характеристике традиций ряда
других образований Межозерья,
отметим только, что они по большей
части занимают промежуточное
положение между традициями Буньоро
и Бусоги. Записывались они, как
правило, позже легенд баганда и
поэтому иногда пользуются меньшим
доверием, но общая расстановка
мнений в их оценке остается той же:
Р. Оливер и его последователи
отстаивают идею исторической
документальности устных хроник и
находят синхронизмы и
взаимоподтверждающие данные при их
сравнительном анализе, тогда как К.
Ригли и Д. Хенидж склонны видеть в
подобных построениях скорее
спекуляции, нежели правомерные
научные гипотезы.
Использование устной традиции в качестве исторического источника сопряжено с проблемой ее хронологизации (см. [7; 9; 38; 40]). Попытки найти более или менее надежные хронологические привязки в традиционной истории народов Межозерья начались с первых же исследовательских опытов западной и местной историографии и продолжаются больше столетия. Каковы результаты этой работы? «Очень возможно,— удовлетворённо отмечал еще в 60-х годах Р. Оливер,— что традиционная история Межозерья уже выполнила свою главную задачу, обеспечив хронологическую схему, на которой могут быть основаны исследования разного рода» [84, с. 316].
Разработка относительной хронологии межозерных династий Д. Коэном [101] и хронологизация бугандской династии в одной из последних работ М. Кивануки [148], казалось бы, только подтверждают оптимистическую оценку Оливера. Но ее, как и следовало ожидать, не разделяет уже упомянутый нами Хенидж [135]. Причем, что еще важнее, он ставит под сомнение не только чисто хронологическое членение истории Межозерья.
Как полагает Хенидж, натяжки в хронологии — лишь частное проявление общей шаткости и ненадежности современной общепринятой реконструкции. Причину уязвимости этой реконструкции он усматривает в некритическом использовании поздно записанных версий традиций. В отличие от ранних записей конца XIX— начала XX в. поздние (приблизительно с 30-х годов XX в.) варианты не могут, по мнению Хениджа, считаться подлинными версиями традиций межозерных народов, поскольку они составлялись с оглядкой на уже существующие записи и с намеренным или бессознательным приведением различных версий как бы к единому знаменателю. Именно отсюда, заключает Хенидж, проистекает видимость гармонического взаимодополнения традиций разных народов Межозерья и целостная (но иллюзорная) картина их истории. Все основные, принятые ныне «синхронизмы», на которых держится наиболее распространенный вариант истории этого региона,— результат перекрестных списываний, домыслов и спекуляций. Ни один из них не подтверждается ранними, самостоятельными и подлинными материалами источников, дающими пусть фрагментарное, но менее искаженное представление о развитии Межозерья.
Нельзя не признать весомую долю истины в сетованиях Хениджа на привнесение спекулятивного элемента в поздние записи традиции, частичную утрату непосредственности повествования, «засорение» традиции домыслами и заимствованиями из других сводов. И хорошо еще, если эти домыслы легко различимы и могут быть отброшены (например, якобы португальское происхождение легендарной династии Бачвези у Дж. Ньякатуры [177, с. 17]). Несомненно, и в интерпретации на всех ее уровнях наблюдаются подмеченные Хениджем симптомы некритического отношения к традиции. Но так ли безнадежно в целом обстоит дело, как его представил Хенидж? Действительно ли итог многолетней работы западных и местных специалистов — лишь новый миф, имеющий мало общего с реальным историческим прошлым? И что в таком случае можно сделать (если вообще возможно что-нибудь сделать) для воссоздания не мифа, а исторической концепции, отвечающей современным научным требованиям.
Действительно, при самом добросовестном отношении информатора и собирателя поздние традиции неизбежно включают, подчас в растворенном и трудно распознаваемом виде, крупицы опыта недавнего времени. Ранние записи в этом смысле безусловно «чище». Но Хенидж не учитывает или, во всяком случае, никак не оговаривает, что и ранняя традиция за века претерпела длительную и существенную модификацию и в ней в лучшем случае — лишь искаженное представление хода истории. Кроме того, какое конструктивное предложение можно извлечь из констатации большей надежности ранних версий? Ими и ограничиться?
Такого решительного вывода Хенидж не делает. Напротив, построение новых, более надежных гипотез он связывает с «пополнением материала» [135, с. 45].
Итак, частный, хотя и очень важный вопрос о хронологии одного из разделов африканской истории в конечном итоге вылился в дискуссию о пригодности устной исторической традиции в качестве источника. Значит, один из наиболее скептически настроенных специалистов в конце концов не нашел иного выхода, как все-таки согласиться, что, сколь бы ни казались сомнительными некоторые версии традиции, использование их и даже дальнейший сбор материала необходимы. Безусловно, очень многое еще предстоит сделать, чтобы создать прочную базу и основательные выводы в африканской истории, и нужен критический подход к устным источникам и разработка методики их анализа, но признавать или не признавать традицию источником — такого выбора у африканиста нет.
Время появления первых письменных свидетельств о Буганде — начало 60-х годов XIX в., т.е. последние десятилетия существования самостоятельного государства, на рубеже XIX—XX вв. включенного в состав британского протектората Уганда. Их авторы — европейские, преимущественно британские, ученые, путешественники, миссионеры и колониальные служащие. Эта группа источников содержит, в разной пропорции, личные путевые впечатления и информацию, полученную в стране от баганда, а также от проводников и торговцев суахили. Непосредственные цели этих путешествий не были историко-этнографическими, их научный интерес сосредоточивался главным образом на поиске истоков Нила, но, судя по сотням страниц, посвященных детальному описанию различных сторон жизни местного населения, авторы путевых дневников старались не упускать из виду и зафиксировать все увиденное и услышанное.
Для европейцев знакомство с межозерным очагом африканской государственности, и в первую очередь с ее политическим центром — Бугандой, оказалось в достаточной степени неожиданным. Они не были подготовлены к тому, что им довелось увидеть. Стройная, детально разработанная система государственного управления; размещенная по провинциям, округам, деревням иерархия исполнителей воли, исходящей из единого центра — резиденции правителя (тогда — 30-го, по традиционной генеалогии,— Мутесы I); развитая сеть дорог, взбирающихся на холмы и пересекающих болота, с точно регламентированной шириной в зависимости от близости к столице и стратегического значения; штат придворных гонцов, за один-два дня доносящих до окраин государства распоряжения, способные за следующие несколько дней собрать военное ополчение или рабочую силу; вереницы носильщиков, спешащих к столице с грузом натуральных податей и связками каури; обложенные государственной пошлиной рынки; суды, штрафы, казни для нарушивших нормы традиционного права, а чаще просто по произволу правителя, обладавшего деспотической властью; скот и пленные, угнанные из соседних стран,— вся эта картина совсем не походила на пеструю и аморфную (во всяком случае, на неискушенный тогда европейский глаз) чересполосицу разрозненных этносоциальных групп, через земли которых путешественники двигались в глубь Африканского континента.
Неудивительно, что едва ли не первым вопросом, невольно возникавшим у всех, кому удалось побывать в Буганде, был вопрос о том, откуда появилась в центре Африки, в окружении «диких» племен столь развитая форма общественной организации. Большинству европейских авторов конца XIX — начала XX в. сложность социальных структур Межозерья казалась объяснимой лишь как результат насильственного введения неафриканских или, во всяком случае, «ненегрских» политических систем в автохтонные общества, органически не способные к саморазвитию. «В этих странах управление находится в руках чужеземцев»,— писал в своем «Дневнике» Спик, первым из европейцев побывавший в Буганде [225, с. 247—248]. По его мнению, возникновение межозерных государств — следствие экспансии и распада государств Эфиопии, некогда основанных после завоевания местного земледельческого населения «хамитами», скотоводами азиатского происхождения. Под давлением арабов часть «хамитских» племен, вероятно галла, вынуждены были откочевать к югу и юго-западу, в Межозерье, где история повторилась: покорив земледельцев, на этот раз — банту, галла основали новое государство, «великое королевство Китара». Впоследствии оно распалось на несколько самостоятельных образований, а язык, религия (христианская) и даже самоназвание завоевателей были каким-то образом утрачены. Подтверждением своей теории Спик считал сходство антропологических типов правящих и скотоводческих групп Межозерья — бахима, бахума — и галла Сомали (высокий рост, относительно светлая кожа, ортогнатность, узкое и высокое переносье и некоторые другие, оцененные им как «кавказоидные» черты), а также хранившиеся в устной традиции банту смутные предания о родоначальниках местных династий — «наполовину черных, наполовину белых» пришельцах с севера или востока [225, с. 248, 536].
Правда, в отношении Буганды — по общему признанию, наиболее высокоорганизованного из государств Межозерья, а по некоторым оценкам, даже «уникального» в общеафриканских масштабах [188, т. 2, с. 11] — первый аргумент оказывался малопригодным. Искомая «хамитская» примесь здесь едва проступала или вовсе не была заметна. Бугандская элита была столь же «негрской» и земледельческой, как и подавляющее большинство ее населения, а социальный статус и престиж скотоводов-бахима — очень низкими в глазах знатных и богатых баганда, нанимавших их в пастухи [150, с. 9].
Таким образом, положительная связь между примесью «хамитской» крови в жилах правящего сословия и степенью развития государственности на примере Буганды, казалось бы, не подтверждалась. Тем не менее взгляды Спика многократно повторяются в трудах путешественников, миссионеров и колониальных чиновников. Г. М. Стэнли приписывает хамитам «усовершенствование древних примитивных рас Африки» [227, с. 359], по У. Ансорджу, «королевская семья Уганды — хамитской крови» [83, с. 111]. Согласно А. Такеру, цивилизация Межозерья «никогда не могла бы развиться изнутри» [240, т. I, с. 96]. По мнению П. Кольмана, возникновение государства в Уганде повлекла за собой «иммиграция... хамитской расы», хотя он и выражает недоумение по поводу более низкого социального уровня как раз в тех образованиях (Анколе и Карагве), где бахума меньше смешивались с банту [150, с. 8—9].
Вообще в
конце XIX — начале XX в. любое несоответствие
между увиденным и хамитской
теорией, изначально общепринятой,
либо оставлялось без ответа (Роско,
лишь удивляющийся, что «скотоводческий
народ, умственно более развитой и,
несомненно, более способный, до
такой степени всецело посвятил
себя уходу за скотом, что... нет
никакого развития культуры» [204, с. 10]),
либо все-таки увязывалось с
господствующим взглядом.
Таким образом, первые скудные сведения о генезисе государств Межозерья, к тому же непрофессионально и тенденциозно объясняемые ранними европейскими авторами, немногое могли дать для разработки проблемы. Ценность же этих работ состоит не в исторических реконструкциях, а в обширном этнографическом материале, отражающем состояние бугандского общества в нетронутом или мало деформированном колониальным влиянием виде. Особенной обстоятельностью отличаются некоторые сочинения миссионеров и колониальных чиновников, по роду деятельности постоянно контактировавших с населением и живших в стране длительное время. Так, большой лингвистический, антропологический и этнографический материал имеется у Г. Джонстона [142], теоретические построения которого, однако, носят во многом спекулятивный характер. Подробные сведения о последних доколониальных десятилетиях развития Буганды содержатся в двух книгах миссионера Р. Эша [85; 86]. Автор их отличается независимостью суждений и сознательно стремится не навязывать европейско-христианских мерок в оценках африканской действительности, хотя это ему далеко не всегда удается.
Можно было бы назвать еще ряд публикаций этого периода, но они в свое время уже были подробно охарактеризованы в статье А. С. Орловой, специально посвященной анализу источников по доколониальной истории народов Межозерья [53]. Стоит, однако, особо упомянуть о многолетней кропотливой работе английского миссионера Дж. Роско, оставившего самое полное (из европейских) описание материальной и духовной культуры баганда. Долгое пребывание в стране (он прожил в Уганде более 20 лет), знание языка, доверие, которое он сумел завоевать у местного населения,— все это позволило Роско собрать чрезвычайно большой, первоклассный этнографический материал, научную интерпретацию которого он намеренно предоставлял специалистам, к каковым себя скромно не относил, хотя в течение 18 лет постоянно консультировался по всем интересовавшим его вопросам с крупнейшим ученым того времени Д. Фрэзером. Монография Роско «Баганда», а также другие его книги и статьи до сих пор сохраняют значение основных, наряду с записями традиции А.Кагвой, источников по материальной культуре и общественному строю баганда [203; 204; 205; 206; 207]. Неточности и противоречия, встречающиеся в его работах — в меньшей степени, впрочем, чем во многих других,— вряд ли имеет смысл ставить в упрек автору: они происходят из самого материала и указывают как раз на его добросовестное изложение, без сглаживания присущих ему сложностей и противоречий.
Начало
научной разработки вопроса о
происхождении государственности в
Межозерье «по причинам, которые
сами по себе могли бы быть
интересным объектом исследования»
[116, с. 27], не только не изменило, но
закрепило «хамитскую» постановку
проблемы. Высказанное Джонстоном
еще в
В
Проявлениями этого перенесенного на африканскую почву «хамитского» субстрата Зелигман считал само существование в субсахарской Африке, в том числе и в Буганде, «сакрального королевства» (divine kingship): ритуал, связанный с персоной правителя и направленный на обеспечение его долголетия и благоденствия государства; насильственное умерщвление или самоубийство больных и одряхлевших государей; навыки мумификации; институт соправительницы (сестры-жены) и некоторые другие, по его мнению, также «хамитские» характеристики [213, с. 12, 57].
В работах 30—50-х годов основные тезисы хамитской теории, при расхождениях в деталях, повторяются с навязчивым постоянством [238; 107; 126; 178; 141; 247; 182; 166]. Скорее всего, этому способствовало, с одной стороны, широкое распространение в зарубежной науке общих теорий происхождения государства посредством диффузий и завоеваний, а с другой — методология функционализма, положенная в основу полевых исследований английских социальных антропологов и не ставившая задачей создание исторических реконструкций.
Первыми критиками хамитской теории стали ученые, не связанные с традициями британской антропологической школы,— американский лингвист Дж. Гринберг и итальянский исследователь Д. Краццолара.
В советской науке с критикой хамитской теории выступил Д. А. Ольдерогге, по мнению которого выделение особой, хамитской группы внутри семито-хамитской языковой семьи неправомерно, так как не существует специфических признаков, общих для этой группы и отличающих ее от собственно семитских языков. Не находит Ольдерогге и «общехамитских» показателей антропологического или этнографического порядка и, подводя итоги, оценивает хамитскую теорию как «величайшее извращение в вопросах образования государства» [51, с. 169—170].
Американский лингвист Дж. Гринберг, отрицая единство несемитских языков семито-хамитской семьи, считает понятие «хамиты» лишенным научного содержания как в лингвистическом, так и во всех других отношениях и тем более неправомерным построение теорий хамитской ориентации, не согласующихся, по его мнению, с фактическим материалом [129, с. 19]. По общему признанию, крупнейшим научным вкладом является разработанная Гринбергом классификация языков банту, опровергающая старый тезис Мейнхофа о якобы решающем для формирования языков банту «хамитском» лингвистическом влиянии [129, с. 20—21; 130].
Итальянский миссионер Д. Краццолара в результате кропотливой многолетней работы с лингвистическим и фольклорным материалом нилотских народов Северной Уганды и Южного Судана также пришел к выводам, противоречащим хамитской теории: бахима (бахума) он связывает не с «хамитами» азиатского происхождения, а с потомками скотоводов-луо, мигрировавших из Южного Судана и ставших, по его мнению, основателями династии государств Межозерья. Однако откровенно непримиримая к хамитской теории позиция Краццолары в то же время в определенной части с ней невольно сеется. По существу, Краццолара порывает лишь с антропологическими и лингвистическими ассоциациями сторонников хамитской теории, оставляя за скотоводами исключительную способность к созданию государственных систем и с пренебрежением, свойственным своим информаторам-луо, относясь к земледельцам как к «низшему» и чисто пассивному субстрату вопреки собственному утверждению, что «нет ни одного факта, который бы указывал на существование у луо единой политической организации» в период миграции [109, с. 6]. В этом отношении гипотеза Краццолары явно уязвима и много раз подвергалась критике вплоть до обвинений в подмене одного мифа — «хамитского» другим — «мифом луо» [148, с. 47, 61]. В самом деле, осмысление характера взаимоотношений мигрантов-луо с земледельцами-банту подчас выглядит у Краццолары как в «классической» хамитской схеме: с одной стороны, банту, безоговорочно готовые признать за луо дарованную им якобы свыше способность властвовать, с другой — грубое подавление покоренного населения, прямое навязывание ему норм общественной системы более развитого порядка. Что такая картина не соответствует исторической реальности, видно практически по всем исследованиям двух последних десятилетий, так или иначе затрагивающим «проблему луо». Можно сослаться, например, на специально посвященную нилотам работу П. Сэфхольма, в которой автор приходит к выводу, существенно отличной от точки зрения Краццолары: нормой контактов нилотов с банту были «взаимодействие и ассимиляция», миграции луо были процессом постепенного продвижения небольших групп на малые расстояния и сколько-нибудь значительные масштабы военных операций луо не прослеживаются в источниках [211, с. 41]. Признавая огромное влияние миграций нилотов на историческое развитие народов Межозерья, Сэфхольм тем не менее считает луо «наследниками, а не инициаторами политической системы» [211, с. 40]. Анализ Сэфхольмом структуры хозяйства нилотских групп показал также, что при несомненном преобладании скотоводства экономика луо включала и земледелие [211, с. 22]. Таким образом, резкое противопоставление (по Краццоларе) скотоводов-луо земледельцам-банту отчасти теряет свой смысл.
Несмотря на отмеченные недостатки реконструкции Краццолары, было бы несправедливо не указать и на ее достоинства, особенно на одно, чрезвычайно актуальное для своего времени. Даже если встать на сторону Кивануки в оценке взглядов Краццолары («миф луо»), нельзя забывать принципиального отличия этого «мифа» от хамитского, так как в нем не содержится исконная идея последнего — идея расового превосходства «кав-казоидов», поскольку Краццолара не считает луо «кавказоидами», в чем он совершенно прав. Последние исследования антрополога-африканиста Ж. Йерно показали, что нилоты представляют собой особую антропологическую группу с присущим только ей комплексом определенных признаков [138, с. 146—148]. Таким образом, отказ от антропологического звена посылок хамитской теории оказался у Краццолары оправданным и подтвержденным современными специальными исследованиями.
Впрочем, если вернуться к собственно баганда, то еще в фундаментальном труде Л. Ошинского было показано, что они не представляют собой результат смешения «конгоморфных» и «нигероморфных» расовых типов с «хамитоморфами» бахима и батутси, как это предполагали Джонстон и Зелигман. Почти по всем абсолютным и относительным антропометрическим данным баганда резко отличаются от бахима и батутси, предполагаемых «хамитов» Зелигмана [187]. Причем данные Ошинского относятся к середине XX в., когда смешанные браки стали более частым явлением, чем прежде, хотя и в доколониальное время жены-бахима у баганда были не такой уж редкостью. В XVIII—XIX вв. с усилением притока пленных в Буганду (а это были главным образом женщины, в том числе и женщины-бахима) и расширением границ государства к северу и западу, т. е. в области, населенные бахима, физический тип баганда вследствие учащения межэтнических браков претерпел некоторые изменения [148, с. 150]. Эти изменения заметнее среди знатных и богатых, поскольку в основном они имели привилегию получать в дар от кабаки чужеземных пленниц. И поскольку основные антропологические характеристики баганда (да и других банту Уганды) остались устойчивыми даже к середине XX в., несмотря на примесные элементы, вряд ли можно предположить, что несколькими веками раньше, в эпоху создания бугндской государственности, предки баганда могли быть сколько-нибудь существенно «хамитизированы».
Наконец, если до недавнего времени большинство исследователей, даже и при симптомах разочарования в хамитской теории, не подвергали сомнению саму по себе «кавказоидность» исходного, чисто «хамитского» антропологического типа, а вернее, и не особенно задавались этим вопросом, априорно считая его таковым, то теперь дело обстоит иначе. В последнем обобщающем антропологическом исследовании Ж. Йерно галла, сомали, масаи, батутси, бахима и некоторые другие этнические группы, обычно ассоциируемые с «хамитами», рассматриваются в качестве определенной антропологической совокупности, имеющей генетическое родство и называемой Йерно Elongated Africans. «Ни одна из этих популяций,— утверждает он,— не должна считаться близкородственной кавказоидам Европы и Западной Азии, как это обычно указывается в литературе» [138, с. 62]. Данный антропологический тип, по мнению Ж. Йерно, сложился в результате адаптации к условиям крайне жаркого и сухого климата. Возможный центр его дифференциации — Африканский Рог [138, с. 141]. Еще два-три десятилетия назад, когда позиции хамитской теории казались относительно стабильными в зарубежной африканистике, взгляды Йерно могли бы произвести сенсацию. Сейчас они в этом смысле не так уж и актуальны: ясно, что всерьез хамитская теория восприниматься не может. Но для полноты картины антропологическая классификация бывших «хамитов» имеет существенное значение, поскольку она затрагивает изначальную, расовую предпосылку их предполагавшегося превосходства над негроидами.
Как часто бывает при переоценке устоявшихся стереотипов, единообразие суждений сменяется в 50— 60-е годы различными, подчас неожиданными подходами к теме. Так, К. Ригли полностью пересматривает вопрос о государствообразующей роли скотоводов. Он меняет ролями бахима и банту: первые, по его мнению, не могли быть создателями государства, так как «скотоводческий народ... способен нести лишь очень легкий культурный багаж»; вторые, напротив, как он считал, были вполне вероятными основателями «королевства» банту, типологически сходного с Конго, Лунда и Монопотапой [249, с. 16—17].
Так же оценивает историческую роль скотоводов Дж. Мердок: «Предположение о возникновении политических систем Уганды в результате завоевания и покорения земледельческих банту кочевниками-скотоводами не имеет под собой никакой реальной почвы» [172, с. 350]. Однако в отличие от Ригли первичными создателями государств Межозерья Мердок считает не банту, а земледельцев-кушитов, еще в древности (в I тысячелетии до н. э.) переселившихся из Южной Эфиопии и в конце I тысячелетия н. э. покоренных банту [172, с. 350].
С Ригли и Мердоком полемизирует кенийский ученый Б. Огот. Ни археология, ни устная традиция, как он думает, ничего не говорят ни о предполагаемых Ригли государствах банту, ни о добантуских кушитах Мердока. Ко времени вторжения в Межозерье нилотов-луо (конец XV в.) север этого района Африки был сферой господства раннегосударственного объединения суданоязычных мади, тогда как на юге подобные образования возглавляли кушиты, предки бахима [180, с. 159—161]. Огот прослеживает этносоциальные процессы, происходившие на протяжении четырех столетий миграций и расселения южных луо, и связанные с этими процессами формирование или смены династий ряда государств Межозерья. В отличие от Ригли, резко противопоставляющего скотоводов земледельцам и отказывающего первым в каком-либо влиянии на формирование государства, Огот рассматривает мигрирующее скотоводческое общество луо во взаимодействии с местным оседлым населением и именно в этом взаимодействии видит важнейшие предпосылки, которые вызвали преобразование племенных структур в государственные.
Археологические раскопки в Биго, Кибенго, Мубенде, Нтуси и других городищах на территории Уганды [154; 155; 156; 181; 194; 216] прояснили ряд вопросов, но одновременно поставили и новые. Радиокарбонный анализ датирует Биго 1350—1500 гг. По масштабу и характеру сооружений (земляные валы, рвы, искусственные водоемы) приблизительно, подсчитано, что строительство всего комплекса Биго потребовало бы работы 1 тыс. человек на протяжении года, т. е. предполагало значительную концентрацию рабочей силы и некую организацию управления ею [194, с. 5]. Место и время существования Биго согласуются с памятью о легендарной династии Чвези (Бачвези). Но кто такие Чвези? Бантуизированные луо [109, с. 101], вымысел, «блестящий образец фантазии» [249], эфиопидные предки бахима [180, с. 160; 164, с. 236]?
За спорами о времени и направлениях миграций, завреваниях или мирных контактах, этнических и хозяйственно-культурных характеристиках населения первых государств Межозерья просматривается общая для большинства работ этого периода качественно новая тенденция, переводящая в совершенно иную плоскость саму постановку вопроса: механистическое противопоставление «носителей» и «реципиентов» государственного начала сменяется пониманием сложности процесса трансформации общественной структуры, обусловленного наличием «определенных экономических, политических и военных факторов» [180, с. 163]. И дело здесь не в охлаждении интереса к поискам культурных влияний, а в претерпевшем существенное изменение самом понятии контакта, который стал определяться как взаимное, а не односторонне направленное действие: «Не „Суданская цивилизация"... расцвела в Уганде... но нечто такое, что коренилось столько же в окружающей среде и экономических возможностях Западной Уганды, сколько и во влияниях, просочившихся из Нубии» [194, с. 9—10]. «Суданская цивилизация» — понятие, введенное Дж. Фейджем и Р. Оливером для обозначения предполагаемого ими единого исходного центра субсахарской государственности, диффузно распространявшейся по Африке [115, с. 44, 49].
Вообще же картина исторических связей Межозерья с цивилизациями северо-востока Африки до сих пор трудно поддается сколько-нибудь полной и надежной реконструкции, чем и объясняется значительное расхождение мнений относительно степени и характера влияния этих цивилизаций на Межозерье. Дж. Кларк, например, считает, что «в настоящее время дело выглядит так, как будто цивилизация Нила имела мало влияния на субсахарскую Африку» [99, с. 194].
Сходное превращение претерпевает в 60-е годы и оценка роли завоеваний в генезисе государства.
Во-первых, как выяснилось, в ряде случаев миграции были мало похожи на предполагавшиеся раньше внезапные и неотразимые набеги воинственных орд кочевников. Скорее это была медленная инфильтрация относительно небольших групп, сопровождавшаяся установлением отношений симбиоза с местным земледельческим населением и иногда последующей кристаллизацией государства с выделением элиты более или менее чистого или смешанного происхождения. Тем самым снималась фетишизация момента завоевания как необходимой и решающей предпосылки для всех случаев становления межозерных государств.
Во-вторых, само по себе завоевание и установление политического господства не истолковывается теперь как очевидное свидетельство превосходства культуры победителей.
Главное же в переоценке роли завоеваний заключалось в понимании несводимости процесса формирования государства к простому факту завоевания, даже если заведомо известно, что направление экспансии шло от центра цивилизации к ее ближней или дальней периферии. Причем это переосмысление отчасти затронуло и взгляды авторов, продолжавших придерживаться традиционной хамитской трактовки. Как пишет Л. Мейр, формирование межозерных государств не всегда и не в первую очередь связано с завоеванием [162, с. 107]. М. Перэм относит к числу наиболее благоприятных для развития Буганды факторов то обстоятельство, что «в Буганде различия в происхождении и культуре между правящими и покоренными не сохранились» и баганда, таким образом, «имели преимущества конструктивного руководства хима в сочетании с социальным единством» [188, с. 12].
Симптоматичный
для 60-х годов отказ большинства
специалистов по истории Межозерья
от хамитской теории происходил на
фоне общего пересмотра теоретических
и методологических основ, на
которых базировались
исследования предыдущих
десятилетий (см. [13, с. 105—107]). Именно
в эти годы намечается тенденция к
отходу от функционального метода,
одной из основных посылок которого
было предположение о возможности
изучения общественных структур без
обращения к истории их
формирования. Показательно,
например, что не кто иной как Эванс-Притчард,
один из редакторов и авторов классической
для британской функциональной
антропологии работы «Африканские
политические системы» [121],
опубликованной в
Логическим следствием переориентации в постановке проблемы генезиса африканских государств, естественно, стало повышенное внимание к экологии, экономике и процессам социальной дифференциации как в пределах относительно гомогенных групп, так и в зонах контакта обществ разного хозяйственно-культурного типа. Интересный анализ такого рода содержится в работе американского исследователя К. Коттака «Экологические факторы в происхождении и эволюции африканских государств: пример Буганды» [151]. Методологически автор объявляет себя последователем теории многолинейной эволюции Дж. Стюарда, «культурного материализма» М. Харриса и «специфического эволюционного подхода» М. Салинза и Э. Сервиса. Коттак возражает против «прискорбной», по его выражению, тенденции, исключавшей возможность саморазвития сложных политических образований в Африке, так как он «не мог найти никаких свидетельств того, что завоевание местного населения чужеземцами сыграло решающую роль... в происхождении государства Буганда» [151, с. 353]. Вслед за Стюардом Коттак полагает, что «даже если государство было заимствовано или навязано, необходимо еще показать условия, которые сделали это заимствование возможным». Одно только понятие диффузии не объясняет, почему одно общество восприняло ее, а другое отвергло [151, с. 353].
Ответы на эти вопросы автор надеется получить в детальном исследовании «локальных технико-экологических ниш», используемых обществом, и условий их включения в «супралокальные ниши» главным образом через обмен. Именно в развитии экономики (переход к земледелию, хозяйственная специализация экологических микросред, появление обмена) Коттак видит основные предпосылки разрушения «эгалитарного» общества и через последовательные стадии «ранжированного» и «стратифицированного» состояний, предложенные М. Фридом, становление собственно государства. Контакты со скотоводами Коттак оценивает как важный фактор, причастный к эволюции государства в Буганде, но не имеющий ничего общего с завоеванием. Появление скотоводов, по его мнению, стимулировало создание сложной политической системы в Буганде двояким образом: 1) добавив скот к статьям межрегионального обмена и 2) поставив баганда в «положение обороны» [151, с. 371]. «Если завоеватели-луо и правили когда-либо Бугандой,— заключает Коттак,— такое правление было... эфемерным», хотя бы потому, что экологически Буганда непригодна для скотоводческого направления экономики [151, с. 373].
В работах советских африканистов продолжается интенсивная разработка проблем раннегосударственных образований. Однако, что касается африканского Межозерья, то, за исключением уже упомянутой статьи А. С. Орловой, дающей сводку и анализ источников по истории этой части континента и намечающей основные направления исследования [53], специальных работ, посвященных изучению предпосылок и эволюции государственности у народов Уганды, до сих пор нет.
Между тем Межозерье (а в его составе прежде всего Буганда как наиболее развитая в социально-экономическом отношении область) представляло один из самых ярко выраженных очагов традиционной африканской государственности, к тому же удобный как объект исследования благодаря относительной обеспеченности источниками и временной близости к современности. В отличие от эпохи древнейших государств мира, отделенной от нас тысячелетиями и потому во многих отношениях труднодоступной для реконструкции, начальные истоки государственности в Буганде восходят не ранее чем к XIII в., а конец ее самостоятельного (доколониального) развития приходится менее чем на столетие назад. В сравнении же с периодом становления средневековых государств Европы, в особенности ее восточных и северных окраин, ненамного опередивших начало государствообразования в Межозерье, последнее все-таки неизмеримо ближе донесло до нас эту эпоху в силу заторможенности его развития, не столь отдаленную, как в Европе, от новейшего времени последующими стадиями исторического процесса.
Поздно начатая и замедленно протекавшая, эволюция государства в Буганде имела еще одну особенность: она происходила, по-видимому, без сколько-нибудь заметного воздействия со стороны уже сложившихся вне Межозерья центров африканской государственности. В совокупности эти отмеченные особенности дают возможность проследить социально-экономическую и политическую историю Буганды в ее постепенном развертывании, не осложненном вмешательством внешних факторов. И можно ожидать, что замедленность процессов поможет лучше понять действие их предпосылок и механизмов, вероятно имеющих не только сугубо локальное значение, хотя разумеется, прямые экстраполяции на другие эпохи и регионы в этом, как и в любом другом, случае, очевидно, нецелесообразны.
Но эти же специфические черты доколониальной истории Буганды, помогающие нам разобраться в ее ходе, одновременно являются и проблемами, требующими разрешения: чем объяснить, что генезис государств Межозерья относительно поздно начался и замедленно проходил, каковы причины и следствия периферийного положения этого района Африки и каков был уровень социально-экономического развития, достигнутый в данных условиях. Ответ на эти вопросы, по существу входящие в общую проблему отставания темпов исторического развития Африки южнее Сахары, не может быть получен только на материале, относящемся к периоду сложения и развития государственных образований Межозерья. Поэтому нам придется, в особенности для понимания ранних стадий становления межозерных государств, иногда выходить за территориальные и хронологические рамки, непосредственно относящиеся к настоящей работе.
Как известно, процесс государствообразования предполагает в качестве исходной (хотя и недостаточной самой по себе) предпосылки наличие производящего хозяйства. Последнее, по мнению большинства специалистов, появилось в Межозерье в первые века нашей эры, т. е. на тысячелетия позже, чем в древнейших центрах мировой цивилизации. Этот огромный хронологический разрыв свидетельствует о том, что отставание темпов социально-экономического развития Межозерья, как и всей Тропической Африки, началось задолго до нашей эры и было вызвано, по-видимому, эколого-экокомическими и историческими особенностями условий развития субсахарской части континента. Исследование этих условий не входит в задачи настоящей работы, но нам кажется необходимым дать хотя бы их общую характеристику, основанную на современных данных и их оценке специалистами. Несколько подробнее мы остановимся на условиях и особенностях появления и развития производящего хозяйства в Межозерье, и собственно в Буганде. Это сложная ввиду недостатка источников, но очень важная для целей нашего исследования задача, так как она непосредственно подводит нас к вопросу об экономических предпосылках сложения раннегосударст-венных образований Межозерья.
Основной специфической чертой производящей экономики Межозерья догосударственного периода являлся ее неполный характер: земледелие на протяжении тысячелетия сочеталось здесь главным образом с присваивающими видами хозяйства — охотой и рыболовством. Только в первых веках II тысячелетия н. э., т. е. совсем незадолго до консолидации объединений ранне- или предгосударственного типа, в Межозерье достаточное распространение получает скотоводство. И к тому же времени относятся сведения о новых миграционных потоках, постепенно осваивающих малозаселенные в ту пору земли Межозерья. Таким образом, еще одним проявлением локальной специфики было, по-видимому, почти синхронное превращение частично производящей (земледельческой) экономики Межозерья в комплексную и догосударственных общественных структур в государственные на фоне стимулирующих демографических процессов, вызванных притоком иммигрантов.
Столь быстрая реализация дополнительных стимулов социально-экономического развития ставит нас перед необходимостью рассмотрения как этих новых стимулов, так и той основы, на которую они наложились. Иными словами, необходимо выяснить роль местного, земледельческого субстрата и пришлого, скотоводческого в возникновении качественно новых форм общественной организации. При этом немаловажно проследить зависимость темпов и форм классообразования, довольно резко отличавшихся в различных областях Межозерья (например, в Буганде и Китаре-Буньоро), от конкретных форм симбиоза, сложившихся в разных экологических зонах Межозерья и в той или иной демографической ситуации.
Установив первоначальные предпосылки и формы зарождающейся государственности Буганды, ее сходство, отличия и взаимосвязи с соседними подобными образованиями (и в первую очередь с древнейшим в Межозерье раннегосударственным образованием Китарой), необходимо проследить основные этапы ее последующего развития вплоть до середины XIX в. Оно происходило в условиях относительной изоляции Межозерья от более развитых обществ, т. е. только на основе местных эколого-экономических возможностей. Даже в масштабах всего Межозерья они были довольно узки, в Зуганде же настолько ограниченны, что по мере оседания миграций все больше стала ощущаться потребность в восполнении недостающих ресурсов, в особенности Металла, пастбищ и соли. По ряду обстоятельств это восполнение возможно было только посредством экспансии, успешность которой, а также прочное освоение завоеванных территорий зависели, в свою очередь, от организации общественных работ по прокладке дорог и мостов. Без плотной сети коммуникаций разделенные болотами холмы Буганды парализовали бы не только движение войска, но и вообще сколько-нибудь регулярное сообщение в стране. Поэтому, учитывая, что «в основе политического господства повсюду лежало отправление какой-либо общественной должностной функции» [3, с. 184], вопрос о значении функций организации общественных работ и военного дела в генезисе государства баганда — один из важнейших, на которые предстоит обратить внимание.
За более чем столетнюю историю изучения Буганды произошла значительная эволюция взглядов в оценке уровня социально-экономического развития, достигнутого народами Межозерья, и в том числе баганда, к концу доколониального периода. Если ранние европейские авторы так или иначе связывали представление о социальной структуре баганда с понятием феодализма (впрочем, не углубляясь в специальное изучение вопроса и лишь мимоходом высказывая краткие суждения) [246, т. 1, с. 193; 86, с. 89; 83, с. 90; 203, с. 268; 240, с. 86; 198, с. 135], то позднее, и особенно в исследованиях последних лет, определенно наметилась общая тенденция к отрицанию применимости этого понятия к доколониальным общественным системам Тропической Африки [160, с, 158; 169, с. 132; 188, т. II, с. 12; 221, с. 17; 94, с. 378-393; 84, с. 64; 124; 89; 88, с. 112— 115; 165, с. 203; 125]. В тех же случаях, когда продолжают пользоваться определениями типа «феодальные институты», обычно следует оговорка, что имеется в виду лишь некоторое внешнее сходство с личностными связями вассалитета или с политико-юридическими нормами в средневековой Европе [165, с. 203]. Похоже, однако, что и эти терминологические клише носят скорее остаточный, инерционный характер. Когда-то привычные, ныне они воспринимаются как все менее терпимые и активно изживаются. Приведем несколько примеров. Французский африканист Ж.-П. Кретьен отмечает неадекватность западной модели феодализма для описания межозерных обществ, в свое время «слишком поспешно названных феодальными» [95, с. 1331]. Угандиец С. Каругире, детально прослеживая историю «(королевства» Нкоре (Анколе), находит, что оно «даже отдаленно не напоминает феодальное» [145, с. 67], О. Ангулу приходит к такому же выводу относительно Буньоро. Понятие феодализма применительно к Буньоро и сходным традиционным африканским системам, по его мнению, «маскирует их действительный социологический характер» [82, с. 167].
Ангулу показывает принципиальное структурное различие западноевропейского феодального общества и — на примере Буньоро — африканского. Причем Ангулу доводит свой анализ, традиционно начатый с политических институтов, до экономических, поземельных отношений и устанавливает, что и они принципиально отличались от таковых в средневековой Европе. Это особенно ценно, поскольку, как справедливо отмечает Дж. Гуди, в большинстве случаев рассуждения о «феодальных» или «нефеодальных» характеристиках африканских обществ ведутся на политико-юридическом уровне, хотя, по мнению того же Гуди, африканские социальные системы характеризует прежде всего совершенно иная экономическая основа, сказавшаяся и на отношениях собственности. В отличие от средневековой Европы «в условиях доколониальной Африки экономическое значение земли было небольшим, и она могла стать основой классовых отношений» [125, с.21, 73].
Представление о феодализме как об определенной системе общественных отношений, имеющей корни в экономике и основанной на специфической для нее поземельной собственности, просматривается в работах ряда рубежных африканистов. И примечательно, что представители именно этой группы в западной науке дальше других отошли от феодальной трактовки африканских обществ и наиболее глубоко аргументируют отличие последних от феодального. Причем этот отход в некоторых случаях совершался через промежуточную ступень классификации, когда африканские «королевства» типологически сопоставлялись уже не со зрелым феодализмом, а с «варварскими королевствами» Европы раннего средневековья. Логически такой ход хорошо понятен, поскольку в западной медиевистике к этому времени имелась довольно разработанная гипотеза об особом периоде европейской истории, лежащем между распадом античного общества и формированием феодального, остаточно сослаться на М. Блока, различавшего раннюю феодальную «сеньорию» и собственно феодализм [I, с. 244]. Ряд структурных черт этого периода, более архаичного, показался некоторым африканистам, естественно и более сопоставимым с изучаемыми ими африканскими структурами. Но вот Люк де Хойш, называющий общественные отношения европейских варваров «структурой клиентелы» [136, с. 401, 406, 409, 410] (примерный аналог «сеньории» М. Блока) и применяющий тот же термин для описания социальной структуры народов Межозерья, оговаривает, что «афро-европейские параллели не означают идентичности эволюционных стадий в Африке и Европе. Африканские системы клиентелы сопровождают рождение государства, на западе они... обеспечивают выживание идущего к упадку римского государства. Поэтому законное в синхронном плане, сравнение должно быть очень осторожным в плане диахронном. Аналогичные структуры, строящие африканское государство или перестраивающие западное в VIII—X вв., находятся в разных исторических перспективах» [136, с. 443].
Приведенное высказывание, весьма показательное для современной тенденции исторического осмысления традиционной африканской государственности, дает четкий негативный ответ на старый вопрос о «феодализме» в Африке. Разочарование даже в афро-варварских параллелях — как непригодных для стадиальной идентификации — не оставляет в этом сомнений.
Более или менее едины в оценке даже самых развитых африканских обществ как нефеодальных и зарубежные ученые-марксисты. За единичными исключениями [106], они связывают стадиальную и типологическую классификацию этих обществ с известной гипотезой К. Маркса об «азиатском способе производства» [14; 69; 79; 71-72; 218; 236; 232; 92; 123]. Основной характерной чертой обществ такого типа признается, по общему мнению, существование государственно-эксплуататорского общественного строя при отсутствии частной собственности на основные средства производства, что объясняется переходным состоянием общественной системы, впервые эволюционирующей от бесклассовых отношений к классовым и потому противоречиво сочетающей черты тех и других.
Гораздо осторожнее подходит к проблеме В. Руш (ГДР), автор единственного в зарубежной марксистской историографии специального исследования, посвященного доколониальной Буганде. В предисловии к своей монографии «Классы и государство в доколониальной Буганде» В. Руш поясняет, что ввиду теоретической сложности проблемы и необходимости ее дальнейшей детальной разработки он вынужден отказаться от точного определения достигнутой Бугандой ступени общественного развития и считает возможным дать ей лишь предварительное определение «докапиталистического классового общества» [209, с. 390]. Однако такое решение вопроса слишком общо и расплывчато и, по-видимому, является следствием попытки автора изолировать сугубо конкретный социально-экономический анализ от общего контекста теоретических вопросов, связанных с генезисом государства. В итоге создается впечатление некоторого искусственного занижения уровня исследования и в значительной степени «номинального», условного применения к бугандской общественной системе таких важнейших понятий, как государство, собственность, классы. При всей несомненной сложности проблемы имеющийся фактический материал, с одной стороны, и современное состояние теоретических знаний, с другой, позволяют сделать более определенные выводы о стадиальной природе бугандского общества.
В советской африканистике ряд специалистов продолжают отстаивать феодальную трактовку общественного строя раннегосударственных образований Тропической Африки [35; 63, 37; 52; 23; 34; 27]. К разряду феодальных (государственно-феодальных) обществ обычно относят в нашей литературе и доколониальную Буганду, но не в специальных разработках этого вопросах (таковых пока нет), а в более общих или специальных, но по другой тематике, исследованиях, посвященных Буганде или Уганде [36; 6, с. 201; 42, с. 113]. При этом данное без специального анализа и аргументации определение стадиального характера бугандского общества как феодального звучит чуть ли не аксиомой или, во всяком случае, давно установленной наукой истиной.
А
между тем это не так. Еще в
Это замечание И. И. Потехина сохраняет свою актуальность и поныне. Действительно, поиски более адекватных оценок социальной природы африканских обществ вынуждают при применении в процессе их исследования научного аппарата, выработанного на основе анализа сложившихся классовых обществ, делать ряд весьма существенных оговорок, и прежде всего относительно такого кардинально важного в марксистской исторической науке критерия стадиального определения общества, как тип собственности на средства производства. По мнению всех советских африканистов, отсталость экономического развития сопровождалась консервацией родо-племенных и общинных отношений, и в первую очередь общинных норм землевладения, даже у тех народов Тропической Африки, которые к началу колониального периода имели давние традиции гоеударственности. Достигнуто значительное согласие и в том, что начальные этапы генезиса эксплуататорских отношений и зарождение государственности, как отмечал в свое время в «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс [3, с. 184] складывались в ходе развития общественного разделения труда (порождающего специализированные на управлении группы, постепенно перерождающиеся из слуг общества в его господ) и не были непременно связаны с синхронным формированием частной собственности. Л. Е. Куббель пишет: «Очевидно, что возможность монополизации хозяйственно-организационных функций... появилась значительно раньше, чем возможность монополизировать право на распоряжение любой составной частью средств производства» [34, с. 347—348].
Во многих случаях этот процесс не только не обнаруживался сопутствующим ранним формам эксплуатации и государства, но и не прослеживался при длительном, достигшем, казалось бы, зрелого развития процессе консолидации государства. Вот что пишет Н. Б. Кочакова об одном из наиболее развитых обществ доколониальной Тропической Африки: «Монополизация высоких должностей... создает предпосылки для монополизации... основных средств производства... Однако эти предпосылки остаются нереализованными... из-за потребительской экономики, крайне медленное развитие которой обусловливается хозяйственной замкнутостью Йорубы в целом и сохранением общин в качестве первичных ячеек производства» [30, с. 58].
Этот чрезвычайно важный феномен не получил еще должного исследования и признания в нашей африканистике. А между тем именно он, как нам кажется, может быть одним из принципиально важных отправных моментов дальнейших исследований становления антагонистического общества. И прежде всего необходимо теоретическое осмысление указанного явления — асинхронности, «ступенчатости» формирования институтов государства, частной собственности и соответственно классов — и выявление факторов, «растягивающих» или «сжимающих» во времени этот процесс. Такое осмысление поможет снять кажущееся противоречие, которое иногда усматривают в признании существования государства без частной собственности, а значит, и без сложившихся классов, но с ярко выраженными социальными и имущественными различиями и достаточно оформленными политическими институтами.
На
наш взгляд, именно недооценка этой
важнейшей специфической черты
первичных раннегосударственных
образований создает — при подходе
к анализу подобных общественных
систем с мерками оценок
сложившихся кассовых обществ —
впечатление несоответствия политических
институтов социально-экономическим.
Отсюда попытки либо
квалифицировать отношения
собственности как тот или иной
подвид известных форм частной
собственности и тем самым «согласовать»
социально-экономическую основу
общества с его политической
структурой, либо, напротив,
отказать такого рода образованиям
в праве считаться государственными.
По первому пути шли очень многие,
второй предложен недавно.
Вслед
за Д. А. Ольдерогге [49, с. 6] О. С.
Томановская полагает, что принятое
в нашей науке понятие государства
неприменимо к африканским «королевствам»,
не имевшим частнособственнической
основы эксплуатации, и предлагает
определять их термином «варварское
королевство», обозначающим, по ее
мнению, «историческое явление,
примерно аналогичное африканскому
королевству» [74, с. 282].
В некоторых случаях понятие «варварское королевство» на первый взгляд, возможно, и несколько лучше, чем термин «государство», передает состояние африканского общества, хотя и в этих случаях потребуются оговорки, так как указанное понятие слишком тесно ассоциируется с европейским материалом, в социально-экономическом плане все-таки заметно отличным от африканского. Но, кроме того, далеко не все «королевства» Тропической Африки, а именно как раз самые развитые из них могут быть даже условно отнесены к «варварским». А между тем и в них крайне трудно вычленить поземельные отношения частнособственнического типа. Н. Б. Кочакова убедительно показывает, например, отсутствие частного присвоения земли в Йорубе Бенине [29, с. 71—73; 30, с. 48—49].
Некоторые же исследователи полагают, что выбор не исчерпывается альтернативой: либо частная собственность либо не государство, а может быть предложен некий третий вариант — сочетание в обществе в силу его переходного состояния на первый взгляд противоречивых характеристик. Вот, например, как выглядят точки зрения ученых ГДР — Э. Хофмана и Э. Ш. Вельскопф, непосредственно касающиеся интересующего нас вопроса. По мнению Хофмана, «государства, в основе которых лежала эксплуатация сельских общин, нельзя считать классовыми, ибо в них не осуществилось решающее условие перехода к антагонистическому обществу, превращение первобытной общей собственности на землю в частную» (цит. по [24, с. 157]). Решающим критерием перехода к классовому обществу Хофман считает утверждение «частной собственности как базиса общества, но никак не появление отношений эксплуатации на базе общей собственности» [24, с. 150]. Этому мнению Вельскопф противопоставляет соображение, что такого рода государство — «не бесклассовое», так как «общая собственность теряет здесь свой первобытный, родо-племенной характер» [24, с. 158].
В приведенном весьма типичном примере обмена мнениями в концентрированном виде содержится суть проблемы. По нашему мнению, высказанные суждения только на первый взгляд могут показаться взаимоисключающими, на самом же деле доля истины имеется в обоих. Э. Хофман прав в том, что понятие класса в марксизме теряет свой смысл, если не обнаруживается главный критерий, по которому оно выделяется. Государство же — законный продукт общественного разделения труда и отношений эксплуатации — способно появиться и существовать в своих первых элементарных формах без частнособственнической основы. Здесь у Хофмана — ярко выраженное понимание и признание той самой асинхронности генезиса классов и государства, о которой мы уже говорили.
Однако это вовсе не говорит о том, что в подобных раннегосударственных образованиях отношения собственности остаются неизменными. Если мы не обнаруживаем в них элемента частной собственности, это еще не равнозначно тому, что они сохраняются в первозданном состоянии. И на это обстоятельство справедливо обращает внимание Вельскопф.
Во
многих раннегосударственных
образованиях (ив том числе в
Буганде) существовала неизвестная
более архаичным обществам
концепция верховной собственности
главы политического объединения на
все земли входящих в него общин,
владельческие права которых
выступали, таким образом,
подчиненными этому верховному звену.
Это является несомненным свидетельством
определенного сдвига в поземельных
отношениях сравнению с родо-племенным
обществом.
Тем
самым предстоит выяснить, каковы
происхождение, природа и функции
этой специфической верховной
собственности и соответственно ее
роль в формировании радиальных и
типологических характеристик
возникающего государства. С
решением этих вопросов связана
главная задача настоящей работы —
определение общих и локальных
закономерностей эволюции и
исторического места бугандской
государственности.
Глава I
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА
(XII—XIII вв.)
На уровне современных знаний и по самым смелым предположениям, начальные признаки государствообразования не только в Буганде, но и в Межозерье в целом прослеживаются не ранее XII—XIII вв. Чтобы понять, что стоит за этим рубежом, необходимо, по-видимому, представить совокупность и соотношение различного рода факторов — экологических, экономических, исторических, вызвавших этот процесс и направлявших его развитие.
Начнем с экологической среды — естественного исходного условия существования человеческого общества, так или иначе влиявшего на самые разные стороны его развития, и прежде всего на хозяйственную деятельность.
Выделение Межозерья в особую географическую область объясняется не столько однородностью его природных условий, сколько окружающими его барьерами «разной степени труднодоступности» [168, с. 61]. На западе к Межозерному плато подступают влажные леса Конго, на севере — заболоченные берега оз. Кьога и скрытые покровом плавучей растительности верховья и притоки Белого Нила, путь на восток преграждает Ньика — аридные степи между верхним Нилом и нагорьями Эфиопии. Относительно доступные проходы оставались с северо-запада, по водоразделу Конго — Нил и с юга, по обе стороны от оз. Виктория, причем западный из южных коридоров считается топографически более удобным [87, с. 8].
Разумеется,
нельзя считать изолятом страну,
веками пропускавшую через себя
волны мигрантов, но географическая
удаленность от центров передовой
культуры древности и средневековья,
затрудненность даже косвенных
контактов с ними не могли не
сказаться на исторических судьбах
народов Межозерья.
Не одни только географические условия повинны в относительной изоляции Межозерья, отметим и другую, не менее важную ее причину. Как известно, и Сахара оказывалась преодолимой, когда на то возникли достаточные стимулы. Точно так же и изоляция Межозерья сохранялась лишь постольку и до тех пор, пока не появлялись подобные стимулы. Это убедительно показал М. Познански в работе, специально посвященной проблеме контактов народов Межозерья с восточноафриканским побережьем, а отчасти и с другими областями Африки [193]. Задавшись вопросом, почему до сих пор все попытки пополнить представление об этих контактах не дали новых существенных сведений, и скрупулезнейшим образом сопоставив имеющиеся материалы, следователь пришел к вполне однозначному выводу: эти сведения скудны, так как до XIX в. крайне слабы были и сами контакты. Отдавая должное трудности коммуникаций, Познански, однако, справедливо видит основную причину такой ситуации в том, что он называет «недостатком инициативы» с обеих сторон. Золота в Межозерье не было, а рабы и слоновая кость до середины XIX в. поставлялись в достаточном количестве из более близких к побережью районов. И только когда ресурсы этих районов стали истощаться, торговцам-суахили пришлось забираться подальше, в глубь континента. И тогда же смогли значительно развиться встречные потребности контрагентов в привозных тканях, каури, огнестрельном оружии [193, с. 216—225].
К
этому вопросу придется еще не раз
возвращаться, пока же ограничимся
ссылкой на свидетельства ранних
европейских авторов, отметивших
узость пространственного
кругозора баганда: «Их знание
географии... весьма ограниченно. На
севере оно простиралось до страны
ачоли и луру, озера Альберт[2] и оттуда... к горе Элгон...
не распространялось дальше плато,
заселенного нанди и масаями. В юго-западном
направлении они знали о существовании
страны Уньямвези и оз.
Танганьика. На западе их взоры
упирались в великую стену конголезского
леса... Таковы были границы их
знаний до 1850 или
Рельеф
Межозерья — волнистое плато,
плавно понижающееся к неглубоким
водам оз. Виктория (площадь оз.
Виктория — 68 800 кв. км, средняя
глубина —
В
длиннотравной саванне северного
побережья оз. Виктория, где
формировалось ядро бугандского
государства, повышенная влажность (
Восточноафриканская королевская комиссия 1953— 1955 гг., отметив разнообразие природных условий восточной Африки, в целом отнесла их к разряду «суровых» [87, с. 19]: почти половина территории Восточной Африки дает возможность вести лишь экстенсивное скотоводческое хозяйство. В связи с этой оценкой становится понятным, почему почти в каждой работе о Буганде настойчиво подчеркивается исключительная благоприятность ее естественной среды. По восточноафриканским стандартам Буганда действительно выглядит приятным контрастом сожженным солнцем сухим саваннам, но современные исследования показали, что видимую привлекательность облика страны не следует переценивать. Медико-географические характеристики Уганды колеблются между слабой степенью дискомфорта на востоке и слабой степенью комфорта на западе [62, с. 171]. Высокий уровень заболеваемости во влажных длиннотравных саваннах вызывал эпидемии, что должно было периодически сказываться на численности плотности населения (а тем самым и на общем состоянии производительных сил страны).
Палеоантропологическая картина Межозерья во многом еще далека от полноты и достоверности. Ее восстановлению мешает фрагментарность данных, но некоторые основные черты известны уже сейчас. Согласно находкам Лики, земли к востоку от оз. Виктория входили в область древнейшего расселения человека в Африке. Есть также свидетельства, что охотники-рыболовы западной части района оз. Виктория относились к предкам современных пигмоидных популяций: «В Руанде и Уганде... вероятнее всего, эти автохтонные обитатели были предками теперешних тва» [138, с. 185]. Восточные районы Межозерья тяготели в этом отношении скорее к Восточной Африке — области древнейшего расселения и, возможно, формирования бушменских (Ж. Йерно называет их койсанскими) популяций [138, с. 39—40]. С этими популяциями археологи связывают позднекаменные микролитические индустрии, обнаруживающие сходство по всей восточной части Африки от Эфиопии до самого юга континента и известные под общим названием «уилтон» [186, с. 22].
Современный уровень знаний не дает возможности вполне определенно ответить на вопрос о времени и технической основе перехода населения Межозерья к производящему хозяйству. До недавнего времени большинство исследователей склонялось к мнению, что для этого региона, как и для большей части Африки южнее Суданского пояса и Африканского Рога, неолитический период не был характерен [105, с. 48; 98, с. 20; 250, с. 70; 233, с. 146]. Это объяснялось рядом причин, среди которых в первую очередь назывались такие непосредственно экологические, как отсутствие исходных форм культурных растений и домашних животных в субэкваториальной Африке, затрудненность контактов между севером и югом континента, отсутствие рек, пригодных к ирригации, зараженность влажных районов мухой цеце, обилие растительной и животной пищи в лесах и саваннах.
Исследования
последних лет — весьма интенсивные
и плодотворные — не только внесли
заметные поправки и уточнения в
общую картину распространения
производящего хозяйства в Африке,
но и привели к ее существенному (если
не сказать — кардинальному)
пересмотру.
С одной стороны, как показывают полученные результаты, возможности распространения земледелия и скотоводства с севера на юг Африки в некоторых отношениях были еще более затруднительными, чем думали до сих пор. Основываясь на новейших биологических данных, Р. Оливер и Б. Фэган полагают, что важнейшей помехой распространению производящей экономики с севера на юг континента были не только и не столько сами по себе расстояния и трудности коммуникаций, сколько два экологических барьера. Первый из них проходил между зонами зимних и летних осадков и оказывался непреодолимым для пшеницы и ячменя — основных зерновых культур Северной Африки. Второй, к югу от Суданского пояса (т. е. относящийся и к Межозерью), из-за мухи цеце стал препятствием распространению скотоводства и из-за влажности — зерновых [186, с. 12, 18].
С другой же стороны, выяснилось, что субсахарская Африка отнюдь не была лишена, как недавно предполагалось, пригодных к доместикации видов растений. Правда, и раньше некоторые специалисты считали это предположение не вполне правомерным и не исключали возможности возделывания в Центральной Африке еще в I тысячелетии до н. э. местных культур, например гвинейского ямса [98, с. 15; 105, с. 48; 183, с. 364]. Особенно отстаивал гипотезу древнего тропического корнеплодного земледелия в Африке К. Ригли [250, с. 92]. Однако только в последние годы эта точка зрения получила достаточное обоснование и уже определен список местных культур. Здесь не место приводить его, скажем только, что в него входит масличная пальма, некоторые корнеплоды и даже зерновые (западноафриканский рис) [133, с. 250].
По известной лингвистической реконструкции М. Гатри, язык протобанту еще до их расселения из первоначального ядра в I тысячелетии до н. э. формировался в обществе, знакомом с производящей экономикой, но не знающем металла. Этот взгляд, правда пока еще недостаточно подтвержденный археологией, тем не менее разделяется некоторыми ведущими специалистами: «Факт величайшего исторического интереса — что протобанту до их дисперсии из прародины был уже, совершению очевидно, языком производящего хозяйства» [186, |с. 31].
По мнению Ч. Эрета, Центральная и Южная Африка начальным распространением земледелия и скотоводства обязана двум различным неолитическим традициям: уже упомянутому корнеплодному земледелию прабанту, распространявшемуся с запада, через бассейн Конго, на юг и восток, и «суданской смешанной» традиции, берущей начало на севере Восточной Африки и в бассейне, среднего Нила. Первая традиция постепенно внедрялась во влажные лесные районы и по мере углубления в экваториальный лес теряла скотоводческие навыки. Вторая, напротив, сложилась на открытых пространствах Восточной Африки и несла с собой зерновое земледелие (просо, сорго) и скотоводство (козы, овцы, крупный рогатый скот). Начало стыковки этих традиций в Центральной Африке Эрет относит по крайней мере ко второй половине I тысячелетия до н. э. [113].
Как в свете этих новых данных выглядит район Межозерья? На приведенной Эретом карте с примерно обозначенными штриховкой областями, испытавшими воздействие той или другой традиции, оз. Виктория оказывается в свободном (т. е. остающемся еще во власти охотников-собирателей) коридоре, хотя с запада к нему почти примыкает сфера распространения центральносуданских групп — носителей «смешанной суданской традиции», а на востоке несколько дальше находятся «южнокушитские» неолитические группы. Что же касается прабанту — носителей корнеплодного земледелия, то они остаются к западу от центральносуданской вертикали, проходящей по западному разлому Рифт [113, с. 13], и, таким образом, заведомо не имеют непосредственного выхода к Межозерью.
В тексте, однако, говорится, что «центральносуданские общины завоевали господство в озерном районе» и «примерно в первой половине последнего тысячелетия до нашей эры центральносуданская речь, культура и земледелие начали постепенно распространяться на юг из межозерного района» [113, с. 4, 14]. Остается неясным: то ли штриховка на карте лишь приблизительно отражает концепцию автора, то ли он действительно не включает в свое понятие озерного района земли к северу от оз. Виктория.
Как
бы то ни было, но есть некоторые
основания предполагать, что в этот
период Межозерье могло быть
затронуто производящей экономикой.
Еще в
Косвенным свидетельством возможности существования земледелия в Межозерье может служить и так называемая керамика Кансйоре (по названию острова на р. Кагера). Она была обнаружена не только на этом острове, но и в пещерах по побережью оз. Виктория, в слоях, предшествующих индустрии железа. В субсахарской Африке наличие керамики обычно связывают с производящей экономикой, чего Р. Оливер не исключает и в данном случае. Но пока он склонен очень осторожно трактовать эти находки, так как возможен и другой вариант: заимствование керамики позднекаменными охотниками и рыболовами у соседних обществ с производящим хозяйством, до сих пор неизвестных археологии [186, с. 28, 70]. «Если такая производящая культура будет найдена во влажных саваннах вокруг оз. Виктория, — заключает Оливер,— это объяснит многие существующие проблемы, касающиеся распространения на юг скотоводства и зерновых» [186, с. 28].
Коль скоро с востока ближайшим к Межозерью центром производящей экономики была область распространения культуры Stone Bowl на Кенийском нагорье в долине Рифт, естественно, велись поиски ее возможных контактов с озерным районом. Радиокарбонные датировки этой культуры относятся к началу I тысячелетия до н. э. [233, с. 144]. Костные остатки показывают, [что носители Stone Bowl принадлежали к эфиопидному (Еlongated Africans, по Ж. Йерно) антропологическому типу [138, с. 140—144]. Вероятнее всего, именно эти группы начали выращивать в Восточной Африке зерновые эфиопского происхождения — просо и сорго, хотя для I тысячелетия до н. э. вполне однозначных доказательств этого пока нет [133, с. 258; 186, с. 20]. Гораздо менее ясен вопрос о возможности влияния этой кенийской культуры на Межозерье. В отличие от Мердока и Маке [172, с. 349; 163, с. 190] Саттон и Оливер [233, с. 146; 186, с. 20—21] считают, что культура Stone Bowl не распространилась дальше Центральной Кении и Северной Танзании и была всего лишь анклавом в окружении охотничье-собирательских групп вплоть до начала нашей эры. Следовательно, в лучшем случае вопрос о «донорстве» Stone Bowl по отношению к Межозерью пока остается открытым. Что же касается лесов и влажных высокотравных саванн северного побережья оз. Виктория (в первую очередь нас интересующего в составе Межозерья, так как именно здесь впоследствии складывалось первоначальное ядро бугандского государства), то трудно представить сколько-нибудь заметное освоение этих областей с помощью одних лишь зерновых культур и скотоводства. Экологически эти виды хозяйства из-за влажности и мухи цеце в весьма ограниченной степени были пригодны в местных условиях.
Другое дело — более сухие и открытые пространства короткотравных саванн, лежащих к северо-западу от приозерной полосы оз. Виктория и предположительно по западному краю затронутые «суданской смешанной традицией» Ч. Эрета.
Пока неизвестно, существовало ли корнеплодное земледелие в Межозерье дожелезного периода. Однако нельзя полностью исключать возможность ранних миграций предков банту, обладавших позднекаменной техникой, которые могли через водораздел Конго — Нил проникнуть на северное побережье оз. Виктория [220, с. 74; 100, с. 35—36].
Вполне
достоверно и в значительных
масштабах Межозерье приобщается к
производящему хозяйству только в
первых веках нашей эры.
Археологические свидетельства
этого связываются с культурами
раннего железа, распространенными
по всей Центральной и Южной Африке
от оз. Виктория до Трансвааля. Эти
культуры, по типам керамики
получившие названия «димпл» и «ченнелд»,
датируются преимущественно
началом и серединой I тысячелетия
н. э. [234, с. 6]. Предположительно они
восходят к известной культуре Нок,
т.е. географически к области,
совпадающей с локализацией прародины
банту по Дж. Гринбергу [192]. Однако
вторичный центр распространения
культуры димпл находится к югу от
лесов Конго, где с освоением
малайских влаголюбивых растений
начались миграции банту во всех
направлениях, в том числе и в
северном [183; 132; 137]. До недавнего
времени самая ранняя датировка
культуры димпл приходилась на
Мачили в долине Замбези —
Таким образом, сейчас уже очевидно, что по крайней мере с середины I тысячелетия н. э. область к северо-западу от оз. Виктория была населена людьми, говоривший на языках банту и умевшими изготовлять железные орудия.
Примерно с этого же времени или несколько позже датируется появление бананов в Уганде. По подсчетам ботаников, для выведения нескольких десятков сортов, известных сейчас в Восточной Африке, понадобилось не менее 1500—2000 лет [168, с. 67]. В попытках установления путей распространения этой культуры пока не достигнуто единства мнений. Если Дж. Мердок предполагал прямой путь индонезийских культур с северо-восточного побережья через посредничество кушитов к банту Межозерья, пройденный еще до начала нашей эры [172, с. 379], а Дж. Вейнрайт отводил исходный пункт еще дальше к северо-востоку, в Эфиопию [244, с. 145—147], А. Томас и Д. Макмастер обратили внимание на то, что преодоление аридных пространств кенийской Ньики вряд ли было возможно для банана, не способного переносить засуху, и естественнее предположить, что бананы, ямс и таро, попав с Мадагаскара на мозамбикское побережье Африки, достигли Межозерья с юга через долину Замбези и Великие озера [237; 168]. Эту точку зрения поддержали К. Ригли, М. Познански и Р. Оливер [250, с. 92; 191; 183], хотя Познански и оговаривает, что вопрос еще не может считаться окончательно решенным [193, с. 224].
Помимо банана, ставшего основной земледельческой культурой приозерья Виктории, древнейшими из традиционных культур являются сорго, просо, ямс, таро и некоторые бобовые. Культуры американского комплекса (бататы, арахис, кассава, маис) получили распространение в Межозерье значительно позднее, может быть только в XVIII—XIX вв. Манго и цитрусовые считаются заимствованными с восточного побережья Африки, они мало изучены, но широкое распространение манго в Уганде, разнообразие его сортов предполагают давнюю культивацию [193, с. 223—224; 133].
Смену культуры димпл так называемой культурой рулетг с совершенно иным, более грубым типом керамики и признаками преобладания скотоводства в хозяйстве ее носителей археологи и историки связывают с новыми иммигрантами в Межозерье, пришедшими с севера и северо-востока. Археологически, по словам Р. Оливера, их приход означал «встречу культур железного века с севера и с юга» [186, с. 85]. Точных датировок этой «встречи» еще нет: если культура димпл приходятся главным образом на II—V вв., то для культуры рулетт данные есть лишь для периода XIV— XVI вв. [186, с. 214]. Промежуток между этими датировками до сих пор образует пробел в археологическом знании района, но предположительно считается, что культура димпл скорее всего не характерна для начала II тысячелетия н. э.., тогда как культура рулетт вряд ли пересекает этот временной рубеж в обратном направлении [186, с. 85]. Лучше всего культура рулетт аттестована в Биго и подобных ему сооружениях, о которых речь пойдет ниже. Оливер считает иммигрантов носителями «центральносуданских, нилотских или паранилотских языков» [186, с. 85]. Но ряд свидетельств говорят скорее в пользу того, что ни в лингвистическом, ни в антропологическом, да и в культурном отношении пришлые скотоводы не представляли собой единства. Очевидно, например, отличие физического облика нилотов от типа, присущего другим скотоводам Межозерья — бахима, бахума, батутси. А именно с предками последних с не меньшим основанием также связывают скотоводческую культуру рулетт, керамика которой находит некоторые параллели в керамике Эфиопии [194, с. 7], т. е. области древнейшего распространения этого антропологического типа. Кроме того, порода скота, разводимого бахима, бахума, батутси, — длиннорогого горбатого санга — сложилась, как предполагают, в конце I тысячелетия н. э. в Эфиопии или в более широком ареале, включающем Южный Судан [195, с. 88—89; 153, с. 15—16], т. е. опять-таки прослеживается косвенное звено связи с кушитоязычными эфиопидами. Правда, коль скоро упомянутые группы заимствовали языки банту, лингвистическое их родство с кушитами (если таковое и было) пока еще достоверно не реконструировано. Во всяком случае, попыток такой реконструкции, если не считать индентификации каких-то отдельных слов и терминов, до сих пор не производилось.
По мнению Оливера, скотоводы первых веков II тысячелетия н. э. были «первыми носителями производящего хозяйства, занявшими сухой коридор саванны, пересекающий Уганду с северо-востока на юго-запад и кончающийся в восточной Руанде» [186, с. 85]. Вряд ли ложно уверенно согласиться с этим мнением, если помнить хотя бы уже излагавшуюся гипотезу Эрета. Причем Эрет не одинок, допуская возможности гораздо более раннего проникновения начатков скотоводства и зернового земледелия в Межозерье. Так, Ж. Маке полагает, что эфиопидные скотоводы проникали в район Межозерья несколькими волнами, первые из которых, возможно, восходят к началу I тысячелетия до н. э. [163, с. 190]. Сходной точки зрения придерживается и другой специалист по Межозерью Л. де Хойш: «Ни хима-тутси, ни нилоты не были первыми, кто познакомил мир банту с элементами скотоводческой культуры» [136, с. 14]. Определенное суждение на этот счет может сложиться только с надежными данными, но в целом впечатление складывается скорее в пользу оппонентов Оливера.
По-видимому,
только с начала II тысячелетия н. э.
скотоводство и, вероятно, зерновое
земледелие получают в сухих
саваннах Межозерья несравненно
более широкое распространение. Это
хорошо прослеживается
археологически и оставило по себе
память в устной традиции как о
времени наплыва миграций и
взаимодействия местного
населения с чужеземцами,
постепенно оседавшими здесь.
В советской и зарубежной литературе много писали о роли скотоводства в развитии процессов социальной и имущественной дифференциации. Межозерье, может быть, один из наиболее красноречивых примеров, демонстрирующих сильные и слабые стороны «скотоводческого импульса» в сложении раннегосударственных систем. Как будет показано ниже, этот импульс, с одной стороны, способствовал достаточно быстрому образованию социально-политических объединений пред- и раннегосударсгвенного типа. Однако, с другой стороны, он же — в условиях, благоприятствующих сохранению полукочевого образа жизни, преобладанию скотоводства над земледелием и неполного симбиоза этих двух видов хозяйства — тормозил дальнейшую консолидацию общества в политическом отношении и дифференциацию в социально-экономическом.
Так или иначе, но широкое распространение скотоводства оказало чрезвычайно сильное воздействие на дальнейшее развитие Межозерья. Большой миграционный поток скотоводов, ищущих новые пастбища, смог, наконец, эффективно освоить сухие саванны, если до того и приобщенные отчасти к производящей экономике, то лишь в слабой степени. Рост численности населения, оттеснение присваивающих видов хозяйства на второстепенные роли не только создавали объективные предпосылки для появления регулярного избыточного продукта, но и предполагали возрастание его объема и усложнение состава, тем самым — через обмен и общественное разделение труда — приближая его социальные последствия. Земледелие при таких масштабах распространения скотоводства получило новые стимулы развития: увеличился спрос на его продукты, главным образом в сухой, зерновой зоне. Что же касается влажной, бугандской зоны, то она до этого времени сочетала земледелие преимущественно с рыболовством и охотой [148, с. 25] и только теперь сюда понемногу, сообразно ограниченным экологическим возможностям, проникало и скотоводство.
Таким образом, неоднородность природных условий Межозерья предполагала н различное соотношение земледельческого и скотоводческого укладов хозяйства: некоторый перевес скотоводства в наиболее удаленной от приозерья, западной и северо-западной зоне; резкое преобладание скотоводства в среднем, засушливом поясе и, напротив, преимущественная роль земледелия в прибрежной, влажной полосе, зараженной мухой цеце и враставшей по мере сведения лесов непригодной для скота «слоновой» травой. Основной культурой в отличие от зерновых севера и центра Межозерья здесь стал банан.
Несколько
десятков местных сортов банана и
сотни разновидностей делятся на
четыре группы — bitoke (для варки), mbide (для
приготовления пива), gonia (для
валения) и десертные, сладкие — menvu.
Посаженный в плодородный краснозем
бугандских холмов, банан начинает
плодоносить через 10—18 месяцев и
способен приносить урожай в
течение 30—50 лет [167, с. 42—43]. По
урожайности он уступает только
маниоке, уход за ним не трудоемок.
Японский исследователь С. Акабане [81,
с. 165] приводит следующие данные:
чтобы вырастить и собрать урожай на
Даже ко времени колонизации в системе земледелия баганда были видны лишь элементы чередования культур, не получившие значительного развития, так как земли было много и истощенный участок всегда можно было забросить на несколько лет [118, с. 38]. Все работы производились несколькими простыми орудиями: мотыгой, палкой-копалкой с железной рабочей частью, ножами разной величины и формы [239, с. 92—96]. Сложившееся в Буганде соотношение земледельческих культур наряду с другими факторами, о которых речь пойдет ниже, оказало огромное влияние на социальную историю этой страны. Не знающей засух Буганде не угрожал и голод. Многолетняя культура банана обеспечивала прочную оседлость, стабильность хозяйства, что при потребительском направлении экономики неминуемо означало меньшую по сравнению с областями зернового земледелия площадь, занятую под однолетними культурами, и соответственно меньший объем работ в периоды расчисток новых участков и уборки урожая. Тем самым в основной отрасли производства — земледелии — сводилась к минимуму необходимость коллективного мужского труда. По мнению К. Коттака, «немного найдется обществ, в которых мужчины были бы так свободны от земледельческих работ» [151, с. 358]. Это же убедительно показано в исследовании Дж. Мердока и К. Провост, составивших статистические таблицы разделения труда между полами по 50 видам трудовой деятельности на примере 185 обществ, в том числе и баганда. Из этих таблиц следует, что средний процент участия мужчин в различных видах земледельческих работ в таких обществах, от первоначальной расчистки участка до сбора урожая, составляет: расчистка — 90,5%, подготовка — 73,1, сев и посадка — 54,4, уход — 44,4 и сбор урожая — 45%. Для баганда же эти процентные показатели выглядят следующим образом: расчистка — 95%, подготовка— 10, сев и посадка — 20, уход — данных нет и сбор урожая — 26% [173, с. 207, 217].
Итак, за исключением первоначальной расчистки, весь цикл земледельческих работ в Буганде был обязанностью женщин, причем разновременность созревания культур более или менее равномерно распределяла нагрузку в течение года и позволяла справляться с хозяйством без посторонней помощи. Потребность в кооперации в традиционном земледелии баганда была минимальной в отличие от производственной деятельности многих других земледельческих народов Тропической Африки. В отношении продуктивности земледельческого хозяйства баганда традиционнно считалось, что одна женщина может прокормить десять мужчин. К. Ригли, посвятивший специальную работу экономике баганда, не видит в этом утверждении слишком большого преувеличения [251, с. 18]. Следовательно, в пределах, доступных земледелию мотыжного типа, потенциальные возможности производства избыточного продукта в Буганде были довольно высокими. Другое дело — были ли условия и стимулы для реализации этой возможности.
Какие последствия имели индивидуализация процесса производства и высвобождение мужских рук от земледелия? Уход за скотом не был делом взрослого мужчины. Немногочисленный скот рядового общинника — одна-две коровы, несколько коз и овец в каждом хозяйстве — пасли мальчики-подростки, поднимаясь с деревенским стадом на вершину холма, который опоясывала деревня. Традиционными мужскими занятиями считались охота, рыболовство, постройка жилища и домашние ремесла — гончарство, изготовление лубяной материи «мбугу», плетение сетей, циновок, корзин, обработка кож и дерева [144, с. 151 —159]. В догосударственный период от земледелия, вероятно, отделилось тишь одно из ремесел — кузнечное. Причем навыки ковки и тем более плавки железа были усвоены предками баганда несколькими веками позже, чем просто умение пользоваться железными орудиями. Легенды о первых кузнецах — чужеземцах из Буньоро и Будду — хорошо согласуются с размещением естественных ресурсов. Исконные земли Буганды бедны месторождениями железных руд в отличие от соседних северо- и юго-западных областей. Даже в XIX в. бугандские кузнецы специализировались главным образом на перековке вторичного сырья; дефицит металла заставлял бережно относиться к каждому кусочку железа: выбросить сработанную мотыгу считалось непозволительной роскошью в крестьянском хозяйстве [144, с. 160].
Мотыги из Буньоро и Будду — традиционная и, по-видимому, восходящая к глубокой древности статья межрегионального обмена. Соль — вторая по важности статья вывоза из Буньоро, ее издавна выпаривали в. Кибиро и Катве у берегов соленых озер. В обмен на соль и железо жители прибрежной полосы могли предложить вяленую рыбу и бананы, что было отнюдь не лишним для населения сухой саванны, периодически страдавшего от голода [241]. Потребность в обмене недостающими ресурсами и продуктами могла стимулировать, таким образом, производство избыточного продукта в обеих экологических зонах. Но, как показывают источники, эта потребность была не вполне взаимной. Средняя, засушливая зона, едва обеспечивающая воспроизводство редких, разобщенных земледельческих общин и экстенсивно-скотоводческая по основному направлению хозяйства, была все-таки не слишком подготовлена в силу малопродуктивности экономики и низкой плотности населения к интенсивным обменным отношениям. Западная и северо-западная область, впоследствии ставшая центром Китары-Буньоро, почти в равной мере имела все необходимые ресурсы и поэтому была более самодостаточна, чем «банановая» зона, и не столь заинтересована в обмене. Так или иначе, но история Буганды показывает, что она с большей активностью искала контактов с соседями, нежели они с ней. К тому же возможность выбора партнеров по обмену была чрезвычайно узкой: почти до конца XVIII в. торговые пути Межозерья замыкались в автономную систему, не имеющую выхода в другие районы Африки.
Как уже отмечалось, К. Коттак в числе причин, приведших к образованию государства в Буганде, отводит важное место включению скота в межрегиональный обмен [151, с. 371]. Однако это утверждение можно принять лишь с оговорками.
Земледельческая Буганда действительно довольно быстро научилась ценить скот. Тем не менее товарное значение скотоводства оставалось довольно низким. По разным причинам его развитие для обеих сторон было и невозможно и ненужно. Полукочевое скотоводство менее всего было ориентировано на рынок. В представлении кочующих групп, скот имел самодовлеющую престижную ценность, с которой расставались лишь в определенных случаях, когда дарение (но не продажа) скота скрепляло взаимные социальные обязательства двух групп (заключение брака, военного союза, установление отношений покровительства, побратимства).
Кроме
того, экологические условия
бугандского приозерья не позволяли
держать большие стада. Если бы
баганда задались целью приобрести
как можно больше скота, им бы
пришлось отнимать его силой и
вместе с пастбищами; именно так
развивались события несколькими
веками позже, когда в бугаядском
обществе назрела потребность в
грабительских я захватнических
войнах и создалась возможность их
успешного ведения. Не обмен, а война
решала для баганда вопрос о том, в
чьей собственности будет скот.
Поэтому тезис Коттака можно
считать справедливым только при
условии отведения ему места
частного — и далеко не самого
важного — фактора в контексте
отношений между скотоводами
земледельцами, в целом крайне
важных для общественного развития
народов Межозерья.
Итак, особенности структуры производящего хозяйства, развивавшегося на протяжении почти тысячелетия (временные границы которого приблизительно определяются V—XIII вв.) в прибрежной полосе к северу от оз. Виктория, обусловили необычайно высокую для мотыжного земледелия степень индивидуализации производства и почти полное освобождение мужского населения от земледельческого труда. Относительно высокая продуктивность хозяйства способствовала росту численности и увеличению плотности населения, постепенно расселявшегося по всему побережью. Некоторая разнородность экологических условий в пределах прибрежной полосы могла, вероятно, поддерживать регулярный обмен, но масштабы его вряд ли были значительны. Гораздо более настоятельной была потребность в обмене скотоводческо-земледельческой зоной короткотравных саванн северо-запада Межозерья, но, повторяем, эта потребность была недостаточно взаимной.
Пока прибрежное население оставалось малочисленным и разобщенным, оно, вероятно, еще могло обходиться тем немногим, что удавалось получить от соседей, или, во всяком случае, вынуждено было мириться с нехваткой железа, соли, скота.
Устные хроники баганда повествуют о временах, тогда каждый, довольствуясь малым, жил со своими сородичами и не знал иной власти, кроме власти родового старейшины [203, с. 186]. Лишь 5—6 из 36 (по Дж. Роско) родов помнят себя в Буганде до появления Кинту — легендарного основателя династии бугандских правителей [203, с. 145]. Однако не все версии рисуют картину идиллической уединенности родов и в ту отдаленную эпоху. В преданиях Кинту зачастую вынужден доказывать свое превосходство в единоборстве с персонажем, олицетворяющим верховное, надродовое начало. Иногда это сабатака — «старейшина старейшин», избранный из числа глав родов (особенно часто выступает в этой роли старейшина одного из древнейших и «благородных» родов — рода Виверры по имени Валусимби [224, с. 102]). В других вариантах Кинту воцаряется в Буганде после победы над змеем Бемба — «королем Буганды» [144, с. 12] и события развиваются еще драматичнее: если Валусимби уступает Кинту верховную власть, то разъяренный Бемба готов драться насмерть с узурпатором. Трудно сказать, была ли привнесена идея единого племенного вождя позднее, или она отражает какую-то долю исторической истины: иерархию родов и их борьбу за главенство в возникающем межродовом союзе. Мы можем лишь предполагать вероятность этого, учитывая, с одной стороны, общую предрасположенность описываемого общества к серьезным социальным переменам, и с другой, начиная с XIII— XIV вв. все более настойчивые импульсы извне: с северо-востока, где один из миграционных потоков банту постепенно заполнял земли между оз. Виктория и Индийским океаном, и с запада, где в это время консолидировалось и разрасталось первое в Межозерье объединение ранне- или по меньшей мере предгосударственного типа — так называемая «империя Китара». Тем самым в этой части Африканского континента обозначился локальный центр сложения государственности, по отношению к которому Буганда оказалась близкой периферией.
Какие последствия вызвала иммиграция в приозерье новых групп банту? И в какой мере эта область оказалась затронутой влиянием Китары? Предстоит, таким образом, выяснить роль этих факторов в эволюции государства в Буганде,
Глава II
СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА В БУГАНДЕ ЭПОХИ КИНТУ (XIII—XV вв.)
Ответить на поставленные в предыдущей главе вопросы нам помогут некоторые основные моменты в истории самой Китары.
Китара родилась из взаимодействия скотоводческой и земледельческой культур. В сущности, это то немногое, и самое важное, на чем сходятся все исследователи, пытавшиеся реконструировать ранний период истории этого государственного образования.
Гораздо сложнее выявить этнические компоненты, участвовавшие в создании новых общественных порядков, а также конкретный механизм социальных изменений, так как слишком скудны основания, на которые приходится опираться исследователям: космогонические мифы и эпические предания народов Межозерья, далеко не полно подкрепленные лингвистическим, археологическим и антропологическим материалом. Хронологические рамки этого периода определяются приблизительно XIII— XIV вв., т. е. совпадают с широким распространением скотоводческого хозяйства на севере Межозерья.
Наиболее ранними мигрантами (начало II тысячелетия н.э.), постепенно просачивавшимися с севера, из Южного Судана, были, по мнению Дж. Краццолары [108, с. 88], поддержанному М. Познански [194, с. 9] и Д. Коэном [102, с. 76], суданоязычные скотоводы-мади. Краццолара предположил, что одной из групп мади удалось на непродолжительное время установить господство над местным земледельческим населением и распространить контроль на большую часть территории современной Уганды [108, с. 88]. Именно их Краццолара идентифицирует с древнейшей из легендарных династий севера Межозерья — Батембузи (букв. «новоселы»). Д. Коэн несколько иначе оценивает предположительную этносоциальную структуру Китары XII—XIII вв.: «Батембузи не были собственно мади, но скорее возникли как вожди скотоводческих или смешанных объединений в ответ на давление мади. Вожди Батембузи, представлявшие скорее господствующие группы, нежели действительно унитарную династию... выдвинулись в контактах между хима и банту» [102, с. 80—81].
Традиция насчитывает 18—20 «королей» Батембузи. но легенды не дают возможности выстроить их героев в стройную династическую цепочку, да и нет никакой уверенности в правомерности такой операции: миф создается и живет по собственным законам и отождествлять его с реальной историей не приходится. «Были ли Батембузи династией и кто они были — неизвестно, и, возможно, никогда не будет известно» — к такому пессимистическому выводу приходит современный угандийский историк С. Каругире [145, с. 119].
Как бы то ни было, в легендах о Батембузи речь идет о земледельцах, скотоводах и правителях — ставший классическим у многих народов мира сюжет о происхождении различных занятий. В глазах создателей мифов баньоро, мир населен потомками трех братьев, сыновей первого человека по имени Нкйя, посланного на землю своим братом — верховным божеством Рухангой. По другой версии, те же братья — сыновья первого «короля» Кинту [177, с. 3]. Старший брат, Каиру — земледелец, «маленький слуга» (ка — уменьшительный префикс) — должен служить и подчиняться среднему брату, Кахума — «маленькому пастуху» и младшему, Какама Твале (Твари) — «маленькому царю» (отсюда одна из вероятных этимологии Китары — «царство»). Кроме трех «земных» имеется еще и четвертый, «старший» над ними брат по имени Канту («маленький человечек», «человеческое существо»), который предстает как олицетворенное зло, вредоносное начало, вселявшееся в правителей и порождавшее несправедливость и злоупотребления со стороны власть имущих [90, с. 34—36].
Кажется допустимым сопоставить сюжет о трех братьях с легендарной трехчленной последовательностью заселения Китары: в страну земледельцев-баиру приходят скотоводы-бахума, позднее оттесненные от власти самыми поздними, «младшими» на земле Китары — правителями династии Бито. По легендарному завещанию Кинту, «правитель всегда родится последним» [177, с. 3—4]. Вероятность такой параллели подсказывает известное свойство традиции — опрокидывать в прошлое в спрессованном и модифицированном виде события, развертывавшиеся на протяжении длительного времени.
Мир Батембузи знает богатство и бедность. «Чего еще желать»,— равнодушно отвечал подносившим дары Нгонзаки, один из представителей легендарной династии [90, с. 41]. Показательно и осмысление института побратимства, выразившееся в загадке, заданной сыну пресыщенного богатством Нгонзаки, последнему из Батембузи, Исазе. Побратимство — «дверца из бедности» [90, с. 44], или «дверь, за которую изгоняется печаль» [112, с. 14]. Если верить традиции, правление Исазы — время значительных социальных перемен: непочтительный к старейшинам, он разогнал традиционный совет и окружил себя молодыми и дерзкими выскочками. Отсюда и прозвище Исазы — Ругамбанабато («Тот, кто разговаривает только с молодыми») [177, с. 8]. За это он был наказан судьбой и, осознав свою вину перед оскорбленными старцами и заветами предков, восстановил власть совета старейшин. Традиция приписывает Исазе также и впервые произведенное деление страны на 16 административных провинций, или округов (saza), в числе которых называется и Muhwahwa, якобы частично включающая и земли Буганды [112, с. 10]. Само имя «Исаза» — производное от глагола «okusala» — «резать», «делить», причем в Буганде впоследствии территориальные округа также назывались «саза».
Очевидно, проблемы, волновавшие создателей легенд о последних Батембузи, свидетельствуют об обществе, в котором старые родовые институты вынуждены были постепенно уступать место элементам новой организации. Этот процесс происходил во взаимодействии двух обществ — скотоводческого и земледельческого. Зерновое земледелие запада Межозерья могло давать более или менее стабильный, но вряд ли значительный излишек продукции. Стимулировать его рост с целью обмена в тогда еще редко населенном и экологически однородном районе не имело смысла. Скотоводство, напротив, как известно, создает значительные возможности интенсивного накопления богатств. Однако стабильностью эта форма накопления не отличается. Эпизоотия, засуха, нападение враждебных племен могли быть причиной массового падежа скота или смены его владельцев. Таким образом, порознь оба типа производящей экономики порождали стимулирующие и тормозящие развитие моменты, в значительной мере гасившие друг друга и в итоге державшие общество ниже того уровня, за которым начинается кристаллизация государственных форм.
Западная Уганда как нельзя более подходила к тому, чтобы эти два типа экономики оказались взаимосвязанными. В симбиозе же они удачно дополняли сильные стороны каждого и подстраховывали слабые. Добровольно (для обмена) или принудительно (для дани), но земледельцам теперь приходилось стремиться к производству большего излишка продукции, чем тот, который требовался лишь для страховых фондов, подношений старейшинам и т. д. Со своей стороны, скотоводы, хотя и чрезвычайно трудно расстававшиеся с высшей в их глазах ценностью, каковой считался скот, и предпочитавшие захватывать желаемое силой, в целях социального общения вынуждены были делиться частью своих богатств. Грабеж легко применим в миграциях, частичное же оседание, сочетающее видимость привычного кочевого образа жизни с освоенностью небольшой страны, требовало и иных способов изъятия части земледельческого продукта и хотя бы минимального вознаграждения земледельцев.
Следующий за Батембузи короткий, но блестящий, в народной памяти, период истории Китары — легендарная династия Бачвези (Чвези, Абачвези). Традиционно Бачвези — новая волна чужеземцев-скотоводов, пришедших с севера и оттеснивших от власти Батембузи. Одновременно легенды стараются представить Бачвези законными наследниками Батембузи, устанавливая между двумя династиями родство по женской линии. Бачвези описываются высокорослыми, светлокожими людьми, чьи таланты и искусство во всем, от ремесел до управления страной, и магическая власть над самой природой оказались непревзойденными до конца истории Китары.
Настойчивость, с какой подчеркивается в легендах многих народов Межозерья светлокожесть Бачвези, обращала исследователей к поискам прародины пришельцев в Эфиопии. А. Райт, например, связывает название этой династии Bachwezi с бантуизированной формой амхарского слова «Tschewa» (Сhewa) — «воин» 247, с. 153].
Как уже говорилось, керамика культуры рулетт сходна с керамикой, распространенной у бахима и бахума, с одной стороны, и керамикой некоторых районов Эфиопии, Южного Судана и Кении — с другой [194, с. 4—5; 186, с. 87].
На Эфиопском нагорье или, возможно, более широком ареале, включающем и Южный Судан, сложилась известная в Межозерье порода скота, длиннорогого горбатого санга, хотя, разумеется, одно лишь появление санга на севере Уганды еще не означает миграции тех, кто впервые вывел эту породу.
Структурное сходство княжеств Сидамо (Юго-Западная Эфиопия) с Китарой зачастую наводило исследователей на мысль о возможной между ними генетической связи [182, с. 16; 172, с. 271 —274; 179, с. 43], а по некоторым совпадениям родство межозерной государственности гипотетически прослеживалось восходящим через Мероэ к Египту [213, с. 15; 139, с. 88—89; 217, с. 450]. Именно в Мероэ П. Шинни склонен видеть «очевидный центр предположительной диффузии египетских идей» [217, с. 439], в том числе и форм политической организации. Отсюда, из Мероэ, по предположению Шинни, в начале нашей эры началось распространение на юг и запад металлургии железа, что он оценивает как «существенный элемент в развитии государственной организации» народов Африки [217, с. 443—445]. Однако эта гипотеза, по признанию Шинни, в настоящее время из-за крайней скудости данных не может быть доказанной. Поскольку генеалогия правителей насчитывает лишь несколько столетий, древнеегипетское влияние кажется маловероятным [217, с. 450].
Еще
решительнее отрицает возможность
египетского влияния в Межозерье и в
собственно Буганде Клессен,
указывая на «крайнюю трудность
доказательств, что были какие-либо
отношения между... Бугандой, с одной
стороны, и древним Египтом, с другой»
[96, с. 77].
Поиск социально-этнических связей между кушитами, Бачвези и бахима, признаваемых одними исследователями и отрицаемых другими, представляет собой особый вопрос, требующий специального изучения. Он тем более сложен (если вообще разрешим), что его среднее звено (Бачвези) гипотетично как историческая реальность. Хотя большинство исследователей вслед за Р. Оливером и М. Познански полагает, что в легендах о Бачвези имеется достаточное документальное ядро [182, с. 42; 185, с. 124; 194, с. 6; 235, с. 14; 164, с. 236; 145, с. 120; 140, с. 4], но существует и противоположное мнение, представленное взглядами К. Ригли и Д. Хениджа. Сказания о Бачвези — лишь миф, «блестящий образец фантазии», по выражению Ригли, а сами Бачвези — духи и боги [249, с. 11 —12] или странствующие колдуны и сказителя, по другой версии, хотя и не принятой Хениджем, но, по его мнению, более вероятной [135, с. 44]. Но даже такой взгляд не отменяет той простой истины, что миф создавался людьми с вполне земным историческим опытом и этот опыт, пусть фантастически, не мог в нем не отразиться. Ведь и герои греческих мифов, к которым для придания большей убедительности своей концепции апеллирует Ригли и которых, разумеется, никто не принимает за реальных исторических личностей, во многом, очевидно, ведут себя так, как было принято в эпоху их творцов, и в этом смысле изучение греческой мифологии отнюдь не бесполезно для понимания создавшего ее общества.
Ригли безусловно прав, считая, что нельзя игнорировать специфику мифа и механически «спускать» на землю его сюжеты, отбросив лишь заведомо сказочный элемент. Но если все-таки признать за мифологией право служить историческим источником, важно понять, почему народ именно так понимает свое прошлое, зачем традиции понадобились Бачвези и чем они настолько поразили воображение, что память о них жива до сих пор и хранится как национальная святыня. Может быть, через эту призму и в сопоставлении с другими источниками нам удастся представить приблизительную картину интересующего нас периода.
Рискуя подвергнуться критике фольклористов за обедненную и искаженную трактовку жанра, попробуем все-таки выяснить, что больше всего в легендах о Бачвези волнует их рассказчиков и героев. Это главным образом богатство (скот) и власть, а точнее, проблема сохранения того и другого в процессе установления контактов скотоводов с местными земледельцами. Таким образом, наблюдается преемственность основного мотива сказаний о Батембузи — скотоводах, расселяющихся в стране земледельцев. Традиция устанавливает связь между двумя потоками, как будто бы вполне логичную и правдоподобную. Причем в этой связи есть и осмысление поступательного хода развития, идея прогресса. Ведь проблема Бачвези, пусть на мифологическом уровне, это не просто циклическое повторение той же, по сути, проблемы Батембузи. Достигается — и это всячески подчеркивается традицией — новый, более высокий социально-культурный уровень. И не только потому, что породнившиеся с Батембузи чужестранцы отличаются якобы заведомым, врожденным превосходством (это демонстративно и неустанно подчеркивается традицией). Дело еще и в том, что их правление накладывается на уровень общественного развития, достигнутый при Батембузи.
Традиция, правда, не осознает заслуг Батембузи (и если бы ее имело смысл обвинять в необъективности, мы упрекнули бы ее в недооценке социально-культурной роли предшественников Бачвези). Но из самого повествования, склонного к панегирическому тону только в отношении Бачвези, тем не менее достаточно видно, что Бачвези фактически не приносят и не создают, а только «очищают» и совершенствуют заведенные до них общественные порядки.
Лейтмотив легенд о Бачвези — панегирический гимн скотоводам, носителям сакральной силы, организующим общество и обладающим его основным богатством — скотом. Традиция как бы не замечает, что эта сакральная сила скотоводов проявляется только во взаимодействии с внешне пассивными, но исподволь преобразующими и направляющими ее земледельцами. И до поры до времени традиционное сознание твердит об исконных доблестях скотоводов, не желая видеть, что они уже не вполне актуальны, поскольку симбиоз с земледельцами перестраивает общество. И только когда накапливается достаточный опыт такого симбиоза, традиция отчасти перестает цепляться за ценности былых кочевых вольниц и начинает приписывать Бачвези не менее престижную, но совершенно новую роль культуртрегеров.
Показательно, что Батембузи — тоже скотоводы — в этой последней роли выступают очень бледно и смутно. Они в лучшем случае слабые предтечи тех, кем гордились и гордятся в своей истории баньоро. В глазах баньоро настоящими устроителями общества были Бачвези. Кульминация славы Китары — дело их рук. В общем Бачвези — это вершина, пик традиционной истории, и просто отмахнуться от них, назвав «мифическими», по-видимому, нельзя. Наконец, если не Бачвези, то кто-то ведь возводил сооружения Биго и подобные ему, обнаруженные археологами, укрепленные столицы-краали, построенные с комфортом и размахом, заведомо превышающими нужды простой кочевой общины.
Допустимо
предположить, что в этот период по
стечению каких-то благоприятных
обстоятельств, оставшихся нам
неизвестными, процессы социально-политического
развития происходили достаточно
интенсивно. В самом деле, весь
период Бачвези, по устной традиции,
подтвержденной археологией,
занимает промежуток всего в 150—200
лет: радиокарбонные датировки Биго,
предположительной столицы
Бачвези на р. Катонга в Западной
Уганде, определяют 1350—1500 гг. Этого
времени Бачвези хватило, если
верить традиции баньоро, чтобы
объединить под своим владычеством
большую часть современной Уганды.
Исследователи ограничивают пределы
влияния этого образования
западными и северозападными
районами Межозерья. По всему поясу
короткотравных саванн Северной и
Западной Уганды археологи
обнаружили остатки поселений,
окруженных земляными валами
эллиптической формы. Внутри поселений
сохранились следы траншей и
насыпей с проходами к центру —
искусственному возвышению, откуда
открывался широкий обзор
местности. Судя по характеру и
планировке поселений,
многочисленным находкам костей
скота, железа и керамики типа
рулетт, Биго, Нтуси и ряд подобных
городищ более всего походили на укрепленные
краали скотоводов, хотя в Нтуси (
Устная история отводит Биго роль политического центра, откуда правитель — мукама, верховный владыка всех богатств Китары, и прежде всего скота, вместе с советом объединенных побратимством наместников провинций (саза) управлял страной. Обязанности верхушки общества, состоявшей исключительно из скотоводов, включались в распределении пастбищ, учете скота и взимании дани с земледельческого населения (зерном, пивом, солью, изделиями ремесла). В качестве вознаграждения скотоводческая знать получала от мукамы скот, в свою очередь время от времени посылая небольшое количество голов скота в дар земледельцам [204, с.51—52, 59—60].
По сведениям, приведенным Дж. Роско, контакты между скотоводами и земледельцами напоминали скорее периодическое взимание дани и отношения обмена, нежели регулярное налогообложение. Вероятно, между грабительскими набегами кочевников и жестко репрессивной политикой зрелых государств по необходимости назывался период, когда несовершенные, перестраивающиеся формы управления способны были удерживать постоянный контроль лишь при условии значительной эли добровольности и заинтересованности со стороны подданных. Земледельцы охотно включались в отношения обмена, стремясь во что бы то ни стало приобрести единственно ценное в Китаре богатство — скот. «Чистое» же насилие выносилось на окраины складывающееся государства — для захвата новых пастбищ и замирения недавно подчиненных племен.
Таким
образом, отношения эксплуатации,
какими они складывались в Китаре,
отличались следующими
характерными чертами: 1) они
возникали на основе данничества и
неэквивалентного обмена; 2) соподчинение
«верхов» и «низов» общества
наметилось по линии скотоводы—земледельцы,
т.е. рубежи общественного
разделения труда между
производством и управлением
отчасти совпали с основным
разделением труда в сфере
производства. При этом
организаторские полномочия
оказались присвоенными
скотоводами, свободными от
трудоемких затрат
земледельческого труда и в силу
мобильного и полного опасностей
образа жизни располагавшими лучшей
военной организацией,
адаптированной к нуждам управления
оседлым обществом.
В какой степени периферия Китары, впервые при Бачвези названная Бугандой, была втянута в систему ее общественных отношений?
Ответить на этот вопрос вполне однозначно вряд ли возможно. Традиции баньоро и баганда противоречивы, что вполне естественно, так как историческое развитие Китары-Буньоро и Буганды неизбежно вело их к соперничеству. Само становление Буганды могло произойти только в процессе захвата соседних земель, входивших в сферу влияния Китары-Буньоро или даже непосредственно включенных в ее состав.
Понятно, что на таком историческом фоне неизбежны и определенные искажения в устной истории обоих народов. Отсюда — во многом и расхождения в трактовках, вплоть до диаметрально противоположных версий. Так, традиции баньоро свойственно видеть в Буганде дальнее дочернее образование Китары, поначалу во всех отношениях незначительное, но затем окрепшее и с согласия или без согласия правителей Китары утвердившее свою самостоятельность. Дальнейшая история Буганды воспринимается как отторжение законных владений Китары, границы которой зачастую представляются заведомо преувеличенными, выходящими даже за пределы современной Уганды. Например, Дж. Ньякатура сообщает, что, по представлениям баньоро, «Китара... простиралась до Мади и Букиди на севере, Кавирондо на востоке, Кизибы, Карагве, Руанды и Кигези на юге; на западе она включала лес Итури и земли Булога, которые сейчас принадлежат Конго. Исинго (Ссинго) и Бвера (Будду) также составляли часть королевства» [177, с. 1]. По тому же источнику, еще Исаза, последний из Батембузи, впервые разделивший Китару на провинции-саза, отдал одну из них, Буганду, тогда называвшуюся Мухвахва, в управление «старому человеку по имени Койя, но так как тот был очень стар, он передал свои полномочия сыну Нтеге» [177, с. 9].
Баганда же связывают начало своей истории не столько с Китарой, сколько с появлением в стране ее первого легендарного правителя и культурного героя, Кинту, не менее Бачвези наделенного сверхъестественными способностями, но пришедшего не с запада, из Китары, а с востока и не признающего, вернее, даже не подозревающего о гегемонии Бачвези в Буганде.
Разумеется, в столь кратком изложении и взятое в предельном выражении противоречие между двумя традициями предстает упрощенным. На самом деле есть множество моментов, которые позволяют считать, что легенды баганда и баньоро далеко не во всех отношениях взаимоисключающи.
На этом стоит остановиться подробнее. По традиции Баньоро в изложении Дж. Ньякатуры, Буганда при Бачвези была одной из отдаленных провинции-саза Китары [177, с. 26]. Известны имена ее двух наместников — Кйомйя и Каганда Руссири, — последовательно сменивших друг друга и время от времени, по требованию мукамы, взимавших дань (кофе, мбугу) с местного населения [177, с. 27; 225, с. 251; 142, т. II, с. 678]. Более того, само введение культуры кофе в Буганде, по мнению Ньякатуры, произошло при Кйомйе по приказу мукамы Ндахуры [177, с. 27]. По этой же версии, первая военная экспедиция Ндахуры была направлена именно против Буганды, тогдашний наместник которой показался Ндахуре слишком укрепившимся в своей власти, и мукама предпочел заменить его другим ставленником [177, с. 25]. Сохранилось предание, что Ндахура проплыл вдоль берегов оз. Виктория, утверждая свою власть на южных границах [179, с. 177].
В правление Вамары, преемника Ндахуры, центростремительные тенденции в Китаре сменяются центробежными. «Вамара,— сообщает Ньякатура,— разделил свою империю между братьями и родственниками. Буганда была отдана Каганде Руосири, отцу Ссебваны» [177, с. 31]. Каганда Руссири, по имени которого якобы и стала называться Бугандой эта страна, по той же версии, был сыном Нтеге, упомянутого наместника Буганды при Исазе. И Ссебвана, сын Каганды, тоже наследовал отцу и «вел себя как вождь саза Буганды» [177, с. 65]. Таким образом, если верить традиции баньоро, Буганда издревле и преемственно управлялась из Китары наместниками представителей обеих легендарных династий, Батембузи и Бачвези. Сместил Ссебвану тоже пришедший из Китары-Буньоро Като Кимера, которого баганда также помнят, но не как узурпатора власти Ссебваны, а как законного преемника двух предшествующих и вполне самостоятельных правителей Буганды — легендарных «королей» Кинту и Чва. Только при Кимере, как сообщает Ньякатура, Буганда начала независимое от Китары существование, и то потому, что Рукиди — брат-близнец Като Кимеры «не захотел препятствовать Кимере и оставил его в покое» [177, с. 65]. Его второе имя, Кимера (от глагола «окитега» — «укореняться», «идти в рост»), символизирует ветвь, которая, отделившись от родительского ствола, становится самостоятельным растением [177, с. 65].
Несмотря на столь стройную, казалось бы, гипотезу «отпочкования» Буганды от Китары, традиция баньоро в то же время окрашена заметным оттенком безразличия по отношению к дальней провинции. В самом деле, почему так легко допустил Рукиди сепаратистские действия своего брата? Традиция баньоро говорит об этом скупо и незаинтересованно: кому нужна узкая полоска земли, далекая и непригодная для пастбищ? Упоминания о Буганде выдержаны в презрительно-сострадательном тоне: «Бакитара презирали народ Мухвахвы и называли их „маленькие люди Каганды, обуганда"» [177, с. 65].
По одной из версий традиции, изложенной Г. Джон-стоном, Кимера появляется в Буганде всего лишь бедным, но удачливым охотником по имени Муганда («Брат»), которого местные жители, земледельцы-баиру, благодарные Муганде за щедрую раздачу охотничьей добычи, приглашают стать вождем, так как их властелин в Буньоро «слишком далек, чтобы быть полезным» [142, т. II, с. 678—679].
Судя по тому, что баганда в данном случае именуются баиру, как они сами себя никогда не называли, но как определяли с уничижительным оттенком (bairu — зависимые люди», «рабы») земледельцев скотоводы Китары-Буньоро, версия эта принадлежит последним. Далее, продолжает Г. Джонстон, Муганда поначалу колебался, боясь столкновения с «аристократией бахима», которая считала эти земли «полем охоты за рабами», но затем он согласился, стал правителем страны от Нила до Катонги, дал свое имя стране, а сам взял новое — Кимера [142, т. И, с. 679].
Фразеология Джонстона явно свидетельствует о вольном пересказе, а не о точной передаче традиции. К тому же мы больше нигде не находили сообщений об «охоте за рабами» в исконных землях Буганды. Трудно вообразить, что сколько-нибудь значительный, регулярный и насильственный отток населения из страны не оставил бы по себе памяти в устной истории обоих народов. Более того, у нас нет никаких оснований считать, что в самой Китаре, несмотря на чрезвычайную легкость, с которой скотоводы наделяли эпитетом «раб» всякого, кто занимался земледелием, существовала социальная категория людей, чье положение было бы сопоставимо с рабским. Скотоводу любой земледелец казался «рабом», задавленным прежде всего собственным тяжелым трудом и не способным поэтому оказать сопротивление вооруженному давлению союза полукочевых общин. По существу, общины земледельцев Китары, трудом и данью платившие за подданство государству, остались нетронутыми. Соответственно «баиру» следует переводить как «зависимые люди», «данники», не «рабы».
Что же касается Буганды XIV—XV вв., то, по-видимому, не приходится говорить не только о «рабстве», но проблематичным остается и вопрос о простом данничестве. По мнению Коттака, эффективный контроль над «влажной зоной был ненужен и недоступен правителям Китары; Буганда не обладала ресурсами, которые могли бы побудить скотоводческую аристократию начать прочное освоение экологически чуждого ей пояса [1151, с. 369— 370]. Поэтому Коттак сомневается в правдоподобности реконструкции Джонстоном отношений между Бугандой и Китарой даже в том, что касается данничества. При нынешнем состоянии источников этот спор решить практически невозможно. Но и несомненные свидетельства данничества не смогли бы перевесить того очевидного факта, что сохранение в Китаре ориентации на скотоводческое хозяйство и установление отношений симбиоза с земледельцами препятствовали непосредственным контактам с приозерной областью. Границы Буганды надежно охранял ее климат. К тому же возможности экспансии в обход Буганды, в юго-западном направлении, еще не были исчерпаны.
Согласно традиции баганда, начало их истории не связано с западными соседями. Цикл легенд о Бачвези, столь широко распространенный на западе и северо-западе Межозерья, почти не известен баганда, как, впрочем, и предания о Батембузи [194, с. 4]. Киванука настаивает на том, что отсутствие или лишь слабые следы этой традиции к востоку от р. Катонга — следствие слабого влияния здесь и самой Китары времен Бачвези. Как и Коттак, он объясняет это эколого-экономическими факторами, ставившими преграду распространению скотоводства на влажные земли Буганды [148, с. 46].
Все внимание традиции, рассказывающей о зарождении самостоятельного государства в Буганде, обращено не на запад, к Китаре, а на восток или на северо-восток, откуда якобы пришел легендарный предок баганда и основатель Буганды Кинту.
Оговоримся сразу, что исторические предания народов Межозерья в целом отнюдь не дают уверенности для локализации «прародины Кинту» к востоку от Уганды. Помимо присущей легендарной традиции мифологичности, с одинаковой легкостью допускающей и «падение Кинту с неба» и приход из чужой страны, географическая неопределенность того «извне», откуда пришел Кинту, порождена, вероятно, еще и сложностью пересечения этнических и социальных судеб народов Межозерья. Представление об «адамической», по выражению Д. Коэна [102, с. VII], фигуре Кинту чрезвычайно содержательно: он прародитель, культурный герой и основатель династий у многих народов Межозерья, олицетворенная конденсация исторического опыта народов, заселявших и осваивавших земли Межозерья. По мнению Е. С. Котляр, в мифологии народов Межозерья ясно прослеживается «тенденция осмысления и связи мифов о божествах и культурных героях с преданиями о вождях и царях», а персонаж Кинту представляет собой «один из наиболее развитых типов культурного героя» [31, с. 20].
Но именно потому, что за пять-семь веков цикл легенд о Кинту впитал и переплавил множество разнородных влияний, его содержательность остается трудно поддающейся расшифровке. В самом деле, Кинту севера Межозерья — это совсем не то, что Кинту юга или востока. Обобщенный образ «сына неба», первопредка и демиурга в соответствии с этническими и социально-культурными особенностями развития различных групп дополнялся теми чертами, которые его создатели считали необходимыми для устроителя земной жизни. Поэтому в одних вариантах Кинту — скотовод, с трудом привыкающий к оседлой жизни и растительной пище, в других он появляется с ростком банана в руке или «случайно вылавливает» его из озера [203, с. 141]. Подобным же образом Кинту приписывается кроме общего, «небесного» различное земное происхождение — восточное, западное, северное, впрочем, всегда неопределенное и с заметным, как кажется, перевесом в пользу восточных версий. Нет и единой хронологии, хотя Кинту и стоит у начала народной истории, но само это начало разновременно: есть Кинту, основавший династию Батембузи в Ситаре [235, с. 18], и есть Кинту легенд баганда, лишь на два правления опередивший Кимеру, основателя третьей династии Китары — династии Бито [203, с. 214]. Таким образом, разные конкретные характеристики единого культурного героя свидетельствуют о различиях экономической и этнической истории банту Межозерья.
Традиция баганда отличается явным преобладанием «восточной темы» Кинту. В память о прародине бугандские правители строили свои резиденции фасадом на восток [144, с. 74]. В преданиях баганда повелитель неба Ггулу отдает в жены Кинту свою дочь Намби [203, с. 460—461]. По мнению Д. Коэна, посвятившего этногоническим легендам басога, восточных соседей баганда, большое специальное исследование, Ггулу и Бугулу (область в южной Бусоге) «может быть одно и то же», так как устная традиция прослеживает колонизацию южной Бусоги группами, связанными с Кинту, и их недолгую остановку в Бугулу [102, с. 117].
Исходный пункт миграций родов, считающих своим предком Кинту, Коэн определяет в районе горы Элгон на современной границе Уганды и Кении. Основание для такого вывода Коэн видит в том, что упоминание о горе Элгон как о легендарной прародине чаще всего встречается в преданиях родов и линиджей Буганды и Бусоги, имеющих тотем льва или леопарда и состоящих, по общему признанию, в наиболее близком родстве с Кинту [102, с. 89, 92, 94]. Зафиксированные традицией временные резиденции Кинту на всем пути его следования с востока на запад совпадают с размещением родовых земель групп льва — леопарда [102, с. 87]. В Буганде члены родов льва и леопарда считались «благородными» благодаря родству с Кинту и пользовались рядом привилегий [203, с. 141—142]. Косвенным доказательством правильности установления прародины мигрантов Коэн считает наличие некоторых черт сходства в культуре банту Восточного Межозерья и контактных с ними групп кушитов: «Не доказана, однако кажется возможной гипотеза, что Кинту образует связь между миром банту, распространявшимся на север и восток в районе горы Элгон, и культурами, связанными с кушитским субстратом, перекрывающим границы горы Элгон и оз. Виктория» [102, с. 103]. При всей гипотетичности описанная Коэном картина миграций банту приозерья полнее всего согласуется с источниками и содержит лучшее из имеющихся объяснение сходства культур Восточного Межозерья — через кушитский субстрат контактной зоны горы Элгон — с культурами Юго-Западной Эфиопии. Вероятно, последствиями тех же контактов можно считать признаки эфиопидного антропологического типа, не частые, но заметные на фоне общей негроидности населения Межозерья.
Хотя датирование эпохи Кинту из-за скудости и ненадежности данных — вопрос до сих пор не решенный, разброс предлагаемых хронологических определений не столь уж велик, если учесть, что все специалисты признают достаточную длительность этого периода, по крайней мере несколько поколений. По мнению Кивануки, период Кинту в Буганде и период Бачвези — в Китаре более или менее одновременны, если исходить из генеалогии родов и кабак Буганды, с одной стороны, и известного радиокарбонного определения Биго (1350— 1500) —предположительной столицы Бачвези — с другой [148, с. 35; 143, с. ХLVII]. Д. Коэн относит эпоху Кинту к несколько более раннему времени, полагая, что «влияние Кинту на южную Бусогу и Буганду, очевидно, предшествовало возникновению власти Чвези в саваннах Западной Уганды» [102, с. 103—105]. Оба эти специалиста, как и многие другие, из-за недостатка сведений не видят возможности сделать более определенные выводы.
Опираясь на традицию баганда, М. Киванука находит возможным выделить пять групп родов, в ходе миграций и завоеваний постепенно включенных в состав Буганды. Первая, самая древняя группа родов, называющих себя banansangwa — «встреченные (обнаруженные) на месте», т. е. автохтонные, включает шесть родов, тогда как спутниками Кинту считают себя 13 родов (по Сивануке) и пять, согласно подсчетам Коэна, ссылающегося на материалы А. Кагвы и М. Ноимби [148, с. 32; 102, с. 85—86]. В отличие от М. Кивануки Д. Коэн склонен доверять традициям далеко не всех родов, претендующих из причастность к миграциям Кинту, и он по-своему прав, учитывая престижность этой причастности в Буганде и возможные в связи с этим искажения традиции. Однако нам кажется, что не стоит представлять эпоху Кинту как миграцию всего лишь нескольких, четырех-пяти родов, не дающую «эффекта национального масштаба», как выражается Коэн [102, с. 85—86]. Слишком большой след оставила эта эпоха, чтобы сводить дело к миграции нескольких кровнородственных групп.
Социально-экономические характеристики, присущие обществу мигрантов, поддаются на основании традиции лишь самому общему определению. Земледелие, скотоводство, возможно, несколько более совершенные, чем у автохтонного населения, навыки обработки железа [102, с. 106]. Поскольку пришельцев не отпугнула влажная банановая зона, можно предположить, что они либо были знакомы с культурой банана еще до начала миграций, либо научились выращивать ее на новой родине. Но при любом варианте и вопреки уверениям жрецов из рода леопарда, охраняющих священный банан у храма на холме Магонга, якобы впервые посаженный в стране самим Кинту [203, с. 141], последний никак не мог познакомить местные роды с культурой банана по той простой причине, что она была известна задолго до его прихода.
Несмотря на элементы модернизации истории в традиции баганда, природа социальных связей в эпоху Кинту описывается в корне отличной от их характера два-три века спустя.
Трудно
сказать, что принесло победу
мигрантам: организованность и
боеспособность, присущая переселенцам,
численный перевес (по мнению
Кивануки; именно «группы Кинту»
представляли собой самый мощный в
истории Буганды миграционный поток
[148, с. 32]) или какие-то другие,
неизвестные нам обстоятельства.
Во всяком случае, у нас нет никаких оснований считать культуру «групп Кинту» существенно более высокой (или низкой) по сравнению с культурой местных банту. Момент узурпации — насильственное смещение местного представителя верховной власти могущественным чужеземцем — ярко запечатлелся в легендах о поверженном змее-вожде Бемба, уступившем свою власть Кинту. Имитация этого момента стала необходимой частью ритуала коронации: по этому случаю отлавливался большой питон, которого кабака должен был слегка задеть ритуалшым медным копьем, после чего змею отпускали на волю [85, с. 111—112]. При этом специальный служитель — хранитель священных реликвий на холме Будо, где происходил кульминационный момент церемоний, напоминал кабаке историю его предка Кинту. Именно здесь, на холме Будо, согласно легенде, Кинту нанес решительное поражение последнему и самому упорному своему противнику: то ли змею, то ли человеку Бемба [141, с. 18—19]. С тех пор восхождение на холм Будо символизирует власть над всей страной. Можно даже проследить постепенные напластования в ритуале Будо — от первоначального победного пира до сложнейших, педантично разработанных церемоний. Но смысл этого ритуала, по-видимому, остался исконным: он заключался в имитации легендарной победы, дабы придать новому кабаке «силу Будо», силу победителя и владыки страны. Показательно в этом отношении, что первый храм, который должен был посетить кабака, был посвящен Кибуке — богу войны. И прежде чем в него войти, свита кабаки «одерживала победу» над служителями храма, «вооруженными» тростниковыми копьями и щитами из банановых листьев [203, с. 192—193].
Прослеживая нормы наследования престола в Буганде, М. Саутуолд обратил внимание на то, что лишь один из ее кабак — Ссекаманья, двенадцатый в династии, происходил из рода Виверры [223, с. 142—143]. А между тем это один из самых древних и знатных родов Буганды. Его старейшина, упомянутый уже нами Валусимби, ко времени прихода Кинту был, согласно традиции, сабатака, т. е. «старейшина старейшин» Буганды. В этом же статусе он появился после исчезновения Чва, преемника Кинту, чудесным образом пережив обоих своих предшественников. Наконец, дочь его, Накку, жена, а затем вдова Чва, встретила в Буганде Кимеру и «признала» в нем внука [223, с. 143].
Оценивая приведенные данные традиции как свидетельство былого могущества рода Виверры, возглавлявшего ко времени появления Кинту союз автохтонных родов, Саутуолд склонен думать, что не случайно этому роду лишь единожды удалось увидеть на троне Буганды своего представителя [223, с. 143]. Определенно аргументировать это предположение трудно, но оно выглядит правдоподобным на фоне мотива насильственного утверждения власти легендарным предводителем пришлых групп и логичных в таком случае мер, закрывающих доступ к верховной власти для самого сильного из местных родов.
Однако захват власти легендарным вождем мигрантов не сопровождался переходом на положение высшей страты его сородичей, и это обстоятельство сыграло важнейшую роль в выборе путей и форм развития социальной стратификации. Именно здесь, у самых истоков государственности, между Бугандой и остальными государствами Межозерья наметилось различие в способах рекрутирования господствующего слоя. Буганда единственная в Межозерье полностью избежала этнокастового противопоставления завоевателей завоеванным, поставив большинство родов в относительно равное положение по отношению к управленческой родо-племенной верхушке. По крайней мере три из шести автохтонных родов остались в числе самых влиятельных в Буганде [148, с. 32]. Отсутствие устойчивой дискриминации какой-либо из родовых групп объясняется, по-видимому, примерно равным балансом сил, сходством уровней экономического и социального развития: обе группы, автохтонная и пришлая, сочетали в хозяйстве резко преобладающее земледелие со скотоводством, рыболовством и охотой, в обеих наметились процессы политической консолидации.
Как
рассказывают легенды, Кинту,
возглавивший союз около 20 родов,
всем старейшинам предоставляет
должности-привилегии: один род
отвечает за выпас его стад, другой
— за доставку питьевой воды в
резиденцию, третий — за хранение
фетишей и т.д. [203, с. 141—142]. Взаимные
дары, угощения, заключение брачных
союзов (жена Кинту, Намби, будучи,
как уже упоминалось, «дочерью неба»,
одновременно и дочь старейшины
одного из местных родов [203, с. 142]),
символическая раздача земель
старым родам, и без того ее имеющим,
и реальная — новопоселенцам;
используется все для скрепления
новых уз надродового уровня,
связывающих роды в единый союз.
В нарождающемся единовластии Кинту еще совсем не просматривается деспотизм Суны или Мутесы — правителей XIX в. Это видно хотя бы из запоздалой обиды старейшин родов на самоуправство кабак в поздней Буганде. «Мы не пойдем больше к этому наглецу,— объясняют они обычай избегания,— раньше мы были важными людьми, ровней ему, и вот теперь он делает нас простыми общинниками» [221, с. 10]. Кинту предстает как «первый среди равных», арбитр в спорах между главами родов, предпочитающий не вмешиваться во внутриродовые дела, военачальник и верховный распорядитель земельных фондов подвластных территорий.
Подобный характер и эволюция верховной политической власти — явление известное и широко распространенное. Оно прослеживается, например, на материале древнего Востока: в конце IV тысячелетия до н.э. «Урук... переживал стадию разложения родового строя, когда государственная власть находилась еще в периоде становления, о чем свидетельствует и древнешумерская поэма о Гильгамеше, герой которой принадлежал к числу правителей первой династии Урука. Гильгамеш в поэме выступает не в качестве носителя деспотической власти, характерной для последующего времени, но с чертами главы родо-племенной общины, вынужденного считаться с волей совета старейшин и «„собрания мужей"» [76, с. 115—116].
Прочность положения сабатака — «старейшины старейшин» считалась зависящей от «muwombeefu», что переводится приблизительно как «выдержка», «хладнокровие» [224, с. 64], но, вероятно, шире этих понятий и включает помимо личной характеристики представление об особой силе, «субстанции власти», по выражению Ж. Баландье [88, с. 120], обладание которой дает способность и право воздействия на людей и природу. Истоки веры в сакральный характер власти правителей восходят к культу предков и родовых богов, ритуальная сторона которого издревле вверялась старейшинам рода. Вождь рода, хранитель его исторического опыта, мудрости, завещанной предками, становился как бы естественным связующим звеном с высшими потусторонними силами, управляющими миром. Успех его руководства и благополучие сородичей обусловливались способностью и умением вождя стать благотворным орудием этих сил, дать простор их проявлению и не спровоцировать неправильными действиями проявлений их разрушительных потенций.
В этом представлении, преемственно перенесенном в развитии сначала на главу племени, а затем и нарождающегося государства, отразилась реакция общественного сознания, показывающая многозначное его отношение к принимающему все большие масштабы делу руководства людьми. Здесь и страх подданных, уже достаточно далеких от правителя, чтобы питать к нему благоговейный пиетет, и неуверенность правителя, еще не вполне освоившегося с высотой своего положения (чего стоит, например, Кинту, сбежавший «от позора» после совершения нечаянного убийства); и настойчивое подчеркивание чувства ответственности избранника, обязанного чутко прислушиваться к велениям могущественной силы и употреблять ее во благо своего народа; проблема выбора — тот ли «истинный» угадан, кто наиболее способен поддержать порядок в природе и обществе, и, вместе с тем успокаивающая, освобождающая вера в предопределенное регулирование «свыше», отбирающее для управления земными делами, как правило, «законных» посредников.
В целом же это явление можно понять как защитный идеологический рефлекс общественного сознания, магической «жизненной силой» объясняющего растущее единовластие правителя над все большим числом подданных, иначе — без сверхъестественной способности — непосильное для одного человека и чреватое опасностями для общества. Чтобы казаться сильной, власть правителя должна быть сакральной. Поэтому и вся жизнь кабаки — непрекращающийся экзамен на искусство манипулирования этой силой. Уже само его воцарение — доказательство, что он обладает muwombeefu в большей мере, чем его соперники, коль скоро он победил их в поединке или расположил в свою пользу большинство влиятельных людей. Хорошие урожаи и приплод в стадах — тоже явный знак распространяемой персоной кабаки благодати. По той же логике распри старейшин, эпидемии, военные неудачи, наконец, личное нездоровье кабаки могли свидетельствовать, что этот особый дар покинул его[3]. В хрониках правление ранних кабак кончается их таинственным «исчезновением» [203, с. 214], а Роско в одном месте прямо сообщает, что в древности больной или дряхлый правитель обязан был кончить жизнь самоубийством или его умерщвлял кто-либо из братьев или жен [207, с. 87]. Одновременное же сообщение традиции о благополучном правлении ранних династов Буганды до глубокой старости никоим образом не опровергает возможности существования упомянутого обычая, так как не старость сама по себе, а предполагаемая утеря священного дара была основанием для его применения.
О «зинджах», негроидных жителях Восточной Африки, имевших обыкновение лишать жизни своих «царей», писал еще в первой половине X в. ал-Масуди [73, с. 59— 61]. Косвенным подтверждением вероятности существования подобного обычая в ранней Буганде можно считать его широкое распространение у африканских народов. И не только африканских. По-видимому, сходные мотивы руководили, например, свеями, когда они пришли убивать конунга Олафа Лесоруба, который «мало занимался жертвоприношениями, и это не нравилось свеям, привыкшим приписывать своему конунгу как урожаи, так и недороды. Они считали, что виновником голода является конунг Олаф, и умертвили его в собственном доме, принеся его в жертву Одину „ради урожая"» [19, с. 30].
До самого конца династической истории Буганды кабака оставался в глазах своих подданных олицетворением силы и жизнеспособности своего народа. Но если поначалу забота о сохранности важнейшей функции кабаки ложилась прежде всего на него самого, была его делом, интересом и риском, то впоследствии он ограждается множеством охранительных дублирующих мер, предупреждающих ослабление его жизненной силы.
Один из вариантов мифа об исчезновении Кинту лучше чем что-либо иное характеризует ту пропасть, которая отделяла характер власти ранних правителей от ее поздних форм. Кинту, в припадке гнева убив слишком досаждавшего ему человека и затем устыдившись своего злодеяния, предпочитает навеки скрыться от людских взоров [226, с. 216]. Правителям XVIII—XIX вв., отправлявшим на жертвенники сотни людей, так же как и их подданным, сюжет этого мифа должен был бы показаться фантастически нелепым. Таким образом, в характере власти кабаки оказался «секрет перевертыша»: поначалу, едва превышая полномочия племенного вождя, она вынуждала его расплачиваться жизнью за потерю реальной или мнимой способности управлять природой и людьми, позднее все виды невезения стали искупать, принося в жертву подданных.
Сразу же оговоримся, что привнесение сакрального в понимание обществом нарождающейся верховной государственной власти не следует идентифицировать с развитием теократии. Напротив, большинство специалистов подчеркивают превалирование светского начала в характере власти кабаки (см., например, [151, с. 373; 90, с. 263; 143, с. 59]). Когда Т. Ирстэм называет кабаку верховным жрецом [141, с. 30], он прав только в том смысле, что в конечном итоге кабака, разумеется, был «верховен» во всем. Но как раз менее всего правители Буганды являлись специалистами-жрецами. В их универсализме — сосредоточении высших военных, административных, судебных, фискальных и других полномочий — жреческий элемент явно находился не на первом плане, хотя более точно определить его место и вес среди прочих функций кабаки затруднительно, так как сакральное и светское часто представало в едином, нерасчлененном виде. Во всяком случае, забегая вперед, можно сказать, что, не «специализируясь» на собственно жреческих функциях, правители Буганды в то же время постепенно самоутверждались в роли властителей «выше жрецов» и «равных богам», т. е. демонстрировали очевидные признаки преобладания «светско-обожествленной» формы политического правления.
Но вернемся к временам Кинту. Роль посредников, стоящих между верховным вождем и его подданными, взяли на себя представители социальной категории, унаследованной от родового общества и формирующейся по его законам: должность старейшины наследовалась в роде, а его избрание было внутренним делом рода. Оно происходило в лукико (lukiiko) —совете глав основных подразделений рода, а эти главы, в свою очередь, избирались таким же советом на уровне старейшин более мелких единиц рода, и так до его низших подразделений, в которых старейшину избирали входившие в них сородичи.
Однако при видимом сохранении автономии рода уже был сделан первый шаг к ее утере. Для триады традиционных обязанностей сородичей-общинников[4] — обычая подношений-даров вождям, участия в коллективных работах (строительство жилых помещений для вождя, расчистка дорог) и вооруженной защиты рода — резиденция вождя перестала быть средоточием и конечным пунктом приложения сил. Поскольку расстояние между управляющими и управляемыми увеличилось на отрезок старейшина — верховный вождь, постольку дом старейшины рода становился промежуточным, подчиненным звеном по отношению к резиденции кабаки — новому центру административной власти, куда стекалась дань, где организовывались военные походы и формировались единые нормы идеологии и культа.
Как уже упоминалось, каждому роду предоставлялась возможность установления непосредственных связей с верховной властью. Это не означает, что существовала идея полного равенства родов перед лицом суверена, напротив, объединение строилось по принципу соподчиненности, иерархии родов, но иерархичность эта носила зыбкий, нестабильный характер, и номинальное положение рода далеко не всегда соответствовало фактическому. В зависимости от обстоятельств и личных качеств главы рода или его представителя при дворе кабаки «благородный» род мог захиреть или «низкий» возвыситься. Существовало множество лазеек (почетное побратимство с членом «высшего» рода, некое подобие частичной инкорпорации в род, брачные союзы и т.д.), благодаря которым можно было «облагородиться», если это оказывалось необходимым для «придворной» карьеры.
Так или иначе, любой род имел при первых кабаках определенные обязанности и должен был данью или трудом сородичей обеспечить их выполнение. Тем самым на рядовое население возлагались дополнительные поборы и отработочные повинности, возможно уже нарушавшие адекватность в обмене услугами между управляющей частью общества и занятыми в производственной деятельности, хотя относительно начального, легендарного периода становления государства в Буганде строить какие-то предположения о степени эксплуатации довольно трудно.
Что побуждало батака, рискуя потерей независимости, искать союза с верховным вождем?
Эпоха Кинту — время интенсивной внутренней колонизации Северного Межозерья. Мигранты, связывающие себя с Кинту, расселялись по соседству с автохтонными родами, но уже для этого периода М. Киванука прослеживает постепенное продвижение к северу и западу — в области Булемези и Бусуджу [148, с. 41].
Большинство родов относят свое появление на берегах оз. Виктория к правлению ранних кабак [203, с. 141—172]. По данным Кивануки, уже к концу XV в. Буганду населяли 35 родов [148, с. 41]. Если в этом сообщении и есть доля преувеличения, все-таки достаточно уверенно можно сказать, что накануне и в процессе создания государства численность и плотность населения в Буганде значительно возрастали. Отсутствие засух и преобладание в хозяйстве многолетней культуры банана позволяло получать — по сравнению с зерновыми районами запада Межозерья — большие урожаи с меньших площадей. Таким образом, размер обработанного участка и запас земли под перелог, необходимые для хозяйства производственной единицы, получались, опять-таки в сравнении с западными соседями, меньшими. Поэтому при всем обилии земли, обеспечивающим свободу расселения, Бугавда заселялась компактно и оказалась способной выдержать довольно высокую плотность населения[5] без малейших признаков земельного голода, но с явными признаками острого дефицита железа, соли и пастбищ. По мнению М. Кивануки, нехватка железа была восполнена только к концу XVIII в., с присоединением к Буганде областей Будду и Къягве [148, с. 144]. При этом нужно учесть, что мигранты, связывающие себя с Кинту, наряду с земледельческой традицией, вероятно, должны были вынести из Западной Кении прочные навыки скотоводства. Скот в Буганде, как и во многих обществах сходной стадии развития, становился формой накопления богатства и показателем престижа его владельца. Прекрасные пастбища, с северо-запада опоясывающие Буганду, не могли не привлечь внимания бугандской знати. Обострение нужды в недостающих ресурсах параллельно с ростом уверенности в собственных силах (хотя бы потому, что резко возросла численность и плотность населения) в конце концов могли оказаться сильнее межродовых раздоров и привести батака «под знамена» Кинту. Естественно предположить, что союз бугандских родов складывался как объединение, нацеленное на экспансию.
Это предположение может быть аргументировано лишь косвенными свидетельствами и логически допустимой, на наш взгляд, экстраполяцией. Прямых и хорошо датируемых ссылок на источники в данном случае привести невозможно. Более того, имеются сведения, казалось бы опровергающие выдвинутое предположение. Кагва сообщает: «Пришли люди и сказали, что... в Будду живет очень богатый человек Бвакамба... Кайма (седьмой по генеалогии Кагвы кабака Буганды.— Э. Г.) собрал вождей и, посоветовавшись с ними, решил идти войной на Бвакамба» [143, с. 24]. Далее следует комментарий Кивануки: «Здесь впервые король-муганда идет войной на Буньоро» [143, с. 24].
Ньякатура приводит сходную информацию из традиции Буньоро: «В правление... Виньи I... Буганда стала беспокоить бакитара (т. е. жителей Китары. — Э. Г.). Кабака Кайма напал на Бверу» [177, с. 67]. Бвера — другое название Будду. Ньякатура и Киванука согласны в том, что Кайма в Будду потерпел поражение [148, с. 64]. «До Накибинге (восьмого, по Кагве, кабаки.— Э. Г.),— обобщает М. Саутуолд,— нет сообщений о войнах, за исключением нескольких набегов с целью захвата скота, инициатива которых принадлежала Буганде» [224, с.105]. Итак, седьмой или восьмой кабака Буганды — зачинатель ее экспансионистской политики,— не слишком ли это далеко от эпохи Кинту? Имеем ли мы основание относить к ней то, что сравнительно достоверно известно лишь о более позднем периоде?
Но подобного рода сведения приводятся и для более раннего времени: «К Камере пришли люди и сказали, что... в Бусоге много скота. Тогда Кимера позвал своего сына Луманси и вождей и сказал: „Я назначил Луманси командовать походом в Бусогу. Иди и ограбь эту страну и пригони нам скот"» [143, с. 16]. Кимера — это не седьмой, а всего лишь третий после Кинту кабака, хотя мы и не можем вполне верить ранней генеалогии.
Разумеется, для эпохи Кинту надо сделать поправку на время и усилия, потребовавшиеся для первичной консолидации и преодоления трений между родами. В этой оговорке не следует видеть отказа от вышеуказанного тезиса о консолидирующей роли экспансии в сложении основ бугандского государства или противоречие этому тезису. Тем и стимулировалось преодоление межродовых конфликтов, что был общий, объединяющий роды экспансионистский интерес. В связи с этим не исключено, что в традициях баганда и их соседей скудно отмечены завоевательские устремления Буганды в ранний период, так как крупных столкновений, и в самом деле, могло не быть, а мелким и привычным межплеменным стычкам не придавалось большого значения., Однако общая логика развития бугандского государства подсказывает, что и на первой стадии его формирования ожидать вполне «мирного» характера этого процесса трудно. Прижатые к озеру, остро нуждающиеся в металле, пастбищах, скоте и соли, которые в изобилии имелись совсем по соседству, предки баганда не могли не стремиться к территориальным захватам. Да и сам размах завоеваний в следующий период очевидно показывает, что они не были новичками в этом деле и хорошо подготовились к нему раньше.
Трудно согласиться и с трактовкой американского ученого К. Коттака, который вопреки собственному мнению о незаинтересованности скотоводческой знати Китары в захвате экологически не нужной ей, влажной Буганды тем не менее полагает, что Буганда оказалась каким-то образом в положении обороняющейся стороны по отношению к Китаре и именно это стимулировало ее консолидацию [151, с. 353, 369—370].
Такое предположение кажется малоправдоподобным еще и потому, что Буганду окружала зона «ничейных» земель, не входивших в Китару-Буньоро. Даже в XIX в., когда территория Буганды увеличилась в несколько раз, между нею и западными соседями оставалась достаточная «ничейная» полоса. По свидетельству С. Каругире, восточная граница Нкоре (ранее входившего в Буньоро) была редко населена и «любой мог временно здесь поселиться и пасти свои стада, платя дань мугабе (правителю.— Э. Г.) Нкоре или кабаке Буганды» [145, с. 165]. Говоря о восточных границах Китары, Кивану-ка отмечает их незащищенность [148, с. 69]. Таким образом, окраинные пастбища, именно в силу их удаленности от исторического центра Китары, который к тому же позднее сместился « северу-западу, т. е. в направлении от Буганды, были не слишком досягаемы для контроля из Биго или других «столиц» Китары. И если для Китары это была самая дальняя периферия, то для Буганды — самая ближняя. Большой войны в редко населенной саванне, прилегающей к бугандскому приозерью, естественно, получиться не могло, и Буганде, вероятно, достаточно было мобилизации относительно небольших сил, чтобы начать отодвигать свои границы от озера.
Основы военных успехов баганда коренились в социальной структуре, которая была, в свою очередь, обусловлена развитием экономики, освободившей мужчину от повседневного участия в земледельческом труде. Важнейшие виды ремесленной специализации — отчасти из-за недостатка сырья, отчасти из-за неразвитости товарных связей — также затронули лишь небольшую часть баганда. Малая занятость мужчин в земледелии и ремеслах, с одной стороны, и невозможность удовлетворительной компенсации дефицита естественных ресурсов в силу незаинтересованности населения сухой зоны в обмене и экологической непригодности приозерья для скотоводства, с другой, толкали к экспансионистскому способу разрешения проблемы.
Итак, обусловленная локальными особенностями экологии и экономики специфика развития общественного разделения труда сделала из баганда прежде всего воинов. Соответственно приобрели важнейшее значение военно-организаторские функции старейшин местных родов, объединившихся для завоевания экологически и экономически недостающей зоны. К тому же верховная власть в Буганде не встала на путь дискриминации части родов и, таким образом, могла рассчитывать на всеобщую социальную активность. Этим она достигала более выгодного положения по сравнению с теми, чьи земли Буганда собиралась завоевать, так как правители Китары, списавшие в социальный пассив земледельческую часть населения страны, присвоив управленческие функции исключительно скотоводам, вынуждены были бы организовывать оборону большей по сравнению с Бугандой и редко населенной страны в атмосфере безразличия большинства населения к событиям в военно-политической сфере.
Да и значение промежуточной между Китарой и Бугандой засушливой зоны, как уже говорилось, было далеко не равным для экономики обоих формирующихся государств. Для Китары эти земли представляли интерес только как дополнительный резерв и без того обширных пастбищ. В остальном она была вполне самодостаточной и поэтому незаинтересованной в вовлечении земледельцев периферии в процессы обмена и перераспределения. Для Буганды же эта область была жизненно необходима и неизбежно должна была стать объектом ее настойчивых притязаний. Таким образом, в расстановке сил на исходной позиции перед неминуемым столкновением с Китарой Буганда имела некоторые явные преимущества. Даже ее малая по сравнению с Китарой площадь могла обернуться стратегической выгодой: компактность территории и населения облегчала общее руководство и координацию военных действий, но при одном непременном условии: если разделенные болотами холмы Буганды будут связаны единой сетью коммуникаций. Судя по тому, что строительство дорог и мостов приняло в Буганде наряду с воинской характер поголовной повинности, формирующаяся центральная власть прекрасно отдавала себе отчет в важности этой задачи и успешно с ней справлялась.
Перед военными кампаниями планировалось, «какими дорогами войско пойдет к границе, поскольку воинов снабжало население, жившее вдоль дорог, и нужно было рассчитать таким образом, чтобы не разорить чрезмерно ту или иную область» [203, с. 351]. Дорожное строительство было трудоемким делом в условиях Буганды: «Месячного небрежения достаточно, чтобы сделать любую из существующих дорог неразличимой, немного больше — непроходимой и еще немного — и вообще исчезнут все следы...» [198, с. 115]. Нигде в Африке, свидетельствует Л. Мейр, таких дорог, как в Буганде, больше не было [162, с. 146]. Таким образом, наряду с организацией военного дела важнейшей функцией формирующегося государства в Буганде стала организация общественных (дорожных) работ. В совокупности обе функции предполагали развитие тенденции к централизации управления и тем самым все более жесткое подчинение общинно-родовых властей интересам и воле верховной власти.
Время и условия, в которых приобретали исторический опыт создатели Буганды в самом начале ее консолидации как государства, когда направление развития еще хрупкой и аморфной формирующейся структуры легко могло быть изменено воздействием соседней государственности, были благоприятны для укрепления наметившейся линии общественного развития. Можно сказать, что в этом отношении Буганде повезло вдвойне: экологически и исторически. Поначалу невмешательство (или слабая степень вмешательства) Китары обеспечивала непривлекательность банановой зоны для скотоводческой аристократии Китары, затем к этому присоединился политический фактор.
Согласно легендам, правление Бачвези было коротким и беспокойным, так как с севера Китару тревожили набеги нилотов-луо. Начало медленного продвижения луо на юг из теперешних провинций Бахр-эль-Газаль и Восточная Экваториальная в Судане Б. Огот относит к рубежу I и II тысячелетий [179, с. 40]. Во второй половине XV в. луо вплотную продвинулись к границам Китары. Недаром именно на север ориентированы фортификационные сооружения «столиц» Бачвези Биго и Нтуси. По-видимому, угроза на северных границах была слишком серьезной, чтобы обращать внимание на мелкие вылазки с юга, из Буганды. Время первых семи правлений бугандской династии характеризуется, как показывает М. Саутуолд, «отсутствием военного давления со стороны Буньоро» [223, с. 148]. Тем самым было упущено время, когда разгром непрочного союза родов мог предотвратить, затормозить или модифицировать консолидацию государства в Буганде. Этого периода Буганде хватило для упрочения самостоятельной, отличной от Китары тенденции общественного развития. Суть ее заключалась в создании нацеленного на экспансию союза родов, имеющего прочную экономическую базу в земледельческом («женском») хозяйстве. В Буганде начинает складываться общественная структура, основанная на отношениях господства-подчинения. Как и повсюду в эпоху становления государства, она строится на присвоении знатью прибавочного продукта, произведенного в хозяйстве земледельца и скотовода. Эксплуататором выступает родовая знать во главе с верховным вождем, а цель эксплуатации и ее объект вынесены вовне складывающегося племенного союза. Тем не менее и в эту эпоху неравенство в распределении добычи можно расценивать как первоначальную, скрытую форму эксплуатации рядовых общинников бакопи.
Буганда
этого времени — еще не государство
в собственном смысле слова.
Обладая специфическими чертами,
она в то же время обнаруживает
некоторое сходство со структурами
военно-демократического типа,
которые А. И. Неусыхин определил как
«прочно осевший в определенной
области племенной союз, с
королевской властью, еще не
ставшей выразительницей интересов
лишь господствующей знати, но
руководствующейся общеплеменными
интересами» [45, с. 81].
Глава III
ЭПОХА КИМЕРЫ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВА БАГАНДА (XVI—XVIII вв.)
Падение династии Бачвези датируется концом XVI — началом XVII в. Традиция приписывает этому времени всевозможные стихийные и социальные бедствия: гибли от болезней люди, падал скот, народ вышел из повиновения, и Бачвези бежали, «исчезая» в кратерах вулканов и в озерах [178, с. 123; 112, с. 17].
О причинах «катастрофы Бачвези» строились самые различные предположения, до сих пор остающиеся гадательными. Может быть, ближе всех к истине подошел Киванука: он видит основную причину распада Китары в ее структурной слабости; миграции луо он рассматривает лишь как дополнительный толчок, способствовавший разрушению и без того непрочной системы [148, с. 37, 90]. Сходную позицию занимает К. Ингзм [140, с. 6]. Известно, как непрочны бывают раннегосударственные образования с преимущественно скотоводческой ориентацией хозяйства — скорее всего и Китара не была в этом отношении исключением. Такая трактовка тем более вероятна, что никаких следов видимого превосходства луо — военного или социально-культурного — не зафиксировано ни в традиции, ни в археологии и не следует вообще из всего, что известно об истории нилотских народов. Напротив, традиция настаивает на «дикости» и неотесанности новых хозяев страны, приобщившихся к ее культуре лишь при посредничестве немногих, оставшихся в Китаре Бачвези. Этот перепад — с былых культуртрегерских высот прежней династии к «примитивным» основателям новой — сглаживается традицией и с другого конца: Бачвези стали плохи, обнаружив свою слабость и потеряв харизматический ореол.
Итак, согласно традиции, власть в Китаре захватили «дикари из Букеди» (области к северу или северо-востоку [126, с. 8]), основавшие новую династию — Бито. Впрочем, «Бабито — дети Бачвези и внуки Батембузи», — говорят баньоро [90, с. 58]. Традиция, как всегда, стремится в конце концов узаконить права власть имущих. Распавшееся было государство восстанавливается, правда, в урезанных границах: некоторым из покинувших Китару Бачвези удается основать самостоятельные династии в Анколе (Нкоре) и Карагве. Скотоводы-луо, будучи правителями Буньоро, как стала называться Китара, постепенно восприняли язык и культуру завоеванной страны, повторив историю частичной седента-ризадии и установления отношений симбиоза с земледельцами, некогда происшедшую с Бачвези. Но теперь этот путь был пройден быстрее как за счет заимствования уже выработанных в Китаре традиций раннегосударственных методов управления, так и по причине сходства социально-экономических характеристик старой и новой аристократии. Все это обусловило Буньоро преемственность в развитии общества: Бито продолжали править страной по нормам, выработанным Бачвези.
Забегая вперед, можно сказать, что вплоть до европейской колонизации обилие пастбищ позволяло высшей скотоводческой страте Буньоро поддерживать соотношение обоих типов хозяйства в пользу некоторого перевеса скотоводческого и сохранять за собой господствующее положение. Это, в свою очередь, привело к закреплению ряда черт, присущих скотоводческим раннегосударственным образованиям: периодическому быстрому разрастанию подвластной территории и столь же быстрым и легким распадам, внутренней структурной рыхлости, тенденции к эндогамии скотоводческой элиты и политической индифферентности распыленных земледельческих общин. Поэтому нередко встречающиеся в зарубежной литературе применительно к буньорскому обществу эпитеты «централизованное», «деспотическое» — явная натяжка, инерционно закрепившая поверхностное представление о нем.
В правление первого из династии Бито — Исингома Рукиди Мпуга — Буньоро, если полагаться на традицию ньоро, делилось на 24 провинции, в числе которых называется и Буганда. Наместником последней, согласно той же традиции, был назначен брат-близнец Исингома — Като. Оба они были якобы сыновьями бывшего наместника Буганды и женщины-ланго [235, с. 19]. Таким образом, установлением (фиктивного?) родства и наследственной передачи должности традиция создает видимость соблюдения принятых обычаем норм законности власти. В этом еще нет ничего нового, как нет нового и в назначении представителя мукамы в отдаленную провинцию Китары. Но при Бачвези эта должность кажется во многом номинальной.
Совсем другое дело — Буганда в правление Бито. Действительно новое и, по существу, еще не объясненное состоит в том, что Като удалось стать Кимерой, т. е. «укорениться» в Буганде. Имя «Кимера» — производное от глагола «okumera» — «укореняться», «пускать ростки» [90, с. 54] — он получил уже в Буганде, и именно с ним связана известность Кимеры в качестве устроителя и реформатора бугандского государства. Если Кимера и был братом Исингомы, посланным (или сосланным) на окраину Буньоро, последствия этого оказались несравнимыми с судьбой прежних наместников. Мы не имеем возможности судить определенно о том, как это произошло. Традиции баньоро и баганда противоречат друг другу. Первая говорит о благородном отпрыске новой династии, получившем от брата удел и преуспевшем в сепаратистских действиях [112, с. 34]. Не желая воевать с братом, Исингома примирился с отделением Буганды, сказав: «Бедняга, должно быть, голодал; оставьте его кормиться там, если ему нравится» [225, с. 252]. Традиция баганда отрицает версию вторжения Бито в Буган-ду и настаивает на добровольном признании власти Кимеры, так как последний — якобы внук кабаки Чва, вернувшийся из Буньоро, где он родился от тайного союза Калемеры, сына Чва, и одной из жен мукамы [203, с. 215]. Поэтому, признавая приход Кимеры из Буньоро, баганда отказываются видеть в нем отпрыска династии Бито. Скудость и противоречивость данных традиций, а также отсутствие сколько-нибудь надежной хронологии до сих пор порождают равные версии в интерпретации «темы Кимеры». В свое время Дж. Грей предположил, что в основе легенды о Кимере лежат действительные исторические события: завоевание Буганды отпрыском династии Бито, родство которого с баганда — лишь «патриотическая фикция» [128, с. 266]. К. Ригли, не отрицая установления династии Бято в Буганде, относит его к гораздо более позднему времени — правлению кабаки Мулондо, девятого правителя Бугаяды, и отказывается видеть в Кимере реальное историческое лицо. По его мнению, легенды о Кимере слишком мифологичны и какая-либо историческая реконструкция на их основании невозможна [248, с. 38—41]. Но тогда остается необъясненной, возражает Ригли Р. Оливер, двойная система захоронений правителей (могильник с телом я храм, в котором хранилась нижняя челюсть), известная только в Буньоро и Буганде, и в последней начиная как раз с Кимеры. Все места захоронений кабак в Буганде до сих пор хорошо известны и тщательно охраняются. Традицию этих захоронений Оливер считает инновацией, введенной в Буганде Кимерой — представителем династии Бито [185]. Киванука, так же как Грей и Оливер, склонен видеть в Кимере (в отличие от Кинту) реальную историческую личность, но находит большие хронологические несоответствия между традициями баганда и баньоро, чтобы считать его современником Рукиди и тем самым возможным отпрыском династии Бито. В отличие от Грея Киванука оценивает как «патриотическую фикцию» не связь Кимеры с баганда, а, напротив, его связь с Бито, поскольку Кимера, по приблизительным подсчетам Кивануки, появляется раньше этой династии по крайней мере на два-три поколения [143, с. ХП1—Х1ЛЩ
Таким
образом, Киванука возвращается к
версии Горжю, конкретизируя и
развивая ее, с основным выводом о
том, что приход Кимеры в Буганду
представлял собой «не южное
продвижение луо, а восточную миграцию
некоторых из прежних жителей
королевства Бачвези или
королевства Китала» [148, с. 40]. С
Кимерой традиция баганда
связывает миграцию в Буганду
приблизительно десяти родов. Как
предполагает Киванука, эта
миграция происходила вследствие
оттока части населения из Китары
периода «катастрофы Бачвези» под
давлением вытеснявших Бачвези
скотоводов-луо [148, с. 36— 37].
Установление точной датировки
этого события Киванука предлагает
отложить, пока не будет более тщательно
разработана династическая
хронология Буганды и Буньоро.
Для нас, однако, важна не столько истинная родословная Кимеры, сколько согласие обеих традиций в следующих важных пунктах: 1) приход Кимеры с группой сподвижников из Буньоро; 2) признание, вольное или невольное, его верховной власти в Буганде; 3) отказ Бито, подобно их предшественникам Бачвези, от установления эффективного контроля над Бугандой.
Поскольку Кимера, якобы рожденный в Буньоро и воспитанный в традициях скотоводческой элиты, не посчитал для себя в отличие от прежних номинальных наместников Буганды бесполезным и унизительным «укорениться» в земледельческой стране, можно, как нам кажется, предположить, что Буганда в качестве объекта установления власти приобрела к этому времени определенную привлекательность и для завоевателя-скотовода. В отличие от Кинту Кимера нашел здесь не просто несколько родов с едва намеченной тенденцией к объединению, а воинственный союз с завидными перспективами экспансии, возглавить который было и выгодно и лестно. Но тем более странной может показаться легкость, с которой баганда примирились с навязанной извне властью. Традиция, задним числом узаконивающая власть, не слишком хороший помощник в поисках объяснения этому, но есть один момент, как будто бы несколько проясняющий дело: признание Кимеры вызвано не только и, может быть, не столько «законностью» его притязаний, сколько тем, что оно пришлось на затянувшийся после «исчезновения» Чва период междуцарствия [203, с. 215]. Вероятно, к приходу Кимеры в Буганде не нашлось силы, способной возглавить союз бугандских родов и противостоять захвату власти лидером мигрантов с запада. Победа Кимеры — скорее свидетельство не его силы, а слабости власти «старейшины старейшин» Буганды. Эта победа показывает, насколько неустойчива еще была в Буганде объединительная тенденция и неразработан механизм наследования верховной власти, допустивший длительное междуцарствие. Позднее такие периоды в истории Буганды случались все реже, а нормы наследования все быстрее и жестче обеспечивали преемника кабаки. А пока вдова Чва, охотно «признав» в Кимере наследника своего сына Калемеры, погибшего в Буньоро, «сообщила ему обо всех делах правления в Буганде» [223, с. 143]. «Кимера, — заключает Кагва, — всегда останется в памяти людей, потому что именно от него произошел нынешний королевский дом» [144, с. 20].
Если Кинту предстает в устной истории преимущественно как мифический культурный герой и носитель магической силы, связующей воедино роды Буганды, то в характеристике Кимеры преобладают вполне земные и конкретные черты воина и законодателя: ему приписывается введение административной системы почти в том виде, в каком ее застала европейская колонизация [225, с. 253]. Естественно, мгновенный скачок к зрелым государственным порядкам невозможен, да и предания родов, во многом конфликтующие с официальной обще-бугандекой традицией, позволяют сделать поправки на присущие ей анахронизмы. Однако нельзя отрицать и того, что через Кимеру и его сподвижников в Буганду, вероятно, был впервые непосредственно привнесен опыт древнейшей в Межозерье государственности Китары. Стадиально бугандское общество было достаточно подготовлено к преобразующей деятельности Кимеры, почему она и оказалась способной резко ускорить процесс формирования государства.
Кимере приписывается впервые произведенное территориальное деление Буганды на провинции, получившие то же название саза, что и в Китаре со времен их легендарного учредителя Исазы. Согласно традиции, во главе этих округов Кимера поставил наместников-бакунгу, предоставив им право на часть дани с подведомственной области и доверив им функции, ранее представлявшие исключительную прерогативу родовых старейшин-батака (организация ополчения и общественных работ, судопроизводство) [225, с. 254; 142, т. II, с. 682].
Несомненно, при Кимере эта политика не могла быть проведена столь последовательно (и двумя веками позже во главе некоторых саза еще оставались батака), но ей было положено начало. Тем самым родовая знать, и без того поставившая себя в зависимость от воли верховного вождя, постепенно оттеснялись на второстепенные роли в руководстве жизнью общества, а сородичи теряли основной барьер социальной защиты, каковым до сих пор был род. Возможно, что некоторые заимствованные в Буньоро принципы административного управления способствовали развитию тенденции к выдвижению новой социальной опоры центральной власти, новой элиты, формирующейся не в русле и не по правилам родовых институтов.
Однако если перенесение в Буганду политических традиций Китары ускорило темпы общественного развития, поскольку правящая верхушка могла воспользоваться «готовыми формами» административного аппарата, то наполнение этих форм, т. е. сам механизм классообразования, никоим образом не повторил историческое прошлое Китары. Иные экономические и исторические условия предопределили и другие пути социального размежевания. В Китаре-Буньоро социальная мобильность почти совсем не затронула основную, земледельческую массу населения, предоставив ей роль эксплуатируемого посредством дани социально пассивного слоя. Возможности его имущественного и социального возвышения были ничтожны. Мало кому из баиру удавалось войти в состав административной иерархии на уровне ее высших и даже средних звеньев. А те, кто все-таки одолевал дискриминационный барьер, экономически, социально и культурно тяготели к ассимиляции со скотоводческой элитой. Узоигве пишет, что «культура этой страны (Буньоро-Китары. — Э. Г.) была скотоводческой культурой абахума. Когда омуиру становился вождем, он автоматически терял свой первоначальный статус... и воспринимал скотоводческую культуру» [242, с. 185].
Среди скотоводов конкуренция в социальной и имущественной сфере ограничивалась пределами немногочисленной группы, кровными и личностными узами связанной с правящим родом. В последнем же всем потерпевшим неудачу претендентам на должность главы государства предоставлялось то или иное место в административном аппарате и какая-либо область страны в управление [90, с. 256].
Совершенно иная картина наблюдается в Буганде. Ни скотоводы, как таковые,— их просто не было в земледельческой Буганде, ни потомки кабак — «принцы»-балангира не обладали наследственным правом принадлежности к управленческому слою. Напротив, забегая вперед, можно сказать, что для балангира история Буганды — это история их последовательного отлучения, вплоть до физического уничтожения (разумеется, за исключением избранного кабакой), от какого-либо участия в политической жизни страны.
Все остальное население оказалось втянутым в процессы социальной мобильности. Ее основным каналом и важнейшим стимулом, благодаря которому ускорялась подмена избранных родом «снизу» назначенными кабакой «сверху», стала война: «Кимера прослышал о богатствах басога; поэтому он послал экспедицию... чтобы ограбить их» [203, с. 215]. Первый поход после коронации обычно организовывался в Китару, второй — в Бусогу [225, с. 260]. «Баганда, — подтверждает А. Кагва,— привыкли силой добывать желаемое или же получать его в дар от короля» [144, с. 66]. «Надежда на добычу преисполняла каждого мужчину желанием принять участие в походе... Война с баньоро возобновлялась ежегодно» [203, с. 346].
Создание сети коммуникаций, пригодной для быстрых, маневренных и согласованных действий войск, требовало централизованной координации общественных работ по прокладке дорог. Того же самого — специализации и единства руководства — требовало, разумеется, само ведение войн. И, наконец, такого же рода потребности возникали при освоении захваченных земель. Цели экспансии Буганды не сводились к грабежу и взиманию дани, как правило лишь поверхностно затрагивающих общественные устои завоеванного населения и не требующих от завоевателей сколько-нибудь значительной дополнительной организационной деятельности. Войны баганда преследовали прежде всего цели прочного территориального захвата и последующего присвоения через систему перераспределения и регулярный обмен недостающих влажной зоне ресурсов и продуктов.
Таким образом, весь процесс экспансии, от исходных предпосылок до достижения конечных целей, во всех трех связанных с ним видах деятельности (дорожные работы, война, установление систем фиска и обмена) предъявлял к обществу одни и те же требования — специализации и централизации военно-административного руководства. И оно постепенно создается в ходе захватнических войн, прежде всего — из людей, в них отличившихся. Личные качества — полководческий и административный талант, храбрость, инициатива — сменяют в критериях, определяющих положение человека в обществе, нормы родового наследования. Насколько важна была для Буганды именно военно-организаторская сторона управленческой функции, видно из того, что о человеке с физическими недостатками, делавшими его непригодным для (военной службы, баганда говорили: «TaIya bwami»— «Он не мог иметь (букв, „проглотить") власть», т. е. занимать какую-нибудь должность [201, с. 277].
В первую очередь это правило относилось к кабаке: его слава — прежде всего слава воителя, и он должен заслужить ее на поле боя, как все, рискуя жизнью. Погибнуть в битве — геройская смерть, ее (как смерть кабаки Накибинге в войне с баньоро) будут воспевать потомки [143, с. 28]. Пройдет немало времени, прежде чем персону кабаки оградят от подобного риска и руководство через гонцов станет осуществляться из столицы. В ходе экспансии вырабатывались крайне жесткие средства контроля, обеспечивающие максимальное напряжение сил и целеустремленность завоевателей. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что бугандские военачальники гораздо больше трепетали перед своим собственным повелителем, чем перед любым, самым сильным противником. И было отчего: проиграть битву, вернуться со скудной добычей или прибегнуть к тактическому маневру, похожему на отступление, означало нередко чуть ли не заведомо подписать себе смертный приговор или по меньшей мере подвергнуться позорным наказаниям, лишиться семьи и имущества, вызвать репрессии против сородичей. Обвиненные в трусости или предательстве — тягчайших преступлениях, по представлениям баганда,— карались сожжением заживо тут же, на поле боя. Угроза такой казни постоянно была перед глазами воинов в лице специального служителя, несшего в поход факел — орудие казни, зажженный от священного огня при дворе кабаки [203, с. 355]. Но и миновав эту угрозу, нельзя было быть уверенным в благополучном возвращении домой до прохождения своего рода отчета перед кабакой и соратниками. Роско описывает драматическую процедуру, когда один за другим проходят перед кабакой военачальники разных рангов, и может быть достаточно нескольких неодобрительных возгласов в адрес «экзаменующегося», осуждающих его поведение во время битвы, чтобы недавнего фаворита по едва заметному знаку кабаки незамедлительно, без какого-либо разбирательства, поволокли на казнь [203, с. 360].
И напротив, донесение гонца или очевидцев о доблести неизвестного до сих пор героя, его богатые трофеи, принесенные в дар кабаке, почти мгновенно могли произвести еще одну головокружительную карьеру. Именно этой новой знати — пусть ценой риска и страха — достаются в основном ценимые в обществе привилегии. «Всегда есть риск для тех, кто ищет богатства», — гласит поговорка баганда [203, с 491]. В пользу выдвинувшихся военачальников перераспределяется награбленная добыча, им вверяется управление захваченными территориями: «Маванда, — говорится в традиции об одном из кабак, — был воином и воинов вознаграждал» [148, с. 115]. Так военачальники становятся одновременно наместниками новых провинций, обязанными регулярной податью, охраной и расширением границ и своевременным ремонтом дорог обеспечивать экономическую и политическую связь с центром государства.
Экспансия оказывала противоречивое воздействие на процессы социальной и имущественной дифференциации. С одной стороны, она перестраивала социальную структуру с меж- и внутриродовой иерархии на иерархию внеродовую, свободную от сковывающих развитие родовых институтов. Но, с другой стороны, коль скоро новая знать взращивалась поначалу на эксплуатации главным образом вне Буганды, она оказывалась еще и неспособной, и незаинтересованной последовательно отстаивать свои сословные интересы внутри страны. Таким образом, поддерживалось определенное социальное единство общества, основанное на реальном элементе общности интересов его членов и тормозившее его разделение на противостоящие группы.
Однако указанное противоречие не должно вводить нас в заблуждение относительно результирующей этих разнонаправленных процессов. Преобладающая тенденция прослеживается вполне однозначно: общество разввивается по государствообразующему пути. Красноречивое свидетельство и показатель этого процесса — механизм социальной мобильности, формирующий качественно новую структуру общества. Причем круг подпадающих под действие этого механизма подданных постепенно расширялся, распространяясь из исторического центра Буганды к ее окраинам. Сначала новоявленных подданных в захваченных районах контролировал посаженный кабакой наместник из недавних предводителей на этом участке экспансии. За местным вождем, если он проявлял лояльность к победителям, оставляли подчиненную наместнику власть. В некоторых случаях, когда набеги, грабежи и обложение данью создавали у соседних с Бугандой вождей впечатление неминуемой потери независимости, они предпочитали «добровольно» признать подданство Буганде. Такой ценой они иногда удостаивались ответного «доверия» со стороны кабаки, милостиво приобщавшего их к своей администрации [148, с. 116—117]. В случаях же активного сопротивления баганда прибегали к репрессиям, а в наиболее беспокойных пограничных областях по приказу кабаки создавались специальные укрепленные поселения с гарнизоном, обязанным охранять границы и замирять местное население.
Но в какой бы форме ни началось втягивание периферии в сферу влияния Буганды, как только присоединенные земли более или менее прочно осваивались, происходило постепенное сближение гражданского статуса ее населения с нормами, действовавшими в центре. Так, Киванука, описывая положение банабудду (имеются в виду не рабы-бадду, захваченные в. Удду, области к западу от Буганды, а свободное население этой страны, в конце XVIII—начале XIX в. окончательно присоединенной к Буганде), сообщает, что баганда, «хотя и были воинами, ценили ремесло», в ряде видов которого банабудду их явно превосходили. Поэтому вождям банабудду разрешалось занимать высокие посты [148, с. 118]. Банабудду были к тому же и прекрасными кузнецами, обязанными поставлять в Буганду мотыги, наконечники копий и т. п. «Даже на церемониях восшествия на престол кабаки, — свидетельствует Киванука,— им (вождям-наместникам банабудду. — Э. Г.) доверялись очень важные функции, как если бы они всегда принадлежали к первоначальным родам» [148, с. 118].
Не стоит вполне доверять этой идеологической демонстрации «равенства» населения периферийных провинций Буганды и ее ядра. «Жить в Буганде и быть баганда — не одно и то же», — гласит старая пословица баганда. Однако не следует и недооценивать приведенное сообщение Кивануки, подтверждаемое также и другими авторами. Участие в упомянутой церемонии символизировало включение завоеванного населения в состав подданных со всеми вытекающими отсюда последствиями: приобщением его к правящему дому, распространением на него благодетельной и грозной силы правителя, а также обязанности регулярных поставок натурального налога и мобилизации рабочей силы. Управление периферийными областями со временем все больше доверялось людям местного происхождения, проходившим те же ступени карьеры, что и представители исконных бугандских родов.
Но не только вширь развивалась социальная мобильность, распространяясь на родовую знать завоеванных земель и преобразуя ее в административно-служилое сословие. Одновременно она становится более емкой, глубокой, разъедая родовые перегородки и проникая в самые недра общества, т. е. переходя от уровня соперничества кровнородственных коллективов к конкуренции индивидов: «Любой член рода мог достичь самого высокого положения в стране, если ему удавалось стать сведущим в государственных делах и он был храбр на войне и гибок в совете» [203, с. 269]'. Это не значит, разумеется, что лично зависимые от кабаки военачальники и приближенные со временем не стремились утвердиться также и в наследственных привилегиях. И поначалу наметилась как будто бы тенденция, свидетельствующая об успехах новой знати в отстаивании принципа наследственной передачи богатства и власти. В самом деле, шансы потомков знати и простого люда «стать сведущими» при прочих равных условиях были отнюдь не одинаковы. Первым легче было добиться высоких должностей, «так как они были лучше подготовлены к ним благодаря преимуществам своего социального положения и воспитания» [203, с. 13]. Не часто бывало, чтобы рядовой общинник поднимался достаточно высоко по лестнице служилой иерархии. Ведь для этого желательно было начать «карьеру» еще подростком: попасть в королевские слуги — багалагала (bagalagala). Безусловно, служилым людям было проще, чем не имеющим никакой должности, пристроить таким образом своих сыновей, хотя необходимо отметить, что институт багалагала «е стал монопольной привилегией служилого сословия. Этому мешал риск, сопряженный с прохождением «школы слуг»: за малейшую провинность с 12—13-летним подростком могли расправиться так же жестоко, как и со взрослым. А коль скоро обеспечение кабаки и всей иерархии управления мальчиками-багалагала входило в обязанности подданных, то и сложились такие компромиссные формы решения вопроса, когда отец, страшившийся за судьбу сына, предпочитал посылать вместо него сына или родственника своего подчиненного или даже рядового общинника. И только если его карьера складывалась удачно, покровитель заявлял о себе как об «отце» выдвиженца и извлекал из этого все возможные выгоды [117, с. 22].
Инерционная сила традиции отчасти еще включала достигших верхов общества в обычные механизмы родового наследования. Но чем дальше, тем больше противостояла этой тенденции централизаторская политика бугандских правителей, вновь и вновь возрождая социальную мобильность.
По сравнению с функцией военачальника все остальные обязанности новой элиты поначалу выступали как второстепенные, важные постольку, поскольку они обеспечивали основные условия успешного ведения войн — снабжение войск, коммуникации. Поэтому гражданская сфера управленческой деятельности, будучи также каналом социальной мобильности, и в престижном и в реальном отношениях в начальные века формирования бугандского государства была менее перспективной для социального продвижения и обогащения. Однако и здесь усложнение организационных задач постепенно вызывало к жизни специализацию, углубляющую общественное разделение труда между управляющими и управляемыми и ставящую первых над вторыми.
Прежде всего, должность бакунгу (часто отлучавшихся из своих саза из-за войн и вызовов кабаки в столицу для участия в лукико — совете глав провинций, а также для выполнения придворных обязанностей) была продублирована, как и в Буньоро, институтом заместителей-басигире с предоставлением им на время отсутствия бакунгу всей полноты власти наместника саза. Басигире, отвечая за саза в целом, в более мелких территориальных подразделениях, вплоть до деревни-киало, передоверяли свои функции представителям низших звеньев формирующегося государственного аппарата, также получавших свою долю перераспределенного продукта. Впрочем, слово «передоверяли» не вполне точно передает специфику социальной иерархии в Буганде, так как соподчинение статусов в управляющем сословии считалось второстепенным в сравнении с отношением любого омвами (omwami, мн. ч. — mwami — «господин», «вождь», любой человек, имеющий должность) к кабаке.
Обычай требовал личного представления кабаке каждого кандидата на должность, вплоть до деревенского старейшины. Назначение скреплялось дарами и клятвой хранить верность прежде всего верховному правителю, а не непосредственно вышестоящим по рангу[6]. Завершающий акт назначения производился на месте — в отведенной омвами территориально-административной единице, в присутствии гонца кабаки, которому поручалось принять дары от нового омвами и всех его подданных. До окончания этой процедуры, требовавшей известного времени на доставку подношений в резиденцию омвами, представителем власти кабаки считался его посланник а не омвами, и пришедшие с последним родственники и общинники не имели права обосновываться на новом месте и заводить хозяйство [161, с. 192].
Кроме территориальных властей управленческий аппарат постепенно обрастает целым рядом новых должностей: стражников, надсмотрщиков на строительных и дорожных работах, палачей, гонцов, сборщиков дани. Многочисленная челядь, обеспечивающая хозяйственные нужды двора кабаки и резиденций бакунгу, была организована по ведомствам во главе со специальными должностными лицами: шеф-повара, омвами над пивоварами, кузнецами, горшечниками т. д. Все эти категории «людей короля», впоследствии получившие обобщенное наименование батонголе (ед. ч.— мутонголе), вознаграждались частью собранной дани и предоставлением им административных функций в одной или нескольких деревнях. В описываемый период они рекрутировались в основном через родовые связи.
Вообще, род, обнаружив удивительную приспособительную гибкость, не только уступает старые позиции, но и завоевывает новые. Восходящая к эпохе Кинту-Чва традиция предоставления каждому роду определенных наследственных привилегий (и в то же время обязанностей) по отношению к двору закрепляется и с захватом новых территорий и инкорпорацией населяющих их родов приобретает большие масштабы.
Другой важнейший канал социального продвижения, проходивший через род, — система наследования власти кабаки. Союз кабаки с каждым родом скреплялся брачными узами, а дети от этого брака в отличие от общепринятых норм отцовского права наследовали тотем матери. Этот порядок строго сохранялся вплоть до недавнего времени. Когда кабака Чва II (1897—1939), не считаясь с традицией, хотел передать наследникам свой тотем, он встретил такое сопротивление, что вынужден был отступиться от своего намерения [224, с. 87].
Таким образом, любой род мог надеяться увидеть правителем страны своего представителя, а это, естественно, сулило определенные привилегии для сородичей. Показательно в этом отношении, что роды баганда, сегментируясь, в то же время сохранялись как единое целое, не распадались на автономные кровнородственные коллективы: чем шире был род, тем больше шансов было у его членов стать сородичами кабаки.
Правда, по данным Дж. Роско, лишь 15 и 36 бугандских родов считались имеющими непосредственное право на престолонаследие. Остальные были так или иначе дискриминированы в этом отношении: например, представительницам некоторых родов возбранялось становиться женами кабаки; женщины других родов имели на это право, но зато сыновья, рожденные ими в браке с кабакой, отстранялись от престолонаследия (иногда их просто убивали при рождении). Но достаточно было вступить в союз с полноправным родом и получить тем самым как бы двойную родовую принадлежность, чтобы эти преграды оказались легко преодолимыми [203, с. 137—140]. «Благородные» роды охотно шли на подобные соглашения, так как это повышало и их шансы увидеть во главе государства человека, обязанного данному роду неоценимой услугой и потому особенно внимательного к нему при распределении должностей и привилегий.
Был и еще один важный аспект в нормах наследования королевской власти в Буганде. Согласно Роско, любая крестьянская девушка, как и дочь знатного человека, могла стать женой кабаки и ее сын равным образом считался законным претендентом на престол [203, с. 86]. Это можно понять, с одной стороны, как показатель незрелости сословных отношений, откуда и отсутствие строгих межсословных барьеров, но с другой — здесь проявился присущий Буганде широкий диапазон социальной мобильности. Ведь нельзя сказать, что в соседних с Бугандой политических образованиях процессы классовой дифференциации зашли дальше, напротив, за исключением, может быть, Руанды и Бурунди, Буганда развивалась наиболее быстрыми в Межозерье темпами, а между тем такого рода проявления «демократизма» были им несвойственны.
Согласно традиции, при ранних кабаках наследные «принцы»-балангира решали вопрос о передаче верховной власти серией поединков, а иногда и схваткой сто-ройников конкурирующих кандидатов. Оставшиеся в живых и признавшие поражение балангира с условием сохранения лояльности победителю могли в знак его высочайшей милости и прощения удостоиться предводительства в военном походе и получить в управление дальние области [143, с. 49; 148, с. 78], Позднее институт поединков вырождается в формальную церемонию, за которой кроется избрание кабаки группой влиятельных придворных, гарантированное стоящими наготове вооруженными отрядами, в нужный момент стянутыми ко двору [143, с. 143—144]. С окончанием длившегося до полугода церемониала коронации все это время неусыпно охраняемые балангира отправляются поодиночке в специально для них предназначенные, небольшого размера владения (деревня или несколько деревень) — фактически на пожизненный домашний арест. С этого момента они полностью отлучены от участия в управлении государством. Далеко не все потомки бугандских правителей мирились с подобным положением. История Буганды полна шут, бунтов и заговоров, иногда кончавшихся успешно для восставшей стороны. Известны имена кабак, именно таким образом добившихся престола. Но по мере формирования административного аппарата государства усиливалось и его вмешательство в вопросы наследования верховной власти: избрание преемника все реже могло сопровождаться непредвиденными случайностями, а неудачливые кандидаты на престол все более надежно и решительно изолировались от участия в управлении страной.
К XVII в. Буганда почти удвоила свою первоначальную территорию [148, с. 70]. Хроники сообщают: «В правление седьмого Бито, Виньи II, Буганда расширила свои границы до р. Вабирико в Митьяне. Население Митьяны без боя сдалось Буганде» [177, с. 71] или: «Была потеряна захваченная Бугандой область Къягве. Кабакой в это время был Маванда» [177, с. 80]. В начале XVIII в. «Буганда простерла свои границы до Мубенде, вплоть до р. Набакази» [177, с. 81]. В середине XVIII в. кабака Джунью присоединил Бверу (Будду) к Буганде; это событие А. Данбар не без основания считает переломным моментом в истории Буганды и Буньоро, так как первая становится господствующей силой в Межозерье [112, с. 39].
Значительную часть страны продолжали еще наследственно контролировать родовые старейшины. Даже при Мутеби (~1636—1690), известном политикой открытых репрессий против батака, некоторые главы родов «пользовались автономией и называли себя кабаками» [224, с. 105].
Правители Буганды не в силах были разорвать сакрально понимаемую связь батака — бутака, родовых старейшин — родовых земель. Свобода действий кабаки ограничивалась незанятыми землями (тем самым стимулировалось стремление к их захвату). Но если не во власти кабаки было сместить повсюду родовых старейшин и заменить их своими ставленниками-бакунгу, то и батака ничего не могли поделать с тем, что все большая часть королевских милостей, а с ними реальная власть и богатство распределялись в обществе, минуя их. В XVIII в. это неустойчивое равновесие все чаще нарушалось прямым посягательством кабаки, и не только на права родовых старейшин, но и служилой знати, стремившейся к наследственному закреплению своих привилегий. К началу XIX в. становится совершенно ясно, что попытки отстоять свои притязания обеими этими социальными группами потерпели поражение. В Буганде, возглавляемой теперь деспотическим правителем, сосредоточившим в своих руках высшую военную, административную и судебную власть, противостоят две основные общественные группы: служилые ненаследственные мвами и рядовые общинники бавкопи. Государственная и социальная структура обретает тот вид, который застала колонизация.
Глава IV
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БУГАНДЫ КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
В
начале XIX в. Буганда занимала земли
между р. Катонгой на западе и
Виктория-Нил на востоке, отодвинув
приблизительно на
Присоединение к Буганде ряда областей устранило, наконец, хронический недостаток естественных ресурсов: включенная в государство зона короткотравных саванн уравновесила благоприятные, но узкие, односторонние возможности длиннотравной земледельческой зоны. Возможно, поэтому Буганда ограничивает свои территориальные притязания и ориентируется теперь в большей степени на грабительские войны и навязывание соседям даннического режима.
Но если приостановка политики присоединения новых земель объясняется достигнутой эколого-экономической самодостаточностью, то на дополнительный стимул к грабежам и взиманию дани была своя причина. Дело в том, что отодвинутая с завоеванием Будду далеко на юго-запад граница Буганды приблизила ее к глубинным опорным пунктам арабо-суахилийских торговцев, которые за слоновую кость и рабов поставляли в Восточную Африку хлопчатобумажные ткани, раковины каури (местный денежный эквивалент), стеклянную и фарфоровую посуду, бусы; позднее, во второй половине XIX в., — огнестрельное оружие. Еще кабака Кьябагу покупал через посредников фарфор и стекло, а его сын Семакокиро в конце XVIII в. отправлял отряды охотников за слоновой костью, которую менял потом на привозные ткани. В первой половине XIX в. фактории все ближе подходили к западному берегу оз. Виктория, огибая его с юга, а Буганда пробивала к ним путь, не только завоевав Будду, но и поставив в зависимость ряд мелких объединений — Кизибу, Коки, Карагве, Ихангиро и другие, лепившиеся с запада к озеру. Бывшие данники Буньоро в этом районе стали теперь данниками Буганды, и она могла диктовать им условия торговли с суахилийцами.
Источники статей обмена, как и вообще источники своих доходов, бугандское государство изыскивало отнюдь не только в своих пределах, тем более что к началу XIX в. оно стало в Межозерье силой, не знающей соперничества. Противостоять ему могла только некогда слывшая могущественной Китара-Буньоро, которая теперь, растеряв половину своих владений, отчасти перешедших к Буганде, не способна была претендовать на былую роль политического центра. Последний прочно переместился в Буганду. За исключением Буньоро, все пограничные с Бугандой области и «королевства» (Бусога, Анколе, Торо, Коки, Кизиба, Бухайя, Карагве) так или иначе оказались в сфере ее влияния и контроля.
Включение в единую систему обмена и перераспределения относительно обширных и экологически разнородных областей, а также товарный спрос на рабов и слоновую кость и новые потребности в высокопрестижных привозных товарах (ношение ввозимых тканей было высочайшей привилегией, даруемой милостью верховного правителя Буганды) ускоряли темпы общественной поляризации. Однако в первой половине XIX в. новые стимулы, ускорив темпы общественного развития, еще ни в коей мере не сместили самого его направления, ведущих тенденций в отличие от второй половины века, когда резко усилившееся воздействие арабо-суахилий-ского, позднее европейского мира привело к разрушению ряда важнейших черт традиционной социальной структуры.
Тем самым середина XIX в. заключает длительную историческую эволюцию, в которой можно различить несколько последовательных, существенно различающихся этапов. Напомним эти этапы, чтобы представить общую перспективу и основные тенденции развития бугандокого государства.
На начальном этапе, восходящем к XIV—XV вв., создается племенной союз во главе с вождем и советом старейшин объединенных родов. Следующий этап формирования государства баганда знаменует тенденция к оттеснению родовой знати новой, служилой, рекрутируемой из рядовых общинников. Далее намечаются две противоречивые тенденции. Первая, ранняя, ведет к наследственному закреплению статуса служилой знати, вторая же, более поздняя, — к отрицанию возникшей было наследственности. В противоборстве этих двух тенденций побеждает вторая, к началу XIX в. доведенная почти до полной реализации. С этого времени, которое мы считаем началом третьего этапа развития доколониальной Буганды, окончательно определяются состав и характер двух основных социальных групп: входящих в государственный аппарат служилых людей и рядовых общинников-бакопи. Несмотря на отчаянное сопротивление служилой знати, ей не только не удается передать свою социальную принадлежность потомкам, но и хоть сколько-нибудь надежно гарантировать собственное место в общественной иерархии. По-видимому, объективные возможности и потребности общества не допускали соединения наследственного начала с социальным статусом индивида и вызывали периодическую смену, постоянное обновление состава государственного аппарата, вытеснявшего племенной совет. Причем по мере все более последовательного и полного использования принципа сменяемости состава формирующегося государственного аппарата возрастает и его централизация, и его действенность.
Таким образом, очевидно, что историческое развитие Буганды было несовместимо с наследственным, стабильным размежеванием сословных групп и органически связано с процессами государственной централизации и социальной мобильности. Однажды возникнув, эти процессы постепенно преодолевали сопротивление родовых и — шире — наследственных традиций.
На рубеже XVIII—XIX вв. ненаследственный характер основных сословий Буганды преобладал в обществе и был закреплен в традиционном праве. Последнее строилось, казалось бы, на внутренне противоречивом, но в то же время едином, вернее, двуедином принципе организации общества: «демократическом» признании права большинства подданных на продвижение вверх по лестнице социальных рангов и в то же время односторонне направленном сверху вниз режиме беспрекословного подчинения.
Открытый доступ в верхи общества баганда объясняли общностью происхождения. «Мы все — дети Кинту» — в этой формуле отнюдь не только сознание этнического единства. Считаться потомком Кинту означало обладать неотъемлемым правом достижения любого социального статуса (за исключением статуса верховного правителя, поскольку для этого требовалось еще и быть рожденным от кабаки). Сама же жестко подчиненная единому центру иерархия должностей воспринималась как ничуть не противоречащее принципу «равных возможностей» естественное состояние общества, происходящее из нужд государственного руководства, с одной стороны, и неравенства индивидуальных способностей и притязаний — с другой.
Вершина иерархии сходилась к персоне кабаки, считавшегося собственником и источником всех благ, распределяемых среди членов общества сообразно их достоинству, чему судьей был лишь один кабака. После инаугурационного ритуала он провозглашался «законом для самого себя» {144, с. 82—83}. К середине XIX в. статус кабаки допускал практически безграничный произвол со стороны его носителя. Некоторые элементы понятия «законного» или «незаконного» поведения, проскальзывающие иногда в источниках по отношению к ранним кабакам, — обычно в формулах «такой-то был хорошим правителем» (или плохим; причем о «хороших» обычно говорится, что они отличались «уважением к людям», т. е. следовали традициям, не ломая их круто, не вводя репрессиями новых установлений) — исчезают, заменяясь эпитетами, подчеркивающими мощь, всевластие бугандского монарха [142, с. 102]. Суну II, правившего в начале XIX в., называли Lbare («всемогущий»), а его преемника Мутесу I — Мukааbyа («заставляющий плакать», «причиняющий страдания») [143, с. 144]. Он сотнями казнил подданных, сажал в колодки влиятельнейших людей в государстве, повсюду видел заговор и измену и беспощадно расправлялся с действительными или мнимыми противниками. Казни стали повседневным явлением, а одну из резиденций Мутесы даже называли «Ndabiraako ddala» («Посмотри на меня в последний раз»), прозрачно намекая, что, встретившись, люди никогда не были уверены, удастся ли им еще раз увидеть друг друга [143, с. 162].
Инаугурационные церемонии, включающие торжественную клятву кабаки нести определенные обязанности по отношению к подданным и соблюдать границы, «отличающие королей от тиранов» [148, с. 98]; почтительные визиты новоизбранного кабаки к старейшинам влиятельных родов и тому подобные ритуалы в описываемое время превратились в фикцию, не оставляющую никаких надежд на реальный контроль и ограничение деспотических замашек бугандских правителей. Киванука называет кабак XIX в. самыми жестокими кабаками в истории Буганды [148, с. 130]:, и действительно, правления Семакокиро, Суны и Мутесы похожи на кульминацию произвола единовластия.
Далее по нисходящей в бугандской иерархии следовали: соправительницы — мать (намасоле) и сестра-жена (лубуга) и два влиятельнейших лица — катикиро, ближайший советник кабаки, и кимбугве, хранитель «королевских» фетишей. Вместе с наместниками-бакунгу (или абамасаза) десяти провинций (саза) они составляли ядро лукико — совета при кабаке. Саза, в свою очередь, делились на более мелкие территориальные единицы, вплоть до деревенской общины (киало) во главе со старейшиной. Статусы бакунгу ранжировались в зависимости от исторически сложившегося экономического и стратегического значения провинций, а также придворного титула ее главы. Соответственно не считали друг друга ровней и представители государственного аппарата внутрипровинциальных подразделений разных саза. Круг обязанностей на всех уровнях административного управления был одинаков: сбор налогов, судопроизводство, организация ополчения и общественных работ (строительство дорог, мостов, помещений в резиденциях местных властей).
Территориально-административная иерархия в столице и на местах дополнялась штатом придворных служб. При дворе кабаки часть этого штата составляли те же бакунгу, главы провинций. Каждый из них имел определенный титул и обязан был обеспечить контингент людей для выполнения тех или иных работ. Некоторые службы заполнялись через родовые институты: каждый род имел закрепленную за ним традиционную обязанность-привилегию поставлять двору своих людей для выполнения определенных поручений. Например, род обезьяны колобус был ответствен за обеспечение двора водой, а роду крысы доверялось формировать штат личных телохранителей кабаки [203, с. 160]. Кроме того, для тех, кто сумел проявить свои способности в организации какой-либо из необходимых двору служб, оставался доступ к придворной карьере и вне родовых каналов. Обычно эта последняя категория формировалась из подростков-багалагала, служивших при дворе кабаки, где их требовалось до тысячи [144, с. 171]. Именно из них главным образом набирались впоследствии «люди короля» — батонголе. Последние, как и бакунгу, получали определенное жалованье и наряду с придворными обязанностями несли административную службу в отведенных для них округах битонголе, размеры которых могли быть самыми разными, от одной-двух деревень до довольно крупных. Многие битонголе учреждались на границах Буганды и специализировались на их охране [143, с. IV]. В соответствии с рангом обладателя саза или битонголе провинциальные дворы воспроизводили в миниатюре двор кабаки со всеми его атрибутами: стражей, гонцами, надсмотрщиками, ремесленниками, кухней и т. д.
Все разряды государственных служащих независимо от выполняемых функций и места в иерархии входили в общую категорию мвами (ед. ч. — о-мвами) — «вождей» и противопоставлялись рядовым общишшкам-бакопи, не сопричастным к государственной власти. При этом принадлежность к благородному или худородному роду значения не имела. Разграничение шло по иному признаку — признаку служилости. Омвами — это тот, кому делегирована кабакой административная власть, а вместе с ней доля государственного, налога, военных трофеев и дани с соседей. Место и срок службы на всех ступенях должностной лестницы определял кабака, который в любой момент волен был сместить неугодного ставленника, конфисковать его имущество, скот, отнять жен, подвергнуть позору публичных наказаний, послать на жертвенник. Случалось и наоборот: вчера еще никому не известный мукопи милостью кабаки мог оказаться вознесенным на самые верхи бугандского общества, минуя промежуточные звенья государственного аппарата. В этих взлетах и падениях — не случайные судыбы случайных фаворитов монарха — явление, известное многим обществам, но самое существо, норма социальной жизни баганда. Правда, нижняя граница перемещений исключала возвращение мвами в ряды бакопи. Уж если кабака сохранял опальному слуге жизнь, он оставлял за ним какую-либо должность [161, с. 193].
Вхождение в состав управленческой иерархии прочно закрепилось в традиционном праве как пожизненно необратимое состояние. Насколько просто было отдать неугодного подданного в руки палача, настолько же немыслимо разжаловать в рядовые общинники. Что же касается возможностей наследственной передачи статуса, то очевидно, что в лихорадочной чехарде (постоянной перетряски государственного аппарата они были по меньшей мере ненадежны. На протяжении XVIII в. тенденция, направленная на постоянное обновление состава доверенных лиц верховной власти, постепенно набирала силу, а с появлением дополнительных стимулов, о которых речь шла выше, стала приближаться в своем развитии, по-видимому, к кульминации. «Что вы все спрашиваете, кто наши отцы?»— недоумевали баганда, когда европейский исследователь пытался установить степень преемственности в принадлежности к сословию мвами [119, с. 211]. Чиновные круги баганда так и не смогли аристократизироваться. На всех уровнях они постоянно пополнялись из рядовых общинников-бакопи, составляющих подавляющее большинство населения. Именно для них преимущественно были открыты каналы социальной мобильности. Остальным общественным группам, выделяемым самими баганда, — «принцам»-балангира, родовым старейшинам-батака и рабам-бадду — доступ в должностную иерархию был полностью или частично закрыт.
Казалось
бы, ближайшие родственники и прямые
потомки бугандских правителей — их
братья, сыновья и внуки — более чем
кто-либо имели основания считать
себя «детьми Кинту» и тем самым
претендовать на высокие посты в
государстве. Высший пост — кабаки
— действительно мог быть занят
только одним из них. Но этим и
кончалась возможность приобщения
балангира к участию в
государственном управлении. Кроме
избранного на престол, они не
только не допускались в административный
аппарат, но, за исключением двух-трех,
оставленных «про запас» и
сосланных подальше и под строгий
надзор, подлежали физическому
уничтожению [86, с. 86]. Как
свидетельствует О. Ричардc, в столь
радикальном решении проблемы
отстранения отпрысков царствующей
династии от политической власти
Буганда не знала себе равных во
всей Восточной и Южной Африке [200, с.
2]. Казнь «лишних» и потому
потенциально опасных претендентов
на престол была обязанностью и
условием вступления в должность
матери кабаки — намасоле (действительной
или классификационной) [207, с. 87]. Это
вполне надежное средство
избавления от беспокойств
междуцарствия было, однако, лишь конечным
звеном в цепи тщательно
продуманных превентивных мер: уже
в возрасте четырех-пяти лет сыновей
кабаки отдавали на воспитание,
каждого в отдельности, специальным
воспитателям, подчинявшимся
главному — касуджу [203, с. 188].
Балангира отправляли на поселение
в разные концы страны, чтобы они не
могли общаться между собой, и
содержали в изоляции от местных
властей: «Ни одному из „принцев"
не разрешалось встречаться или
гостить у вождей, дабы последние не
подвергались соблазну посадить
своего ставленника на престол» [203,
с. 188]. Между балангира и престолом
воздвигалась тройная линия
контроля, сходящаяся к касуджу:
помимо и автономно от воспитателей
ему были подотчетны еще два лица,
обязанные следить за поведением
балангира. Это были кивева, старший
сын кабаки, не имевший права
престолонаследия и выполнявший
наряду с ритуально-жреческими
также и функцию надсмотрщика над
остальными балангира, и
назначаемый из братьев
царствующего кабаки сабалангира («принц
принцев») — с той же самой функцией
[203, с. 188—189].
Альтернатива: казнь или престол — новшество в судьбах потенциальных наследников центральной власти. Традиция возводит первый случай докоронационного умерщвления «принцев» к правлению кабаки Семакокиро (вторая половина XVIII в.). Каков был статус балангира до этого времени, не слишком ясно. О. Ричардс не находит в источниках упоминаний о том, что они когда-либо входили в состав территориально-административного аппарата [200, с. 148]. По мнению же Кивануки, до Семакокиро в управлении у балангира были какие-то области, и Кагва это просто упустил из виду [148, с. 119—120].
Но в «Королях Буганды» Кагва мельком упоминает, что в правление кабаки Джуко (вероятно, в; конце XVII в.) «принцы могли возглавлять военные походы», и делает в этом месте сноску: «Лишь Семакокиро и его наследник Каманья в начале XIX в. систематически лишали принцев влияния и власти» [143, с. 49]. По предположению Р. Эша, в прежние времена сыновья кабаки имели высокие должности [85, с. 67]. Но по этим кратким упоминаниям трудно составить определенное представление о месте балангира в социальной структуре Буганды. Можно только предположить, что мнение О. Ричарде несколько ближе к истине, так как в основную структурную схему административного аппарата — от глав провинций до старейшин общин — балангира все-таки явно не входят. Вероятно, они выполняли какие-то сходные функции в своих резиденциях и, будучи организованными по подобию обычных родов, являли собой значительную корпоративную силу, потенциально опасную для центральной власти. Но к началу XIX в. устранение неудачливых кандидатов на престол свело к минимуму возможность успешной узурпации власти неугодным претендентом. Причем нормы наследования верховной власти и критерии определения нежелательных кандидатур показывают, что становление и упрочение деспотического режима не сопровождалось наследственным сосредоточием власти и богатства в руках его носителей. Напротив, делалось все, чтобы исключить такую возможность. «Бакунгу, — по словам Спика,— избирали кабакой того из балангира, который ко всему прочему был бы не очень высокого ранга со стороны матери, иначе это... убило бы их всех» [225, с. 254]. Такого же рода соображения выдвигают баганда, объясняя материнские тотемы балангира: опасением, что появится «один род, который станет сильнее, чем все остальные» [202, с. 47]. Если общество, во всех 30—40 родах знающее только отцовское право, для наследников престола делает исключение, разобщая их между родами матерей, чтобы избежать появления собственно «королевского» рода, и при этом еще намеренно избирает представителя рода «похуже», значит, это общество стремится перекрыть каналы наследственной передачи власти и богатства. С него довольно уже и тех даров, милостей и привилегий, которыми кабака успевал осыпать род матери за время своего правления. В следующее правление возвысившийся род должен уступить дорогу другому. Таким образом, и здесь социальная мобильность обращала вспять процессы социальной и имущественной дифференциации, не допуская перехода статуса кабаки из должностного в наследственно-частный, собственно монархический.
Балангира — социальная категория, порожденная государством. Тем легче и радикальнее она приводилась в насильственное соответствие с требованиями ужесточавшегося режима единовластного деспотического правления. Это особенно бросается в глаза пр:и сравнении судеб балангира с судьбами батака — родовой знати баганда. Поскольку в Буганде сохранялся род, необходим был и институт родовых старейшин. Однако включение его в государство сопровождалось оттеснением на второстепенные социальные роли и глубоким внутренним перерождением. В административной системе институт родовых вождей занял место низшего звена: батака, некогда наследственно возглавлявшие саза, к началу XIX в., за одним-двумя исключениями [203, с. 156], не поднимаются выше должности старейшины деревни, которую род считает местом первопоселения, своей исконной землей бутака.
Статус батака не был повсеместно одинаковым в Буганде. Как и следовало ожидать, по мере удаления от центра страны к ее окраинам — что одновременно было постепенным переходом от относительно развитых социально-политических форм к более архаичным — значение и роль батака возрастали. Здесь власть родового вождя была и весомее, и менее деформированной давлением государственных институтов.
Кстати, и назначаемые кабакой бакунгу и батонголе чувствовали себя на периферии несколько свободнее и независимее, чем в центре страны, и отчасти тоже приспосабливались к местным патриархальным порядкам. Так что происходили не только подтягивание периферии к уровню исторического центра Буганды, но в какой-то мере и обратный процесс приспособления насаждаемых центральной властью институтов, к местной основе, как правило отстававшей по темпам развития от древнего ядра страны.
По
той же логике исторического
компромисса взаимодействие
родовых и государственных
институтов в центре Буганды
происходило сложнее, нежели
простое затухание власти батака. С
одной стороны, как сообщает А.
Муквайя, здесь преобладали земли
кабаки и его семьи, вождей и
придворных, а родовые земли — резиденции
батака — ограничивались
отдельными деревушками или даже
вершинами холмов, где находились родовые
кладбища [171, с. 10]. Таким образом,
наблюдалось явное урезание
площади родовых земель, которое,
казалось бы, можно истолковать как
притеснение батака и упадок их
роли в общественной системе. Так
оно и было, разумеется, на самом
деле, но, с другой стороны, есть
данные, свидетельствующие, что этот
процесс шел сложнее, чем может
показаться с первого взгляда. По
данным Л. Фоллерса, в
Однако эти явления, как будто бы свидетельствующие о силе института рода и родовых старейшин, в значительной степени представляли качественно новые образования. Государство боролось с родом не только прямыми репрессиями и дискриминацией батака. Из помехи оно трансформировало его в опору, — поэтому и институт батака обретает «вторую жизнь», включаясь в аппарат государства. Этот новый, модифицированный род, а вместе с ним и батака стали важной дублирующей опорой бугандского государства; без батака, с одной только служилой знатью представить его невозможно. И именно батака центральных районов страны наиболее полно влились в государственную систему и стали проводниками изменений, приспособлявших род к государству.
Не говоря уж о непосредственном управлении государством территориально-административной деятельностью батака, последние не были вполне самостоятельны и в ведении внутриродовых дел (в них входили: контроль за соблюдением экзогамии и захоронением сородичей в родовых землях, функция жреца родовых богов, вопросы наследования в роде и родовой взаимопомощи). Так, допускавшееся обычным правом создание новых родовых центров на землях, где были похоронены три поколения сородичей, в конце концов запрещалось специальным распоряжением правителей, не желавших, чтобы множилось количество деревень-бутака с родовыми властями во главе [203, с. 134]. Гораздо надежнее было назначать старостами деревень людей, обязанных этим кабаке и не связанных родственными узами с местным населением. Появившаяся по умыслу или недосмотру батака новая родовая земля могла стоить им немилости верховного правителя, хотя и несколько скованного традиционными представлениями в выборе репрессивных мер по отношению к батака («он боялся мести духов родовых предков») [203, с. 134], но и имевшего уже этому идеологическое противопоставление («полагали, что он равен по власти богам») [207, с. 135]. Само избрание главы рода не обходилось без вмешательства кабаки. Как сабатака («старейшина старейшин» — титул, сохраненный за ним с догосударственных времен) кабака мог отвергнуть неугодного кандидата [203, с. 238].
Объясняя установившийся между ними и кабакой обычай избегания, батака вынуждены были так резюмировать свое положение: «Мы не пойдем больше к этому наглецу; мы все были важными людьми, ровней ему, и вот он делает нас простолюдинами» [221, с. 10]. Это заявление — свидетельство необратимых перемен в положении батака. Сомнительна, правда, претензия родовой знати на инициативу избегания: помимо естественного, с оттеснением ее на низшие звенья государственного аппарата, возрастания удаленности от двора и престола, расстояние между кабакой и дискриминируемыми слоями наследственной знати должно было особенно тщательно, ритуализированно охранять «сверху». Недаром политика бугандских правителей была в этом отношении сходной для батака и балангира. Тех и других старались держать подальше от столицы и престола. Как и балангира, батака был навязан еще один вид избегания: «Главам родов не разрешается встречаться друг с другом во избежание мятежей против кабаки» [175, с. 26]. В этом повелении кабаки проявляется прямое разрушение исходного принципа, первоначально положенного в основу становления бугандского государства — принципа объединения родов, скрепляющими звеньями которого поначалу служили именно родовые вожди, составлявшие совет. Лукико XIX в. с этим советом не имеет ничего общего: батака, за исключением одного-двух, в него не вводят и кабака в нем — давно уже не «первый среди равных». Произошло полное изменение и состава совета, и его полномочий.
В жалобе батака на обращение с ними как с простолюдинами, рядовыми общинниками видно не только нарочитое самоуничижение, гипербола, предполагающая подчеркнуть величие батака в прошлом, но и отчасти отражение действительного положения вещей. В самом деле, от общинников батака отстоят всего лишь на одну ступеньку, в то время как от «абаки их отделяет многоступенчатая иерархия, воздвигнутая, с их точки зрения, самоуправством правителей, позволительным разве что по отношению к простолюдинам. Ибо исконной привилегией батака была неприкосновенность их статуса и личности, на чем они продолжали упорно настаивать, несмотря на злоупотребления властей. Впрочем, теоретически эту неприкосновенность никто и не оспаривал, но на деле ею так часто пренебрегали, что она потеряла значение надежной правовой гарантии. Правда, в одном, но и самом важном общественная реальность была подкреплена официально провозглашенным принципом: в отличие от западноевропейской средневековой юридической традиции, ставившей (при всех злоупотреблениях судей и властей) закон выше государя, бугандские правители сами считались исходным правовым началом («законом для самих себя»), руководящим обществом. Воля кабаки была превыше частных различий между его подданными. И в этом отношении батака отчасти были правы, уподобляя себя бакопи. Но все-таки положение родовых вождей отличалось несколько большей стабильностью по сравнению со статусом рядовых общинников и набиравшейся из их числа чиновной знати. Вряд ли можно согласиться с Киванукой, считающим непринципиальной границу между служилой и родовой знатью на том основании, что и батака в известном смысле также назначались абакой, без санкции которого они не могли стать старейшинами рода, и мутака мог лишиться должности так же легко, как мутонтоле или наместник провинции [148, с. 121]. Последнее утверждение содержит явный элемент преувеличения, поскольку старейшины рода, как правило, оставалиеь таковыми пожизненно. И в целом при несомненном процессе конвергенции статусов служилой и родовой знати (шедшим параллельно с оттеснением родовой знати на нижние ступени иерархии) ставить ту и другую на одну доску все-таки нельзя. Одним из сохранившихся между ними различий была большая стабильность положения батака, обеспеченная относительной сохранностью родовых связей. Мутака всегда чувствовал за собой поддержку рода, в то время как представитель служилой знати выступал, говоря условно, один на один с «абакой. Его социальное окружение — покровители, зависимые люди — непременное условие служилой карьеры, но оно являлось зыбкой опорой, которую в любой момент можно было потерять.
Эта относительная стабильность, с одной стороны, и невозможность подняться в чиновные верхи общества — с другой, очерчивали те границы, которые отделяли батака от других категорий мвами и от простолюдинов. Ни ниже, ни выше — таков был результат достигнутой веками компромиссной инкорпорации родовой знати в государстве.
Очевидно, конфликт между родом и государством не получил таким путем полного разрешения. Совершенно прав Л. Фоллерс, полагающий, что одновременное удовлетворительное выполнение социальных ролей главы рода и представителя государственной администрации невозможно, так как при всей существующей в роде иерархии в фокусе его социальных связей всегда находилось «корпоративное единство», а не отношения господства-подчинения [116, с. 16]. В той же мере, в какой старейшины рода, совмещающие в одном лице также и старейшину деревни-киало, становятся по преимуществу проводниками интересов господствующего сословия, рядовые общинники — сородичи или соседи — ставятся на службу этим интересам.
Помимо батака и балангира, частично или полностью отстраненных от участия в процессах социальной мобильности, допуск в чиновные слои мвами был закрыт и для рабов-бадду [160, с. 33]. Переход бадду в статус свободных общинников был невозможен.
Бадду (ед. ч. — мудду), букв, «люди Будду», области, откуда, вероятно, впервые начался приток пленных в Буганду и позднее включенной в состав государства. Со временем понятие «бадду» приобрело социальный смысл « распространилось и а всех рабов-чужеземцев, хотя их собственное этническое происхождение при этом обычно не забывалось. В Буганде в отличие, например, от Мали или государств Куба и Луба не было рабской гвардии или иных категорий привилегированного рабского состояния [33, с. 62; 37, с. 15]. Причем социальная принадлежность бадду и все связанные с ней виды дискриминации воспринимались как производное от чужеродного этнического происхождения: только «дети Кинту», по представлению баганда, наделены чуть ли не врожденной способностью к организационно-управленческой деятельности. Но кто такие баганда? Рожденный от пленницы и свободного муганда (а в Буганде рабство по преимуществу было «женским») церемониально инкорпорировался в род отца и становился муганда [203, с. 81]. Правда, его могли несколько ущемить при разделе наследства, особенно если были другие, свободнорожденные дети [203, с. 14}. И опасность быть схваченным на дороге в очередную кампанию человеческих жертвоприношений была больше, так как род заведомо не смог бы отстоять своего непотомственного члена[7]. Однако через два-три поколения и эти различия стирались. Если же учесть, что к началу XIX в. и в семье рядового общинника могла быть жена-рабыня[8], а у мвами их были десятки и сотни, не приходится говорить о чистоте крови «детей Кинту». И хотя она принималась во внимание, когда вставал вопрос о карьере того или иного сородича, поскольку старейшина рода был обязан восстановить его генеалогию и рекомендовать мукопи только в том случае, если она восходила к прапредку рода [160,с. 33], вряд ли при давней, многовековой традиции включения потомков пленниц в род отца долго и точно сохранялась память о примесных элементах в роде. Такой пуризм при учете еще и гибели баганда в войнах свел бы категорию полноправных подданных к довольно узкому кругу, а этого не случилось. В Буганде, как и повсюду, генеалогии в случае надобности подтасовывались.
Хуже приходилось бадду по отцовской линии, т. е. потомкам захваченных в плен и выросших в Буганде мальчиков. Взрослых мужчин баганда предпочитали в плен не брать, а если и брали, то только перед празднествами и церемониями, связанными с человеческими жертвоприношениями. Если верить традиции, массовые жертвоприношения пленных совершались еще в правление четвертого кабаки Тембо [143, с. 19]. Вплоть до середины XIX в. масштабы человеческих жертвоприношений в Буганде возрастали. Нельзя не согласиться с И. Л. Андреевым, что «ритуальные убийства пленных имели целью, с одной стороны, запугивание близлежащих зависимых племен-союзников и данников; с другой, поддержание престижа воинского ремесла» [5, с. 27]. Однако помимо политических, а также религиозных и прочих факторов столь щедрый размах жертвоприношений объясняется и экономической неприменимостью рабства. Недаром во второй половине XIX в., когда сбыт рабов приобрел в Буганде характер широко организованного предприятия, кабака Мутеса «перестал посылать людей на жертвенники, а вместо этого слал тысячи рабов на побережье» [203, с. 229].
Определенный контингент рабов мужских профессий (ремесленники, музыканты) содержался при дворе кабаки и в резиденциях наместников. Однако в основных сферах применения рабочей силы (земледелие, общественные работы) не было необходимости или возможности использования подневольного труда пленников-мужчин. Мальчики же, захваченные в плен вместе с матерями, входили в семью своего хозяина на правах младших членов [203, с. 15]. Их обязанности были такими же, как у остальных членов семьи, так что «со стороны не всегда можно было понять, кто в доме раб» [160, с. 32]. По-видимому, бадду женились на рабынях, во всяком случае, в сравнении с многократно повторяющимися в источниках сообщениями о женитьбе свободного на рабыне мы не встретим ни одного сколько-нибудь ясного свидетельства обратного соотношения в браке. Брачной паре бадду выделялся отдельный участок, на котором она вела самостоятельное хозяйство [160, с. 33]. Причисляя себя к роду хозяина, почитая его тотемы, бадду, однако, по-настоящему в род не инкорпорировались. Здесь не приходится ожидать постепенного сглаживания статуса и забвения происхождения, как у потомков рабынь и свободных. Род не признавал за бадду прав субъектов наследования, напротив, они сами были его объектом. Бадду были лишены и права бакопи на свободу перехода, они прикреплялись к своему господину и должны были следовать за ним, если он переселялся в другое место. На бадду не распространялись все виды родовой взаимопомощи, они и формально не ограждались от произвола хозяев. Семейные узы бадду в любой момент могли быть расторгнуты, если хозяин находил нужным отдать мудду или кого-нибудь из его семьи в счет долга, штрафа или в дар.
Одним словом, по ряду признаков статус бадду как объекта собственности, подлежащей наследованию, дарению и купле-продаже, сопоставим с рабским. Однако в Буганде бадду наделяли землей, за что они были обязаны «снабжать своего хозяина через определенные промежутки времени необходимыми ему для потребления продуктами» [159, т. 2, с. 172], и, таким образом, если не юридически, то фактически бадду оказывались в положении зависимых владельцев выделенных им усадьбы, дома, орудий и т. д. Хозяйство семьи мудду становилось подчиненной производственной единицей, включенной в хозяйство мвами. Ее связи замыкались в этих пределах, и в качестве равноправной самостоятельной ячейки общины она не выступала. Это видно прежде всего из того, что семьи бадду не подлежали традиционным нормам обложения.
Вероятно, система фиска, построенная на подушном (глав семей) принципе учета налогоплательщиков, таковыми бадду не считала. Не налагались никакие дополнительные обязательства и на владельцев бадду. Нет данных и о том, что бадду привлекались для общественных работ или несения военной службы. Между тем общественные работы, и в первую очередь прокладка дорог, постоянно требовали большого количества рабочих рук. И единственное объяснение отсутствия использования рабского труда в строительстве коммуникаций может заключаться лишь в отсутствии необходимого в таких случаях эффективного аппарата принуждения.
Ни в одном из основных видов мужского труда баганда (общественных работах, военном деле, организаторско-управленческой деятельности) бадду, таким образом, не использовались. Функция «мужского» рабства в Буганде сводилась к незначительному подспорью в домашнем хозяйстве, сфере обслуживания в хозяйствах мвами и в ремеслах. В условиях изолированного от внешнего мира Межозерья это и не могло быть иначе. Производственная деятельность оставалась ориентированной в основном на потребительские, а не товарные цели, не требовавшие усиленного выколачивания из подневольных работников прибавочного продукта. Лишь с приобщением к арабской работорговле в Буганде появляется стимул к захвату большого числа пленных, а раб приобретает товарную ценность. Однако появившиеся было попытки частной организации обмена рабов и слоновой кости на ткани и раковины каури, что в случае успеха неизбежно привело бы к накоплению частных же богатств, жестоко пресекались правителями Буганды, традиционно занимавшими позицию монопольных распорядителей общественного продукта. Прочность этой традиции, во всяком случае поначалу, выдержала натиск новых товарных связей. Поэтому вызванная этими связями активизация процессов социальной и имущественной дифференциации (мвами во что бы то ни стало стремились заполучить дефицитный и высокопрестижный привозной товар) не изменила обычного русла развития социальных противоречий. Перераспределение по-прежнему строилось на основе монопольного права главы государства в любой момент наделить подданного материальными ценностями или отнять их у него. Перехода к частноправовому накоплению богатств так и не произошло, и в этом смысле конец XVIII — начало XIX в. можно считать органическим продолжением предшествующих тенденций социально-экономического развития.
Возвращаясь к вопросу о рабстве, необходимо сказать, что в отличие от «мужского» «женское» рабство играло важную роль в общественной структуре баганда. Богатство индивида определялось двумя основными показателями — количеством окота и женщин. Эти два вида материально-престижных ценностей считались высшими, и именно их перераспределением (через налоги, дары, штрафы, конфискации) сопровождались все значительные акты социального поощрения или наказания. Приобретение жены-пленницы давало хозяйству дополнительную рабочую силу и возможность его расширения, так как каждой женщине в семье предоставлялся отдельный участок для обработки. Это облегчало выплату налогов, т. е. снижало степень эксплуатации общинников, имевших помимо непременной жены-соплеменницы еще и жену или жен-пленниц, а также давало возможность производить большие излишки продукции и направлять их в каналы обмена и перераспределения, что, естественно, укрепляло престиж и имущественное положение индивида.
Итак, в общественной структуре Буганды первой половины XIX в. ясно видны несколько различных сословных групп. В господствующих сословиях самой активной и многочисленной силой являлись все категории служилых людей, оттеснивших родовую знать на нижние ступени иерархии власти. Уцелевшие потомки кабак — балангира—представляли своего рода полюс почетной социальной инертности. Почитаемые как ближайшие родственники облеченного высшей властью, они были обречены на полное социальное бездействие.
Не менее четко прослеживается инертный и активный характер сословий в социальных низах бугандского общества. Первый предопределен для бадду: их статус (по мужской линии) наследственно закреплен, но малочисленность бадду и маловесомость их социально-экономической роли, по существу, позволяют рассматривать эту группу как незначительный элемент социальной структуры баганда.
Другое дело — бакопи. Чем больше затухала, подавлялась репрессиями кабак и самой логикой развития Буганды социальная активность родовой знати, тем больше возрастала погоня рядовых общинников за чинами и титулами. А то, что этот процесс происходил на фоне усиления эксплуатации тех же бакопи, служило лишь дополнительным стимулом, разжигающим их энергию. Таким образом, основные общественные противоречия в Буганде начала XIX в. определялись противостоянием двух социально активных групп — служилых мвами и рядовых общинников, связанных отношениями господства-подчинения. Именно в установившихся между ними связях нужно искать присущую бугандскому обществу природу эксплуататорских отношений. Однако при всей очевидности этой основной, «вертикальной» направленности общественных противоречий приходится учитывать еще и «горизонтальные» линии конкуренции — между равными статусами. Отсутствие наследственной закрепленности социальной принадлежности подавляющего большинства подданных Буганды придавало общественным конфликтам характер всеобщности. В известном смысле это была «война всех со всеми».
Для понимания причин и механизмов, вызвавших крестообразное наложение «горизонтальных» и «вертикальных» противоречий в обществе, следует, по-видимому, посмотреть, что представляла собой каждая из двух вертикально соподчиненных групп. Начнем с бакопи. Пока мукопи оставался рядовым общинником, за ним признавались два неоспоримых права: право на кибанья (земельный участок) и право сенгука (свободы перехода). Участок отводился в пределах деревенской общины-киало с согласия старейшины, площадь кибанья определялась возможностями и потребностями обработки. Несмотря на относительно высокую плотность населения, Буганда никогда не знала земельного голода. В источниках совершенно нет упоминаний о земельных тяжбах. В условиях повсеместного для Тропической Африки отсутствия товарной ценности земли и преобладания в земледелии баганда многолетней, высокоурожайной культуры банана, не требовавшей обработки больших площадей, малоземелье возникнуть не могло. Не имел практического значения для поземельных прав бакопи родовой или чисто территориальный статус киало: хотя в первом случае наделение землей формально происходило на основе родового права, а во втором — общебугандского, государственного, олицетворением и высшей инстанцией которого считался кабака, в обоих случаях дело решалась на уровне старейшины киало, а обязанности мукопи были идентичны. Обязанности, но не возможности реализации социальных и имущественных притязаний. По мере того как род терял функции основного регулятора общественных отношений и все менее надежной для сородичей становилась его защита, усиливалась тенденция к поискам дополнительной социальной опоры. Бакопи предпочитали жить не на своих родовых землях: «Не сюда приходил молодой муганда, чтобы поселиться после женитьбы... он не жил даже рядом со своим отцом» [160, с. 154].
Преобладающий тип расселения обнаруживал тяготение к дислокальности рода. Это и понятно: в случае необходимости род и так мог оказать посильную защиту, в то время как территориально-соседские связи, которые б Буганде занимали ведущее положение, требовали повседневных непосредственных контактов. Стремление мукопи войти в состав общины, возглавляемой не своим сородичем, находило в любом омвами встречную готовность принять под свою опеку как можно больше подданных: обилие земли в Буганде оборачивалось нехваткой зависимого населения. При подворном принципе налогообложения получаемая омвами доля была прямо пропорциональна количеству налогоплательщиков в его провинции или округе. Поэтому местные власти конкурировали в привлечении на свои земли общинников, пускаясь в щедроты пиров и даров, что отчасти сглаживало имущественное неравенство, снижало степень эксплуатации и вызывало частую, хозяйственно неоправданную смену места жительства бакопи, которые нередко в погоне за популярными и щедрыми вождями бросали налаженное хозяйство своей усадьбы.
Не испытывая нужды в коллективной производственной деятельности, бугандская община как земледельческое объединение отличалась структурной рыхлостью, предполагающей, казалось бы, возможность распада общинных связей. В составе общины самостоятельной производственной единицей выступала обособленная («нуклеарная»), а нередко полигамная семья. Но это в том, что касалось земледелия и домашних ремесел. Впрочем, лучшими ремесленниками в Буганде были представители других этнических групп (бадду, баньоро), включенных в состав государства областей с богатыми выходами руд и давними традициями ремесленного производства. Они платили налог своими изделиями и изготовляли их на продажу. И хотя среди баганда тоже были профессиональные ремесленники, а крестьянское хозяйство во многом удовлетворяло свои нужды домашними ремеслами, не ремесло (и, как мы уже убедились, не земледелие) было основным занятием «истинного» муганда. Наконец, и не скотоводство. Малочисленный крестьянский скот пасли подростки, стада знати и кабаки — скотоводы-бахима, вместе со скотом и пастбищами оказавшиеся подданными Буганды и либо утратившие право собственности на свой же скот, либо платившие дань. За вычетом времени, необходимого для подсобных занятий (охота, рыболовство) и домашних ремесел, бакопи были заняты главным образом на общественных работах и участвовали в войнах: «Первая обязанность мукопи — следовать за своим вождем на войну» [86, с. 95].
Именно в общественных работах и военных походах община использовалась в качестве элементарной организационной ячейки общества, что предотвращало ее распад и, напротив, содействовало сплочению. «Общинная организация, — пишет К. Ригли, — проявляла себя только на службе государству и правящему классу, т. е. участвуя в войне, прокладке дорог и строительстве домов знати» [251, с. 22].
Хотя процессы социального размежевания деформировали род и приобщили его отчасти к механизмам приобретения богатства и власти, он не лишился вовсе корпоративного начала. Участвуя в создании отношений эксплуатации, род через каналы перераспределения и взаимопомощи в значительной степени ее же и гасил. Вытесняющая род соседская община в большей степени была ориентирована на отрицание равенства. Это отрицание происходило на двух уровнях — коллективном и индивидуальном. Как коллектив община являлась одновременно и эксплуататором и эксплуатируемым: первым — получая долю от грабежей и даней с соседних народов, вторым — по отношению к собственной буган-дийакой знати. Обычно подчеркивают, что вынесение эксплуатации вовне затушевывает и отчасти нивелирует антагонизмы внутри государства, но при этом иногда от внимания ускользает другое: частичное перераепределение награбленного в пользу социальных низов не только не мешает, но потворствует раздающему традиции равенства действию, какое грабежи и дани, как и любой другой вид эксплуатации, оказывают на общество в целом. В Буганде это особенно видно, поскольку не только общине, как таковой, был приоткрыт доступ к обогащению, но и каждый входивший в нее индивид жил надеждой на личную карьеру, которая вырвала бы его из плена повинностей рядового общинника и обеспечила господство не только над чужаками, но и над своими соплеменниками. Победа центральной власти в отстаивании принципа ненаследственного, сменяемого состава служилых мвами означала, что категория бако-пи превращалась в социальный резерв, из которого милостью кабаки в любой момент можно было вознестись на самые верхи бугандского общества. Ведь две основные обязанности бакопи — участие в войнах и общественных работах — это и два канала социальной мобильности.
В генезисе традиционных повинностей бакопи, с одной стороны, и прерогативах мвами — с другой, с очевидностью распознается общеисторическая закономерность процесса классообразования, заключавшаяся в развитии общественного разделения труда между производством и управлением, когда, как отмечал в «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс, «все возрастающая самостоятельность общественных функций по отношению к обществу могла со временем вырасти в господство над обществом» [3, с. 184].
Решая возрос об определении характера бугандийского общества к моменту первого знакомства с ним европейцев, необходимо иметь в виду два обстоятельства: классообразование здесь находилось еще на очень ранних этапах и сам этот процесс отличала ярко выраженная специфика.
Во-первых, как уже не раз отмечалось, обособление управленческой функции не сопровождалось обособлением замкнутого управленческого сословия. Напротив, чем более развитой становилась публичная власть и углублялся разрыв в социальном и имущественном положении мвами и бакопи, тем последовательнее и регулярнее происходили периодическое пополнение и смена служилых верхов за счет введения в государственный аппарат вчерашних рядовых общинников. Во-вторых, на всех уровнях управленческий аппарат сохранял полифункциональность: все представители территориально-административной власти — от кабаки до старейшины деревенской общины — в равной степени были обязаны сочетать в своей деятельности функции военачальников и администраторов. И, наконец, то и другое — сменяемость состава управленческих кругов и полифункциональность их организационной деятельности — выстраивались в систему централизованного контроля, которая предупреждала многообразными и всесторонними средствами возможность консолидации противостоящих ей сил. Перечислим с некоторыми необходимыми комментариями хотя бы самые важные из этих средств:
1. Начало правления каждого кабаки сопровождалось почти полной сменой штата высшей должностной иерархии. Старый состав бакунгу продолжал пожизненно «служить» погребенному кабаке в отведенном томуу весьма скромном «заупокойном» дворе [203, с. 196, 204].
2. Стоящим ближе других к кабаке соправительницам — матери (намасоле), жене-сестре (лубуга) и двум высшим советникам — катикиро и кимбугве — предоставлялись соответствующие их рангу административные области, небольшими участками разбросанные по всей стране [203, с. 233, 235]. Это облегчало контроль над деятельностью провинциальных наместников, но в то же время распыляло их собственную власть.
3. Наместники провинций (бакунгу) значительную часть времени должны были проводить в столице и ежедневно являться на совет (луиико). Двух отсутствий подряд без основательных на то причин и разрешения кабаки было достаточно, чтобы он заподозрил мвами в нелояльности. В провинции на время отсутствия ее главы оставался заместитель — мусигире, которого кабака в любой момент мог вызвать в столицу вместо отсылаемого бакунгу [203, с. 237].
4. Назначение на любую должность, вплоть до старейшины деревни, требовало личного представления кандидата кабаке и скреплялось клятвой безусловного повиновения без каких-либо ответных гарантий охраны привилегий, имущества и личности претендента.
5. Ответственность за выполнение своих функций все мвами несли прежде всего перед кабакой, а не непосредственно перед вышестоящим по рангу [203, с. 240]. Такая система подотчетности порождала атмосферу доносов, интриг, наушничества в среде служилой знати.
6. Резиденции наместников в провинциях строились, как правило, неподалеку от ближайшей к столице границы саза [203, с. 248]. Подчиненные им административные центры по мере убывания их значения веером расходились по периферии, и, таким образом, достигалась своего рода географическая «стянутость» провинциального управления к центру, обеспечивающая и притяжение к центру экономико-политических связей.
7. Состояние дорог позволяло гонцам кабаки достичь самых отдаленных окраин страны за несколько дней [127, с. 209].
8. Происходила постоянная перетасовка местных властей: мвами редко задерживались подолгу на одной должности и в одном месте, что, естественно, препятствовало установлению прочных контактов с населением.
9. При переводах ивами не полагалось никакой компенсации за брошенное хозяйство и никакой помощи в его устройстве на новом месте [203, с. 14].
10. Обор налога мвами не доверялся. Этим занимались государственные сборщики [203, с. 244], а территориально-административные власти лишь подготавливали необходимые данные о численности налогоплательщиков и помогали сборщикам в приеме податей.
11. За верноподданническими настроениями мвами следил своего рода специальный орган во главе с сабаганзи — дядей кабаки по матери. Его агенты рассылались по всей стране и отчитывались в услышанном и увиденном перед кабакой [144, с. 71—72].
Как видно из перечисленных пунктов и предшествующего изложения, при такой текучести состава сословий никаких «горизонтальных» корпоративных связей ожидать не приходится. Именно эта текучесть и питала централизацию и порождалась ею. На функциональную связь социальной мобильности с централизацией в традиционных обществах Тропической Африки обращали внимание многие исследователи. Например, в известной классификации африканских «королевств», разработанной Я. Вансиной, отмечается, что принцип делегирования власти является показателем возможной степени централизации [243, с. 332]. Именно в тех случаях, когда все территориальные власти назначаются правителем временно и безотносительно к кровнородственным связям, чаще всего наблюдается и высшая степень централизации (третий из пяти выделенных Вансиной типов) [243, с. 324, 332].
Буганда как нельзя лучше иллюстрирует действие этой закономерности, следствиями которой были непрочность социального статуса любого члена общества и общая незащищенность подданных перед государством: неявка в лукико, поражение в битве, признаки излишнего, с точки зрения кабаки, богатства и популярности, доносы, интриги, наконец, малейшее нарушение придворного этикета — все могло послужить поводом для понижения в должности, конфискации имущества, штрафов, наказаний и казней, подвергающих публичному глумлению недавно могущественного омвами. Атмосфера острой конкуренции, нестабильность положения вынуждали индивида воспринимать свой социальный статус как временное состояние, надежда на улучшение которого или страх потерять привилегии отвращали от союза с людьми, объективно занимающими в данный момент ту же ступеньку социальной лестницы. Преимущественное развитие «вертикальных» связей господства-подчинения в ущерб «горизонтальным» отношениям равенства внутри сословных групп отмечают многие исследователи общества баганда [120, с. 70—71; 93, с. 264; 189, с. 131—132]. Действительно, трудно вообразить более склонного к самоуправству и одновременно более беззащитного и холопствующего, чем подданный каба-ии, будь то представитель служилой элиты, деревенский старейшина или даже рядовой общинник. Последний выступал, разумеется, чаще всего во второй роли, но при случае — по отношению к рабу или при выполнении какого-либо поручения, связанного с предоставлением ему малейшей толики власти, — и в первой.
Высокий уровень социальной мобильности в условиях неограждеиности от произвола порождал противоречивые черты в социально-психологической сфере. С одной стороны, отмечаются «редкая способность баганда к организации и управлению» [147, с. 31], «чувство национального превосходства» [93, с. 267], предприимчивость [240, т. 1, с. 86], с другой — постоянное попрание чувства собственного достоинства, лицемерие, настороженность, недоверие[9]. «Опущенные глаза, преклоненные колени... Дотронуться до трона или одежд короля — верная смерть. Благодарность кабаке выражается, простершись ниц» [225, с. 256]. Всякая независимость мышления и действия подавлялись [240, с. 86]. По мнению Карлстона, баганда отличались «склонностью к склоке», что он считает «симптоматичным для общества с высоким уровнем внутренней напряженности» [93, с. 264].
В чем же искать первопричину как бы круговой, замыкающейся на самое себя взаимосвязи социальной мобильности и централизации, а также сопутствующих им явлений? Где исходное звено, породившее комплекс?
На наш взгляд, ближе всего подошел к решению этой проблемы Л. Фоллерс [117]. Свой анализ он начинает с констатации уже достаточно хорошо известного факта: существования при определенных условиях взаимозависимости между деспотической централизованной формой политического правления и высоким уровнем социальной мобильности. Далее, оба элемента этой зависимости Фоллерс находит связанными обратной пропорциональностью с наличием в обществе «статусных групп». Последнее понятие восходит к М. Веберу, который включает в него не толыко объективные характеристики класса, но еще и субъективный критерий сознания принадлежности к данной группе, обладания общей системой ценностей, правами и обязанностями, в совокупности представляющими то, что Фоллерс вслед за Вебером называет «статус-культурой».
Нельзя не согласиться с Фоллерсом, что социальная мобильность однозначно вовсе не исключает существования «статусных групп», напротив, она вполне с ними совместима при условии контроля со стороны этих последних; и разрушение «статусной группы» (или препятствие ее формированию) наблюдается только тогда, когда механизм регулирования социальной мобильности ей неподвластен. Этот вывод представляется нам крайне важным. Но он не дает объяснения само собой напрашивающемуся вопросу: каковы же факторы, определяющие, изнутри или извне координируется состав объективно «горизонтальных» слоев общества и соответственно есть ли и каково участие в этом процессе непосредственно государства, т. е. в данном случае «внешней» силы?
Между тем одно очевидное обстоятельство подводит, как нам кажется, к порогу желаемого объяснения. Несомненным показателем того, что Фоллерс называет регулированием социальной мобильности «изнутри», должно являться такое положение, когда группа вольна принимать новых членов, отвергать неугодных и удерживать в своем составе достаточно стабильный контингент, без которого о создании особой «Статусной культуры» не может быть и речи. Тем самым в итоге вопрос упирается в право наследственной передачи социального статуса, а право наследования, в свою очередь, — элемент и показатель отношений собственности. Следовательно, чтобы понять, какова была основа описанных отношений господства-подчинения, необходимо обратиться к анализу отношений собственности.
Сложившееся в Буганде представление о кабаке как о верховном собственнике земли («вся земля принадлежала королю, и он один мог наделять ею вождя или частное лицо» [203, с. 238]) отражало лишь часть более широкого представления о принадлежности кабаке вообще всего сущего в стране. Генетически оно вело свое начало от обобщенного на племенном уровне понятия родовой собственности, и его следует, по-видимому, воспринимать не в качестве выражения реального экономического содержания собственнических претензий кабаки, а как несомненно принадлежащую ему высшую публичную власть.
Древнейшие традиции баганда связывали землю сакральными узами с похороненными в ней и населяющими ее сородичами, одному из которых, старейшине, доверялось регулирование землепользования в пределах родовой общины и отношений с соседствующими родами. С объединением родов внутриобщинные функции старейшин-батака остались неприкосновенными, в то время как функции арбитра в отношениях между родами и охрана общих интересов складывающегося союза родов от посягательств не входящих в него чужаков вверялись сабатака («старейшине старейшин»). Таким образом, обобщенная на племенном уровне концепция родовой собственности дополнялась верховной надродовой связью: подобно тому как батака считались хранителями земли и обычаев родовых предков, сабатака (он же кабака) становился владетелем земель и вершителем судеб всех объединенных родов.
По мере развития соседских связей в общине и сложения надобщинных государственных институтов осмысление поземельных отношений в понятиях родовой и племенной собственности становилось недостаточным. Однако при сопоставлении прав и обязанностей рядового общинника, живущего в своей родной обутака, в обутака другого рода или в чисто территориальной общине, не закрепленной ни за одним из родов и непосредственно подчиненной верховной власти кабаки, обнаруживается, что никаких существенных различий между ними нет. Единственное их отличие — право наследственного владения обутака не имело реальной ценности в условиях обилия свободных земель и неразвитости товарно-денежных отношений. Каждый общинник мог с ведома старейшины (и, как мы убедились, к его удовольствию) беспрепятственно занять любой свободный участок, который была способна обработать его семья. До тех пор, пока земля хранила следы обработки, живущий на ней считался полноправным членом общины. Труд на земле и владение ею выступали еще нерасчлененно. В понимании батаида, омвами любого ранга «распоряжается не землей, а людьми» [160, с. 158]. В самом деле, прерогативы омвами — это лишь временно предоставленные ему военно-административные полномочия, а не земельное владение. Вся эксплуататорская верхушка Буганды представляла собой не что иное, как иерархию служащих государственного аппарата. Вне этой категории мы не найдем отличной от нее экономически господствующей группы. Таким образом, как объект труда земля находилась в ведении общины, но такой общины, которая была низшей административной единицей государства, олицетворенного, в сознании баганда, персоной кабаки.
Итак, все представители эксплуататорского слоя — это служащие государственного аппарата. Все виды социального и имущественного отличия не только проистекали из должности, но и оставались чисто должностными, служебными. Стоило омвами потерять должность или понизиться в ней (а это случалось часто), как оказывалось, что его «собственные» богатства — на самом деле казенные и подлежат конфискации.
Напрашивается вывод, что в условиях Буганды выделение управленческой функции, т. е. генетически первоначальный признак классообразования (появление групп, различающихся по месту в системе общественного производства), очевидно уже сопряженный также и со вторым из известных критериев класса — перераспределением общественного продукта в пользу социальных верхов, тем не менее не подкреплен сколько-нибудь автономной вещной связью. Процесс классообразования не завершен еще переносом предпосылок эксплуатации из публично-правовой, следующей из общественного разделения труда, в собственно вещную, частнособственническую сферу, только и способную уничтожить зависимость имущественного положения индивида от причастности его к политическому контролю.
Это, разумеется, не означает, что генезис и пятиве-ковая история государства баганда прошли бесследно для дистанции, отделяющей господство коллективных форм собственности от господства частных. Как и всякое развитие эксплуатации, развитие антагонистических отношений в Буганде приближало общество к возможностям формирования частной собственности. Но только тогда, когда этот процесс достигает своего генетически последнего звена—присвоения материальных условий производства и это звено из следствия эксплуататорских отношений превращается, хотя бы отчасти, в их предпосылку, можно, как нам кажется, говорить не только о движении к частной собственности, но и о самом ее существовании. Степень приближенности общества к этому кардинальной важности моменту с наглядной симптоматичностью проявляется, с одной стороны, в полноте непосредственно-политического, внеэкономического давления, как правило по мере развития частной собственности идущего на спад, что только естественно: коль скоро возникают чисто экономические рычаги принуждения, ослабляется нужда во внеэкономических. С другой же стороны, присвоение условий производства, бессмысленное без наследственной его передачи и потому непременно включающее наследственные права, ослабляет, отодвигает на второй план, на место следствия первоначально решающий и генетически самый ранний фактор эксплуатации — принадлежность к управленческим кругам. Действительно, в Буганде налицо явное присвоение воли непосредственных производителей — внеэкономическое принуждение, и, заметим, в предельно откровенных грубо насильственных формах, близких, по-видимому, к «поголовному рабству».
Та<ким образом, и внеэкономический характер принуждения, и зависимость социальной принадлежности индивида от места, занимаемого им в системе общественного разделения труда, были выражены в Буганде с предельной полнотой. Не предполагает ли столь веское значение этих двух факторов эксплуатации, что именно они лежали в ее основе и определяли ее способ, а не частнособственнические (поземельные) отношения, каковые, будь они сколько-нибудь значительно развиты, неизбежно снизили бы интенсивность их воздействия, поскольку частная собственность порождает антиподный, экономический способ эксплуатации, постепенно, по мере ее развития вытесняющий внеэкономический, и в ходе этого процесса утверждается в качестве основной предпосылки эксплуатации, лишая этой роли критерий общественного разделения труда, который сам становится производным от присвоения условий производства. До такой ситуации Буганде было далеко. Условия ее развития были таковы, что движение к частной собственности «застряло» на внеэкономической стадии.
Благодаря благоприятному экологическому фону возможность получения прибавочного продукта в Буганде появилась на низком уровне развития производительных сил, к тому же крайне мало изменявшемся в силу ограниченности потребностей общества (в чем оказалось двойственное, поначалу стимулирующее, но в конце концов тормозящее влияние экологии) и отсутствия товарного стимула производства в дальнепериферийных, изолированных от контактов с мировыми цивилизациями условиях Межозерья. Мотыжное земледелие баганда, основой которого была многолетняя, высокоурожайная, не требующая обработки больших площадей культура банана, оставляло большой фонд свободных земель, изоляцией Межозерья и нетоварностью производства обреченных на сугубо потребительскую ценность. Ожидать, что в этих условиях объектом частной собственности окажется земля, не приходится.
Сущность подобного типа отношений собственности охарактеризована в известном высказывании К. Маркса: «Если не частные земельные собственники, а государство непосредственно противостоит непосредственным производителям, как это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают, или, вернее, тогда не существует никакого налога, который был бы отличен от этой формы земельной ренты. При таких обстоятельствах отношение зависимости может иметь политически и экономически не более суровую форму, чем та, которая характеризует положение всех подданных по отношению к этому государству. Государство здесь — верховный собственник земли. Суверенитет здесь — земельная собственность, сконцентрированная в национальном масштабе. Но зато в этом случае не существует частной земельной собственности, хотя существует как частное, так и общинное владение и пользование землей» [1, с. 354].
Именно эта собственность-суверенитет, отсутствие частного присвоения материальных условий производства, а значит, и полная невозможность вычленения экономической формы принуждения предполагали безраздельное, полное господство внеэкономических форм и непосредственную зависимость общественного положения индивида от причастности к управлению государством. А так как эта причастность могла быть только временной и ненаследственной, а отсюда и состав формирующихся классов был нестабильным, исключались и стимулы, способные вызвать появление «горизонтальных» связей внутри каждого складывающегося класса или сословия для защиты его коллективных интересов. В этих условиях монополизация государством общественных функций первостепенной важности неминуемо означала усиление деспотических форм политического господства: если государственная власть «возникает... в период, когда община обрабатывает землю еще сообща или, по крайней мере, передает только во временное пользование отдельным семьям, где, таким образом, еще не образовалась частная собственность на землю, — там государственная власть появляется в форме деспотизма» [2, с. 496-497].
Итак, создание специализированного аппарата, обеспечивающего социальные и имущественные привилегии для входящих в его состав, означает, что общество переступило грань государственности. В потенции монополизация власти предполагает постепенное движение к закреплению отношений господства-подчинения в частной собственности, но реализация этой возможности зависит от многих факторов и может быть очень отдаленной во времени. В Буганде она по ряду причин, из которых прежде всего следует назвать потребительское направление экономики, так и не состоялась.
Как и повсюду, основной экономической предпосылкой процесса классообразования в Буганде было наличие производящего хозяйства и регулярного прибавочного продукта.
Однако уже на этом исходном экономическом уровне наблюдаются особенности, свидетельствующие о том, что состояние производительных сил в Буганде следует отнести к. одному из самых низких уровней, на которых возможен переход от доклассового общества к классовому. Главная из этих особенностей заключалась в ограниченности возможностей производства и реализации прибавочного продукта в условиях длительной изоляции Межозерья от более развитых обществ и на основе лишь местных возможностей развития тропического мотыжного земледелия и экстенсивного скотоводства. В собственно Буганде (ее первоначальном ядре) эти общие для всего Межозерья особенности дополнялись еще двумя, крайне важными факторами: недостатком металла и пастбищ и отсутствием удовлетворительной компенсации этого недостатка посредством обмена. Вследствие этого универсальные для эпохи классообра-зования процессы общественного разделения труда в сфере производства (отделение ремесла от земледелия) и развития обмена оказались в Буганде выраженными относительно слабо.
Напротив, другая линия развития общественного разделения труда — обособление организаторской деятельности от производственной — явно опережала темпы специализации в материальном производстве. И основным стимулом послужила здесь все та же настоятельная нужда в компенсации недостатка необходимых ресурсов, недостижимой посредством обмена и потому возможной только путем захвата областей, располагавших этими ресурсами. Отсюда — быстрый рост значения военно-организаторской функции и функции организации общественных работ по строительству дорог и мостов. Специфика выделения управленческой функции в Буганде заключалась в том, что этот процесс не сопровождался обособлением управленческого сословия.
Высокий уровень социальной мобильности в Буганде обнаруживает функциональную связь с высокой степенью централизации власти (деспотическим режимом правления) и формированием в обществе верховной государственной собственности-суверенитета.
Соответственно ведущим типом эксплуатации в Буганде стала непосредственная эксплуатация общинников государством. Наряду с этим основным общественно-Экономичеоким укладом, подчиненную роль в системе отношений господства-подчинения играли рабство и данничество. Наконец, известная сохранность патриархально-родовых связей отчасти вуалировала, отчасти сдерживала проявления эксплуатации. В той или иной мере и взаимной пропорции все перечисленные элементы социальной структуры характерны для многих раннегосударственных образований.
Ведущий
тип эксплуатации в Буганде
принципиально отличает ее от
других известных
докапиталистических обществ —
рабовладельческого и феодального,
по-разному и в разной степени, но
сочетавших внеэкономическое
принуждение с вещной,
частнособственнической основой
эксплуатации. Социальная структура
Буганды не может быть определена
как в полном смысле классовая. Несмотря
на резко выраженные социальные
антагонизмы и относительно
развитые государственные
институты, процесс
классообразования не был завершен,
поскольку определяющий признак
классов — различное отношение к
собственности на средства
производства — в Буганде не
обнаруживается. Поэтому,
устанавливая стадиальную
принадлежность бугандского
общества, мы должны отнести его к
тем предклассовым
раннеполитичеаким образованиям,
которые во всемирно-историческом
плане предшествовали становлению
рабовладельческой и феодальной
формации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маркс К. Капитал. Т. III. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. II.
2. Энгельс Ф. Франкский период. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 19.
3. Энгельс Ф. Анти-Дюринг.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 20.
4. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 21.
5. Андреев И. Л. Экономические предпосылки складывания классов.— «Труды Тюменского индустриального института». Вып. 7. Ч. II. Тюмень, 1969.
6. Антошина А. И. Система землевладения в Уганде и ее влияние на формирование сельскохозяйственного пролетариата. — Сельскохозяйственные рабочие в странах Азии и Африки. М., 1969.
7. Бейлис В. А. Проблемы использования устной традиции для реконструирования истории народов Африки.— Источниковедение африканской истории. М., 1977.
8. Берзина С. Я. Предпосылки образования древней Ганы. — НАА. 1970, № 1.
9. Берзина С. Я. Проблемы хронологии средневековой африканской истории.— НАА. 1972, № 2.
10. Бэкер С. У. Измаилия. СПб., 1876.
11. Варга Е. С. Очерки по проблемам политэкономии капитализма. М., 1965.
12. Васильев Л. С., Стучевский И. А. Три модели возникновения и эволюции докапиталистических обществ.— ВИ. 1966, № 5.
13. Веселкин Е. А. Теория «единого социального поля» в британской социальной антропологии (на примере «африканской социологии»).— Этнологические исследования за рубежом. М., 1973.
14. Годелье М. Понятие азиатского способа производства и марксистская схема развития общества.— НАА. 1965, № 1.
15. Годинер Э. С. О характере общины у баганда.— Основные проблемы африканистики. М., 1973.
16. Годинер Э. С. Поземельные отношения в доколониальной Буганде (середина XIX в.).— ТИЭ. Т. 96, 1971.
17. Годинер Э. С. Природные условия и некоторые особенности социально-экономического развития Буганды.— Карта, схема и число в этнической географии. М., 1975.
18. Годинер Э. С. Становление государства в Буганде. — Становление классов и государства. М., 1976.
19. Гу ревич А. Я. История и сага. М., 1972.
20. Гуревич А. Я. К дискуссии о докапиталистических общественных формациях: формация и уклад.— ВФ. 1968, № 2.
21. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
22. Дьяконов И. М. Основные черты древнего общества. — Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. М., 1971.
23. Иванов Ю. М. Проблемы феодальных отношений в доколониальной Тропической Африке.— НАА. 1973, № 3.
24. Керимов В. И. Дискуссия ученых ГДР о месте общины в социально-экономических формациях.— НАА. 1975, № 6.
25. Ким С. Р. Раннеклассовое государство в Центральном Камеруне (по материалам султаната Бамум, XIV—XIX вв.).— ПИДО.
26. Кобищанов Ю. М. К вопросу о социально-экономических отношениях в средневековой Нубии.— Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970.
27. Кобищанов Ю. М. Африканские феодальные общества: воспроизводство и неравномерность развития. — Африка: возникновение отсталости и пути развития. М., 1974.
28. Козлов С. Я. Фульбе Фута-Джаллона. М., 1976.
29. Кочакова Н. Б. Города-государства йорубов. М., 1968.
30. Кочакова Н. Б. Особенности производства и присвоения прибавочного продукта в странах Бенинского залива.— Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970.
31. Котляр Е. С. Мифология народов банту Восточной Африки. М., 1965. Автореф. канд. дис.
32. Куббель Л. Е. Введение.— Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970.
33. Куббель Л. Е. Из истории Древнего Мали.— ТИЭ. Т. 76, 1963.
34. Куббель Л. Е. Сонгайская держава. Опыт исследования социально-политического строя. М., 1974.
35. Летнев А. Б. Аграрные отношения в Западной Африке.— МЭМО. 1962, № 7.
36. Луконин Ю. В. Уганда. — СЭ. 1963, № 1.
37. Львова Э. С. Государства Куба и Луба. М., 1968.
38. Львова Э. С. К проблеме хронологии истории Африки (на примере бакуба и балуба). — Основные проблемы африканистики. М., 1973.
39. Львова Э. С. Социальная структура государства Куба и Луба.— Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970.
40. Львова Э. С. Устная историческая традиция как исторический источник (современное состояние проблемы).— Источниковедение африканской истории. М., 1977.
41. Массон В. М. Экономические предпосылки сложения раннеклассового общества.— Ленинские идеи в изучении истории первобытного общества, рабовладения и феодализма. М., 1970.
42. Малышева Д. Б. Буганда.— ВИ. 1974, № 4.
43. Меликишвили Г. А. Характер социально-экономического строя на древнем Востоке.— НАА. 1972, № 4.
44. Некоторые вопросы истории стран Африки. М., 1968.
45. Неусыхин А. И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к феодальному.— ВИ. 1967, № 1.
46. Никифоров В. Н. К. Маркс и Ф. Энгельс об азиатском способе производства.— Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. М., 1971.
47. Никифоров В. Н. Восток и всемирная история. М., 1975.
48. Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. М., 1966.
49.
Ольдерогге Д. А. В. И. Ленин и
проблемы возникновения
государства.— Краткое содержание
докладов годичной научной сессии
Института этнографии АН СССР,
50. Ольдерогге Д. А. Западный Судан в XV—XIX вв. Очерки по истории и истории культуры.— ТИЭ. Т. 53, 1960. Ольдерогге Д. А. Хамитская проблема в африканистике.— СЭ. 1949, № 3.
Орлова А. С. История государства Конго XVI—XVII вв. М., 1968.
53. Орлова А. С. Источники по истории общественного строя народов Межозерья.— Африканский сборник. М., 1963.
54. Орлова А. С., Львова Э. С. Страницы истории великой саванны. М., 1978.
55. Першиц А. И. Данничество. — IX Международный Конгресс антропологических и этнографических наук в Чикаго, сентябрь 1973. Доклады советской делегации. М., 1973.
56. Першиц А. И. Некоторые особенности классообразования в обществах кочевых скотоводов.— Возникновение раннеклассового общества. Конференция. Тезисы докладов. М., 1973.
57. Потехин И. И. О феодализме у ашанти.— XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1960.
58. Потехин И. И. Поземельные отношения в странах Африки.— НАА. 1962, № 3.
59. Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. М., 1971.
60. Проблемы классообразования и классовой борьбы в афро-азиатских странах.— НАА. 1974, № 6.
61.
Проблемы этнографии и антропологии
в свете научного наследия Ф.
Энгельса. М., 1972.
62. Райх Е. Л. Некоторые медико-географические особенности Восточной Африки.— Страны и народы Востока. Вып. IX. М., 1969.
63. Сванидзе И. А. Королевство Бенин. История, экономика, социальные отношения.— Некоторые вопросы истории стран Африки. М., 1968.
64. Семенов Ю. И. Теория социально-экономических формаций и всемирный исторический процесс.— НАА. 1970, № 5.
65. Симония Н. А. Страны Востока: пути развития. М., 1975.
66. Социальная организация народов Азии и Африки. М., 1975.
67. Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970.
68. Становление классов и государства. М., 1976.
69. Сюре-Каналь Ж. Традиционные общества Тропической Африки и марксистская концепция «азиатского способа производства».— НАА. 1965, № 1.
70. Тер-Акопян Н. Б. К. Маркс и Ф. Энгельс об азиатском способе производства и земледельческой общине. — Из истории марксизма и международного рабочего движения. М., 1973.
71. Тёкеи Ф. К теории общественных формаций. М., 1975.
72. Тёкеи Ф. Марксизм и некоторые проблемы ориенталистики. — ВФ. 1975, № 9.
73. Толмачева М. А. Нормы наследования государственной власти у зинджей. Африканский этнографический сборник. ТИЭ. Т. 100, 1972.
74. Томановская О. С. Изучение проблемы генезиса государства на африканском материале. — Основные проблемы африканистики. М., 1973.
75. Томановская О. С. Лоанго, Каконго и Нгойо. Историко-этнографические очерки. М., 1980.
76. Тюменев А. И. Государственное хозяйство Древнего Шумера. М.— Л., 1956.
77. Тюменев А. И. Передний Восток и античность. — ВИ. 1957, № 6.
78. Xодак Ш. Общественные классы в Африке южнее Сахары. — Некоторые вопросы истории Африки. М., 1968.
79. Эрнст К. Некоторые теоретические и методологические аспекты исследования развития и структуры классовых отношений в Тропической Африке. — НАА. 1974, № 6.
80. [Яблочков Л. Д.]. Обмен мнениями о сборнике «Проблемы истории докапиталистических обществ». — НАА. 1971, № 4.
81.
Akabane H. Traditional Pattern of Land Occupancy in Black
Africa.— «The Developing Economies».
82.
Angulu O. M. The Social Anthropology of
83.
Ansorge W. G. Under the African Sun. L., 1899.
84.
Apter D. E. The Political Kingdom in
85.
Ashe R. P. The Chronicles of
86.
Ashe R. P. Two Kings of
87.
Baker S. J. K. The East African Environment. — R. Oliver and G.
Mathew (eds.). History of
88.
Balandier G. Anthropologie politique. B., 1967.
89.
Beattie J. H. M. Bunyoro: an African Feudality? — JAH. 1964,
vol. 5, № 1.
90.
Beattie J. H. M. The
91.
Bloch M. La societe feodale. Les classes et le gouvernement des
hommes. P., 1940.
92.
Boiteau P. Les droits sur la terre dans la societe Malgashe
precoloniale. — Sur le mode de production asiatique.
P., 1969.
93.
Carlston K. S. Social Theory and African Tribal Organisation.
94.
Chilver E. M. «Feudalism» in the Interlacustrine Kingdoms. —
Richards A. I. (ed.). East African Chiefs. L., 1960.
95.
Chretien J.-P. Echanges et hierarchies dans les rouaumes des
jrands Lacs de 1'Est Africain. — «Annales. Economies. Societes.
Civilisations» P., 1974, annee 29, № 6.
96.
Claessen H. I. M. Despotism and irrigation. — «Bijdragen tot
de taalland — en volkenkunde». s'Gravenhage, 1973, d. 129, afl.
le.
97.
C1aessen H. I. M. and Ska1nik P. (eds.) The Early State.
98.
99.
100.
101.
Cohen D. W. A Survey of Interlacustrine Chronology. —
102.
Cohen D. W. The Historical Tradition of Busoga. Ox., 1972.
103.
Cohen R. and Service E. R. (eds.) Origins of the State.
104.
Cole S. The Prehistory of
105.
Cole S. The Stone Age of
106.
Coquery-Vidrovitch C. Recherches sur un mode de production
Africaine.— «
107.
Coupland R. East
108.
Crazzolara J. P. Lwoo Traditions.—UJ, 1959, vol. 23, JVb 1.
109.
Crazzolara J. P. The Lwoo. P. 1. Lwoo Migrations.
110.
Cunningham J. F.
111.
Doornbos M. R. Regalia Galore. The Decline and Eclipse of Ankole
Kingship.
112.
113.
Ehret Ch. Agriculture in Central and
114.
Evans-Pritchard E. E. Essays in Social Anthropology. N. Y., 1963.
115.
Page J. and Oliver R. A Short History of
116.
Fallers L. A. Bantu Bureaucracy. A Century of Political
Evolution among the Basoga of
117.
Fallers L. A. Despotism, Status Culture and Social Mobility in an
118.
Fallers M. C. The Interlacustrine Bantu.—A. I. Richards (ed.).
East African Chiefs. L., 1960.
119.
Fallers L. A. (ed.). The King's men. L., 1964.
120.
Fallers L. A. Social Stratification in Traditional Buganda.—
Fallers L. A. (ed.). The King's men. L., 1964.
121.
Fortes M. and Evans-Pritchard E. E. (eds.). African Political
Systems. L., 1941.
122.
Fried H. M. On the Evolution of Social Stratification.—Culture
in History. N. Y., 1960.
123.
Godelier M. Preface.—Sur les societes precapitatistes. P., 1969.
124.
Goody J. Feudalism in
125.
Goody J. Technology, Tradition and the State in
126.
Gorju J. Face au rouaume hamite du
127.
Grant J. A. A Walk across
128.
Gray J. Early History of Buganda.—UJ. 1935, vol. 2.
129.
Greenberg J. H. Africa as a Linguistic Area.— W. R. Bascom and
Herscovits M. I. (eds.). Continuity and Change in African
Cultures.
130.
Greenberg J. H. The Languages of Africa.— «International
Journal of American Linguistics». 1963, vol. 29, N° 1.
131.
Greenberg J. H. Studies in African Linguistic Classification.
132.
Guthrie M. Some Developments in the Prehistory of the Bantu
Languages.—JAH. 1962, vol. 3, N° 2.
133.
Gwynne M. D. The Origin and Spread of Some Domestic Food Plants
of
134.
Hatters le y C. W. The Baganda at Home. L., 1908.
135.
Henige D. P. Reflections on Early Interlacustrine Chronology: an
Essay in Source Criticism. — JAH. 1974, vol. 15, N° 1.
136.
Heuch L. de. Le
137.
Hiernaux J. Bantu Expansion: the Evidence from Physical
Anthropology Confronted with Linguistic and Archaeological
Evidence.—JAH. 1968, vol. 9, Ns 4.
138.
Hiernaux J. The Peoples of
139.
Huntingford G. W. The Peopling of the Interior of
140.
Ingham K. The
141.
Irstam T. The King of Ganda.
142.
Johns ton H. H. The
143.
Kaggwa A. The Kings of
144.
Kagwa A. The Customs of the Baganda. L, 1934.
145.
Karugire S. R. A History of the Kingdom Nkore in
146.
147.
Kitching M. A. On the Backwaters of the
148.
Kiwanuka M. S. M. A History of
149.
Kiwanuka M. S. M. Sir Apolo Kaggwa and the Pre-colonial History
of Buganda.— UJ. 1966, vol. 30, № 2.
150.
Ko11mann P. The
151.
Kottak C. P. Ecological Variables in the Origin and Evolution
of African States: the
152.
Kubbel L. E. The Origin of Statehood in
153.
Lambrecht F. L. Aspects of Evolution and Ecology of Tsetse Flies
and Trypanosomiasis in Prehistoric African Environment. — JAH.
1964, vol. 5, Nsl.
154.
Lanning E. C. Ancient Earthworks in
155.
Lanning E. C. Excavations at Mubende Hill. — UJ. 1966,
vol. 30, Ns 2.
156.
Lanning E. C. Ntusi: an Ancient Capital Site in
157.
Lewis H. W. The Origins of African Kingdoms. — «Cahiers d'etudes
africaines». P., 1966, vol. 6.
158.
Lloyd P. C. The Political Structure of African Kingdoms: an
Exploratory Model—The Political Systems and the Distribution of
Power. L., 1965.
159.
Lugard F. D. The Rise of Our
160.
Mair L. P. African People in Twentieth Century. L., 1936.
161.
162.
Mair L. P. Primitive Government. Harmondsworth, 1962.
163.
Maquet J. Grands lacs. — Dictionnaire de civilisations
africaines. P., 1968.
164.
Maquet J. Kitara. — Dictionnaire des civilisationes africaines.
P., 1968.
165.
Maquet J. Pouvoir et societe en Afrique. P., 1971.
166.
Marsh Zoe and Kingsnorth G. W. An Introduction to the History of
167.
Mc Master D. N. A Subsistence Crop 'Geography of Uganda.— «
168.
McMaster D. N. Speculations on the coming of the banana to Uganda.—
«Journal of Tropical Geography». 1962, vol. 16.
169.
Meek C. K. Land Law and Custom in the Colonies. L, 1949.
170.
Meinhof C. Die Sprachen der Hamiten.
171.
Mukwaya A. B. Land Tenure in Buganda.— East African Studies. L.,
1953.
172.
Murdock G. P. Africa. Its Peoples and their Culture History. N. Y.,
1959.
173.
Murdock G. P. and Provost C. Factors in Division of Labor by Sex:
A Cross-cultural Analysis.— Ethnology, 1973.
174.
Nadel S. F. A Black Bysantium. The
175.
Nsimbi M. B. The Clan System in Buganda.— UJ. 1964, vol. 24, no
1.
176.
177.
Nyakatura J. W. Anatomy of an
178.
Oberg K. The
179.
Ogot B. A. History of the
180.
Ogot B. A. Kingship and Statelessness among the Nilotes.—
Collins R. O. (ed.). Problems in African History. 1. N. Y., 1968.
181.
Oliver R. O. Ancient Capital Sites of Ankole. — UJ. 1959, vol.
23, N» 1.
182.
Oliver R. O. Oral Tradition.— History and Archaeology in
183.
Oliver R. O. The Problem of Bantu Expansion.—JAH. 1966, vol. 7,
No 3.
184.
Oliver R. O. Reflections on the Sources of Evidence for the Pre-Colonial
History of East Africa.— Vancina J., Mauny R., Thomas L. V. (eds).
Historian in Tropical
185.
Oliver R. O. The Royal Tombs of Buganda.—UJ. 1959, vol. 23, JVs
2.
186.
Oliver R. 0. and Pagan B. Africa in the Iron Age.
187.
Oshinsky L. The Racial Affinities of the Baganda and Other Bantu
Tribes of
188.
Perham M. (ed.). The Diaries of Lord Lugard. Vol. II. L., 1959.
189.
Perlman M. L. The Traditional Systems of Stratification among the
Ganda and the Nyoro of Uganda.— Tuden A. and Plotnikov L. (eds.).
Social Stratification in
190.
Portal G. The British
191.
Posnansky M. Bantu Genesis.—UJ. 1964, vol. 25, N° 1.
192.
Posnansky M. Bantu Genesis — Archaeological Reflections.— JAH.
1968, vol. 9.
193.
Posnansky M. Connections between the Lacustrine Peoples and the
Coast.
194.
Posnansky M. Kingship, Archaeology and Historical Myth.— UJ.
1966, vol. 30, N° 1.
195.
Posnansky M. The Origins of Agriculture and Iron Working in
196.
Posnansky M. Some Archaeological Aspects of the Ethno-history in
Uganda.— Actes du IVe Congres Panafricain de pre-histoire et de
1'etude du quaternaire. Tervuren, 1962.
197.
Preville A. de. Les societes africaines. P., 1894.
198.
Purvis J. B. Through
199.
Radeliffe-Brown A. R. Preface. — Fortes M. and Evans-Pritchard
E. E. (eds.). African Political Systems. L., 1940.
200.
Richards A. I. African Kings and Their Royal Relatives.— JRAI.
1961, vol. 91.
201.
Richards A. I. Authority Patterns in Traditional Buganda.—
Fallers J. A. (ed.). The King's Men. L., 1964.
202.
Richards A. I. The Ganda.—Richards A. J. (ed.). East African
Chiefs. L, 1960.
203. Roscoe J. The Baganda. The Account of Their Native Customs and Beliefs. L., 1911.
204.
Roscoe J. The Bakitara or Banyoro.
205.
Roscoe J. Immigrants and their Influence on the
206.
Roscoe J. The Northern Bantu.
207.
Roscoe J. Twenty-five Years in
208.
Rowe J. Myth, Memoir and Moral Admonition: Luganda
Historical Writing. 1893—1936.—UJ. 1969, vol.
33, № 1.
209.
Rusch W. Klassen und Staat in
210.
Sanders E. The Hamitic Hypothesis, Its Origin and Function in
Time Perspective —JAH. 1969, vol. 10, N° 4.
211.
Safholm P. The River-lake Nilotes.
212.
Sеdov L. La societe Angkorienne et la probleme du mode du
production asiatique.— Sur le mode de production asiatique. P.,
1969.
213.
Seligman C. C.
214.
Seligman C. G. Races of
215.
Shinnie P. L. Excavations at Bigo, Uganda.—
«Antiquity». 1957, vol. 33.
216.
Shinnie P. L. Excavations at Bigo.—UJ. 1960, vol. 24.
217.
Shinnie P. L. The Legacy to
218.
Shiozawa K. Les historiens Japonais et le mode de production
asiatique.— «
219.
Southall A. Alur Society.
220.
Southall A. The Peopling of
221.
Southwold M. Bureaucracy and Chiefship in Buganda.— «East
African studies».
222.
Southwold M. The Ganda of Uganda.—Gibbs J. L. (ed.). Peoples of
223.
Southwold M. The History of a History: Royal Succession in
Buganda.—L ewi s M. (ed.). History and Social Anthropology. L.,
1968.
224.
Southwold M. Succession to the Throne in Buganda.— Succession
to High Office.
225.
Speke J. H. The Journal of the Discovery of the Source of the
226.
Stam N. The Religious Conceptions of Some Tribes of Buganda.—«Anthropos».
1908, Bd 3, Ht. 2.
227.
228.
Steinhart E. J. Ankole: Pastoral Hegemony.— Claessen H. J. M.,
Skalnik P. (eds.). The Early State.
229.
Stevenson F. Population and Political Systems in Tropical
230.
Sur le mode de production asiatique. P., 1969.
231.
Sur les societes precapitalistes. P., 1970.
232.
Suret-Canale J. Les societes traditionneles en Afrique tropical
et le concept de mode de production asiatique. — Sur le mode de
production asiatique. P., 1969.
233.
Sutton J. E. G. The Interior of
234.
Sutton J. E. G. New Radiocarbon Dates for Eastern and Southern
Africa.—JAH. 1972, vol. 13.
235.
Tay1or B. K. The Western Lacustrine Bantu. L., 1962.
236.
Terray E. Le marxisme devant les societes «primitive». Deux
etudes. P., 1969.
237.
Thomas A. S. The Coming of the Banana to Uganda.— UJ. 1955, vol.
19.
238.
Thomas H. B. The Story of
239.
Trowell M. and Wacksmann K. Tribal Crafts of
240.
Tucker A. R. Eighteen Years in
241.
Uzoigwe G. N. Precolonial Markets in Bunyoro-Kitara.—
«Comparative Studies in Society and History». 1972, vol. 14, Ns
4.
242.
Uzoigwe G. N. Recording the Oral History of
243.
VansinaJ. A comparison of Africa kingdoms.— «
244.
Wainwright G. A. The Coming of the Banana to
245.
Way1and E. J. Notes on the Biggo Bya Mugenyi.— UJ. 1934, vol. 2.
246.
247.
Wright A. C. A. A Review of J. P. Grazzolara's «The Lwoo», pt.
1: «Lwoo traditions».—UJ. 1953, vol. 17, N° 1.
248.
Wrigley C. C. Kimera.—UJ. 1959, vol. 23, Ns 1.
249.
Wrigley C. C. Some Thoughts on the Bacwezi.—UJ, 1958, vol. 22, Ns
1.
250.
Wrigley C. C. Speculations on the Economic Prehistory of Africa.—
Papers in African Prehistory.
251.
Wrigley C. C. The Changing Economic Structure of Buganda.—Fallers
L. A. (ed). The King's Men. L., 1964.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
MЭИMO
— Мировая экономика и
межународные отношения. M.
HAA
— Народы Азии и Африки. M.
ПИДО — Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. I. M., 1968.
CЭ
— Советская этнография
TИЭ
— Труды Института этнографии
JAH
— The Journal of African History.
JRAI
— The Journal of Royal Anthropological
Institute.
TJH
— Transafrican Journal of History.
UJ
—
SUMMARY
The
book by the Soviet scholar, Esther S. Godiner, «The Emergence
and Evolution of the State in
The
work deals chronologically with the period between the
beginning of the state formation processes in Buganda (the 13th—15th
centuries) and the middle of the 19th century, when Buganda's
drawing into slave trade and then European expansion laid the
foundation for the deformation of the traditional social
structure.
The
author shows how the economic and demographic situation was
changed in the region due to the settling of large migrating
groups of Bantu land tillers and cattle-breeders on the
northern bank of
Then
the author discusses the internal conditions that contributed to
that process. With the growth of the population and its density
the economy of the lake region began to experience difficulties.
Due to ecological reasons, the humid savannahs of the lakeside
provided quite favourable conditions for tropical farming, but
were unfit for cattle-raising. Beside a shortage of pastures,
there was also a shortage of metal and salt. All these
resources were in abundance in the neighbouring ecological zone,
to the north and west of the lake region. However, the
inhabitants of these parts were not interested, by various
reasons, in the development of exchanges. The author describes
how predatory wars typical of the period of the emergence of an
early class society, played a special role in the genesis of the
Showing
the expansionist nature of the Buganda state taking shape, E. S.
Godiner points to the specific features of agriculture in the
lake region which lay, among other things, in relieving the male
part of the population from taking part in land cultivation,
and also to a limited possibility of the handicraft
specialization of the male population due to a shortage of raw
materials. The combination of these factors gave rise to a
trend to bring together the autochthonal and newly arrived
tribes into a single alliance aimed at expansion. Hence, the
rapidly growing significance of the military-organisational
function, as well as the function of organising public works
for the building of roads and bridges.
E.
S. Godiner notes that on the example of
Эстер Самуиловна Годинер
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВА В БУГАНДЕ
Утверждено к печати Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР
Редакторы
Н. В. Баринова, С. Г. Карпюк.
Младший
редактор В. С. Дмитриева.
Художественный
редактор Б. Л. Резников.
Технический
редактор Г. А. Никитина.
Корректор В. Н. Багрова
ИБ № 14139
Сдано в набор 06.07.81. Подписано к печати 23.12.81. А-13613. Формат 84ХЮ8'/з2. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 7,98. Усл. кр.-отт. 8,08. Уч.-изд. л. 9,22. Тираж 1100 экз. Изд. № 4945. Тип. зак. № 353. Цена 1 р. 40 к.
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва
К-45, ул. Жданова, 12/1 3-я типография издательства
«Наука». Москва Б-143, Открытое
шоссе, 28
[1] Здесь и далее отсылки к Списку литературы соответствуют хронологии издания работ.
[2] Ныне — оз. Мобуту-Сесе-Секо.
[3] Ближайшими аналогами muwombeefu баганда являются mahano у баньоро и kеr у алуров; для Западной Африки можно привести в качестве примера swem у тив Нигерии [88, с. 120—123]. Вообще же такого рода представления были присущи многим обществам. К этому же типу явлений относится, по-видимому, и океанийская мана. В Европе они также были известны: например, древние скандинавы верили, что «в конунга вселялась некая таинственная сила, с помощью которой он обеспечивал благополучный ход времени и преуспеяние своего народа» [19, с. 29].
[4] Хотя, по утверждению Л. Мейр, «родовая группа никогда не была локальной», и при строгом понимании локальности с этим можно согласиться, в описываемое время поселение сородичей, по-видимому, тяготело к родовой земле обутака (obutaka) и соседский элемент в общине занимал подчиненное положение [161, с. 189]. А. Кагва в начале XX в. писал, что «до сих пор в Бусуджу (один из центральных районов Буганды.— Э. Г.) знают земли, которые первоначально занимал каждый род» [144, с. 11].
[5] Р. Стивенсон посвятил специальную работу роли демографического фактора в формировании традиционных государств Африки [229]. Полемизируя с тезисом Фортеса и Эванс-Причарда («Было бы неправильно полагать, что более высокий уровень политической организации и большая территориальная протяженность должны быть в обществах с высокой плотностью населения. Обратное равным образом возможно» [121, с. 7—8]), Стивенсон пересмотрел пять из шести исследованных этими авторами примеров африканских обществ и пришел к убедительному выводу о существовании положительной зависимости между плотностью населения и сложностью политических институтов.
[6] Этот акт напоминал бы европейский оммаж, если бы не отличие в двух весьма существенных отношениях: 1) он устанавливался между омвами любого ранга и кабакой, но не между самими мвами, поскольку только кабака, владел правом даровать титулы, должности, социальные и имущественные привилегии; 2) он носил односторонний характер: омвами обязывался беспрекословно повиноваться кабаке, но не получал взамен никаких гарантий охраны привилегий, имущества и личности в отличие от Европы, где вассал, усмотревший в действиях сюзерена отклонения от условий договора, вправе был считать себя свободным от взятых на себя обязательств: «В нормальных условиях подданные подчинены своему законному государю. Но их повиновение выражается не столько в пассивном послушании, сколько в верности. Отличие верности (fidelitas) от простого повиновения состоит в наличии определенных условий, при которых «верные» служат своему господину, и в элементе взаимности» [21, с. 153].
[7] Обычное право баганда
теоретически ограждало
свободнорожденных от отправления
на жертвенник. Английский
миссионер Хеттерсли сообщает, что
один из его учеников в
миссионерской школе никак не мог
взять в толк, как «Христа могли
принести в жертву, если его предки
были известны» [134, с. 18]. Однако А.
Кагва приводит такие данные об
одном из жертвоприношений: 700
бакопи, 216 рабов, 500 жен кабаки и 35
мвами [143, с. 153—154].
[8] У жены-пленницы, не
имевшей поддержки рода, не было и
права куноба — развода с
условием возвращения ее родом
брачного выкупа мужу. В остальном
же ее положение не слишком отличалось
от положения первой жены,
урожденной муганда: ей также
давался для обработки отдельный
участок земли, где она вела самостоятельное
хозяйство.
[9] Сходные явления отмечает в странах речных культур древнего Востока А. И. Тюменев: «Отношения между членами правящего класса отличались чертами крайнего сервилизма» [77, с. 57].