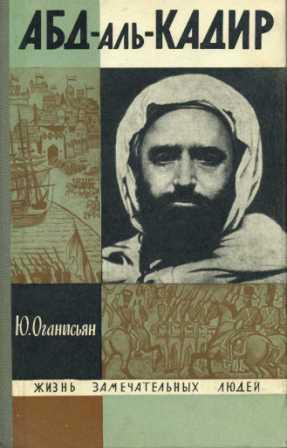
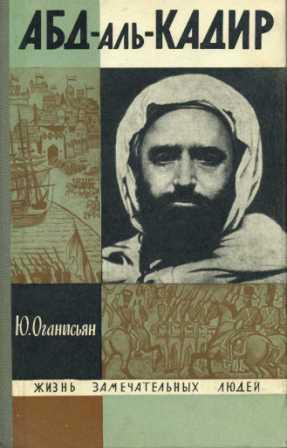
ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
Серия
биографий
ОСНОВАНА
В
1933 ГОДУ
М.ГОРЬКИМ
ВЫПУСК
18 (459)
МОСКВА
1968
Ю.
Оганисьян
АБД-АЛЬ-КАДИР
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
_____________________________________________
OCR
и вычитка – Aspar, 2011. Постраничные
ссылки заменены сквозными
СОДЕРЖАНИЕ
СЫН МАРАБУТА
ТРОПОЙ ГЕРОЯ
ТУПИКИ ВЛАСТИ
ПТИЦА НА ШЕЕ
ИТОГИ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБД-АЛЬ-КАДИРА
КРАТКАЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
СЫН
МАРАБУТА
Под властью янычар
У древних греков горы, протянувшиеся вдоль средиземноморского побережья Северной Африки, обозначали край света. Здесь, по их поверьям, обитал великан Атлас, на плечах которого покоился небесный свод. Его дети-атланты согласно этим поверьям и составили племена, населявшие Северную Африку. Это были сильные и воинственные племена, называвшие себя «мазиг», что означает «свободные люди». Начиная с глубокой древности, они вели бесчисленные войны с чужеземцами, которые покушались на их независимость.
Северная Африка, богатая и чрезвычайно удобно расположенная на торговых путях, всегда была вожделенной добычей для завоевателей. Еще во втором тысячелетии до нашей эры ее безуспешно пытались подчинить себе египетские фараоны. Более преуспели в утверждении своего господства финикийцы. В конце IX века до н. э. они основали на североафриканском побережье колонию Карфаген, которая несколько столетий спустя превратилась в могущественное государство. Карфаген стремился покорить внутренние районы Северной Африки. Но ему не удалось преодолеть сопротивление Нумидии, государства, возглавлявшегося местными правителями и достигшего своего наивысшего расцвета в начале II века до н. э., в период правления Масиниссы. Оба эти государства пали под ударами римлян, которых в V веке н. э. сменили вандалы, в свою очередь, через столетие покоренные византийцами.
Каждый из завоевателей привносил в Северную Африку свои общественные порядки, культуру, традиции. Каждый оставил свои следы, многие из которых сохраняются и поныне. Но лишь арабы, обосновавшиеся в Северной Африке в итоге двух крупных вторжений (VII и XI века), преобразовали ее глубоко и необратимо. Берберы — коренное население — были в большинстве арабизированы. Местные культы растворились в исламе. Формы социального устройства, язык и культура арабов стали господствующими в Магрибе (в буквальном переводе с арабского — «Запад»), как часто называют региональную совокупность североафриканских стран.
К началу XVI века в бурной истории Северной Африки назрел новый перелом. К этому времени золотой век арабских завоевателей отошел уже в область преданий. От громадного Арабского халифата, простиравшегося некогда от Инда до Пиренеев и от Кавказских гор до Нильских порогов, остались лишь жалкие осколки. На востоке арабские владения одно за другим были поглощены Османской империей. На западе стремительно росло могущество католической Испании, которая в 1492 году захватом Гранады завершила реконкист и изготовилась для новых «крестовых походов» на мусульманские страны.
Магриб оказался между двух огней. И не только в переносном смысле. На западе пылали костры святой инквизиции, в которых тысячами гибли испанские мавры. Не многим лучше обращались со своими арабскими единоверцами и турки вторгшиеся в Египет.
Над Северной Африкой вновь нависла угроза нашествия чужеземцев. Соблазн для захватчиков был велик: страны Магриба, управляемые отпрысками одряхлевших династий, были совершенно обессилены внутренними распрями. «Вся страна, — доносил из Магриба испанский агент, — в таком состоянии, что кажется, сам господь хочет отдать ее их величествам». Шейхства, султанаты, княжества, союзы племен — десятки их, больших и малых, самостоятельных и вассальных, мозаично пестрой каймой обрамляли северную часть Африки, Египта до Марокко. Повсюду царил дух вражды и соперничества. Кочевые племена бедуинов постоянно нападали на оседлые поселения земледельцев. Города с трудом отбивались от нашествий разбойников. Монархи боролись с самовластьем крупных феодалов. Феодалы враждовали друг с другом и соперничали с горожанами. И все это буйное коловращение политической жизни Магриба было пронизано густой сетью дворцовых интриг, династических заговоров, межплеменных распрей.
Своеобразная обстановка сложилась в портовых городах. Корсар и работорговец стали здесь столь же типичными фигурами, как купец и ремесленник. Процветание портов Магриба находилось в прямой зависимости от морского разбоя, торговли невольниками, а также от солидных сумм, вносимых в качестве выкупа за пленников. Правители Туниса, Бужи, Алжира, Орана и других североафриканских городов снаряжали целые пиратские флотилии, которые грабили корабли христиан и даже нападали на европейские порты. Средиземное море оказалось во власти магрибских пиратов.
«Плавая зимой и весной, они бороздят море с востока на запад, насмехаясь над нашими кораблями, экипажи которых тем временем пируют в портах», — писал бенедиктинский монах Хаэдо, побывавший в плену у алжирских пиратов. — Зная, что заваленные всякой всячиной галеры христиан при встрече с их легкими, тщательно очищенными от ракушек и водорослей галиотами не могут и мечтать о какой-либо погоне за ними или помешать им грабить и воровать, как им заблагорассудится, они обычно дразнят их, развертываясь перед ними и показывая им корму».
Но не одной лишь корыстью можно объяснить действия корсаров. Магрибские пираты того времени участвовали в «священной войне», которую мусульманская Африка вела против христиан. Мавры и мориски (обращенные в христианство иберийские мусульмане), которых изгоняла из Испании католическая церковь, составляли основную ударную силу североафриканского корсарства.
В 1505 году после опустошительного нападения магрибских пиратов на испанское побережье король Фердинанд Католик направляет морскую армаду к североафриканскому побережью. За несколько лет испанцы захватывают почти все крупные порты Магриба. Мусульманское господство в Северной Африке оказывается на грани катастрофы.
В этот драматический момент магрибские пираты и выступают в необычной для рыцарей удачи роли исторических деятелей.
История своенравна в выделке своих героев. Для нее не существует готовых образцов. Всякий материал — не только библейская глина или языческая бронза — идет в дело. Четырех братьев с острова Лесбос, что в Эгейском море, — Аруджа, Хайраддина, Элиаса и Исхака — летописцы из числа стряпчих проводят обычно в своих скрижалях по разряду незаконнорожденных детей истории. Ни происхождение — их отец был горшечником, — ни деяния — с отроческих лет они занимались морским разбоем — не позволяют причислить их к канонически узаконенному лику хрестоматийных героев.
История о том и не заботилась. Безразличная к родословной, равно как и к моральному облику братьев-корсаров, она прихотливо вплела авантюрную судьбу беспутных сыновей горшечника и сложную вязь политических событий переломной для Северной Африки эпохи начала XVI века.
Перебравшись из Эгейского моря в западное Средиземноморье, братья-корсары быстро прославились здесь как самые бесстрашные, жестокие и удачливые разбойники. К тому времени злая пиратская судьба уже сурово наказала двоих из них. В одной из абордажных схваток был убит Элиас. Старший брат Арудж, взятый в плен рыцарями ордена святого Иоанна, изведал вкус бичей на христианских галерах, а после побега ему при штурме североафриканского порта Бужи ядром оторвало руку.
Но вопреки всем превратностям авантюрной жизни — или благодаря им? — сыновья горшечника, когда пробил их звездный час, сумели подняться выше предуготовленной им судьбы. В 1516 году правитель города Алжира обратился к Аруджу, возглавлявшему семейный синклит пиратов, с просьбой помощи в борьбе с испанцами. Однорукий корсар охотно откликнулся на этот призыв. Он давно уже подыскивал на севе африканском побережье безопасное убежище для своих кораблей. Алжир как нельзя лучше подходил для этой цели.
Небольшой город, основанный в X веке на месте финикийского, а затем римского порта Икозиума, Алжир в отличие от многих других магрибских городов имел довольно скромную историю и не блистал ни мощью своего флота, ни масштабами своей торговли. Но у него были другие преимущества, по достоинству оцененные пиратом. Алжир занимал ключевое положение на побережье Магриба, имел прекрасную гавань, огражденную четырьмя островками (отсюда и арабское название города — аль-Джазаир), и, наконец, был абсолютно беззащитен — приходи и владей.
Арудж так и сделал. Явившись со своим флотом в Алжир, коварный пират, не долго мешкая, удавил обратившегося к нему за помощью шейха, казнил для пущей острастки нескольких знатных горожан и провозгласил себя султаном. Столь успешное начало деятельности на государственном поприще разожгло честолюбие корсара. В течение двух последующих лет он освободил от испанского господства целый ряд городов, повсюду уничтожая местных правителей и присваивая себе верховную власть. Но триумф однорукого пирата продолжался недолго. В 1518 году он был убит в бою. Незадолго до этого та же участь постигла его брата Исхака.
Молниеносные захваты Аруджа круто изменили положение в Северной Африке. Однорукий пират предотвратил испанскую колонизацию Магриба и, как писал бенедиктинец Хаэдо, «положил начало великой мощи Алжира и Берберии».
Но до уровня истинно большой политики пиратский промысел был возвышен единственным из братьев, оставшимся в живых, — Хайраддином, прозванным современниками Барбароссой — Рыжебородым. В 1520 году он отдался под сюзеренитет турецкого султана, получив взамен титул паши и янычарское войско под свое начало. С этой помощью Хайраддин окончательно изгнал конкистадоров испанского императора Карла V из Среднего Магриба, сломил сопротивление местных шейхов и основал здесь Алжирское регентство, в котором с течением времени установилось господство осевших здесь янычар.
Завоевания пиратов закрепили государственно-политическое деление Магриба, которое начало складываться еще в прошлые века. К востоку от Алжира образовалось подвластное туркам Тунисское регентство. На западе алжирское государство граничило с Марокко, в котором вплоть до начала XX века сохранялась власть местных династий.
Очень быстро Алжир превратился в один из важных центров международной политики. Французский историк Андре Жюльен пишет на этот счет: «На полстолетия Алжир становится передовым бастионом Османской империи в западном Средиземноморье, одним из «невралгических» пунктов в той грандиозной битве, в которой Карл V противостоит Сулейману Великому».
Что же касается Хайраддина Барбароссы, то он стал чуть ли не вторым лицом в Турецкой империи. Командуя всем османским флотом, он одержал немало блистательных побед и в 1546 году вопреки семейной традиции умер в Константинополе своей смертью.
Так волею истории, избравшей своими исполнителями сыновей горшечника, Алжир, захолустный в прошлом городок, стал столицей сильного государства и одним из центров событий мирового значения.
Сам по себе пиратский авантюризм братьев-разбойников не наложил бы, конечно, столь сильного отпечатка на становление алжирского государства. Но, обратившись в орудие мощных сил, вершивших в то время судьбы народов в этой части света, он вывел страну из состояния политического безвременья и во многом определил русло ее последующего развития.
Утратив свою былую религиозную окраску, морской разбой при преемниках Хайраддина стал официально признанной нормой государственной политики. На нем основывалось экономическое процветание и военное могущество янычарских правителей. Он обеспечивал Алжиру престиж на международной арене.
Алжирское корсарство проводилось с небывалым размахом. Сфера его действия раздвинулась далеко за пределы западного Средиземноморья. От Эгейского моря до Исландии рыскали алжирские пираты, наводя ужас на купеческие корабли и портовые города. В Алжирский порт стекались огромные богатства. Город быстро расширялся, застраивался роскошными дворцами и великолепными мечетями: даровых рабочих рук было в избытке. В середине XVII века почти треть стотысячного населения Алжира составляли пленники, захваченные пиратами. Надо отметить, однако, что с невольниками обращались сравнительно мягко. Во всяком случае, их положение было много лучше, чем положение их собратьев в европейских колониях в Африке и в Америке. На это обратил внимание наш соотечественник, бригадир российский Матвей Коковцев, побывавший в Северной Африке в конце XVIII века. В своем сочинении «Достоверные известия о Алъжире», изданном в Санкт-Петербурге в 1787 году, он писал об алжирских пленниках: «во все время их невольничества альжирцы обходятся с ними гораздо человеколюбивее, нежели как европейцы со своими невольниками».
По мере усиления Алжира дух пиратской вольницы все более разъедал верноподданность янычар по отношению к турецкому султану. Уже к концу XVII века они добились фактической независимости от Порты. А вскоре турецкий паша, присланный из Константинополя, был изгнан из Алжира, и впредь его место стал занимать дей, избираемый янычарскими военачальниками из своей среды.
В Алжире установился весьма своеобычный государственный строй — нечто среднее между абсолютистской монархией и корпоративной республикой с избираемым правителем. Правящая верхушка состояла из янычар, которые образовывали замкнутую общину, инородную относительно коренного населения страны. Военная служба и корсарство почитались в их среде единственно достойными занятиями. Янычары получали высокое жалование и имели право на долю в пиратской добыче. Купцы обязаны были отпускать им товары по пониженным ценам. Они подчинялись только своим начальникам и были неподсудны обычному правосудию. Преступника мог покарать лишь тайный янычарский суд. Тайно же вершились казни осужденных янычар.
Избирая дея, янычары номинально вручали ему самодержавную власть. Но фактически исполнять ее алжирский правитель мог, лишь повинуясь корпоративным интересам янычарской общины. Дей, по сути дела, находился на положении пленника. Внутренний механизм янычарской тирании строился на рабской взаимозависимости деспота и привилегированной корпорации его подданных. Этот порядок был закреплен ритуальными правилами. После избрания дея разлучали с семьей и водворяли во дворец. У себя дома он мог проводить лишь один день и одну ночь в неделю. Придворные неусыпно следили за каждым его шагом. Даже свое имущество дей не мог передать наследникам, после его смерти оно отчуждалось и поступало в казну. «Человек богатый, но не распоряжающийся своим богатством; отец без детей; супруг без жены; деспот без свободы; король рабов и раб своих подданных», — писал об алжирском дее испанский историк Хуан Кано.
За всякую попытку изменить это положение дей обычно расплачивались жизнью. Из тридцати деев, правящих в Алжире до начала XIX века, шестнадцать были убиты взбунтовавшимися янычарами.
Личная власть дея распространялась фактически лишь на провинцию Алжир. В остальные три провинции — Западную (Оран), Центральную (Титтери) и Восточную (Константина) — назначались наместники — беи, которые были полновластными правителями в своих владениях. Им подчинялись начальники округов — каиды.
На этом административная иерархия янычарского государства обрывалась. Далее начинался совершенно иной мир, охватывавший коренное население. Этот мир жил по своим законам. Он имел собственных вождей-шейхов, не подотчетных в племенных делах чиновникам дея. Арабские и берберские племена были автономными ячейками, социально и политически обособленными от янычарского государства. «Каждое поколение сего народа, — писал бригадир Коковцев, — составляет особливую Республику под ведением своих Шеков, коих они из старших своего рода избирают». Эти «республики» представляли собой в действительности арабские или берберские племена, в которых господствовал клановый дух, враждебный всякой централизованной системе государственной власти.
Господство янычар распространялось примерно на шестую часть современного Алжира. Кочевые племена Сахары, берберское население горной страны Кабилии совершенно не признавали власти янычарских правителей. Многие племена в отдаленных от побережья районах находились в очень слабой вассальной зависимости от турок. Но даже и те племена, которые населяли прибрежную часть страны, терпели власть янычар лишь до тех пор, пока она не вмешивалась в их внутреннюю жизнь и не покушалась на их собственность.
Янычарское господство не наложило сильного отпечатка и на алжирскую культуру, которая продолжала развиваться в старых традициях магрибской цивилизации. Культурный уровень страны был довольно высоким. В городах Алжире, Тлемсене, Константине существовали крупные мусульманские университеты. В стране насчитывалось несколько сот начальных и средних школ. По мнению некоторых историков, степень грамотности населения Алжира в начале XIX века была выше, чем во Франции того времени. Для того чтобы составить себе некоторое представление о культурном уровне Алжира, стоит ознакомиться со свидетельством французского географа М. Розе. В книге «Путешествие в Алжирское регентство» он пишет об Алжире 1830 года:
«...На каждой улице — множество украшенных замечательными арабесками фонтанов из мрамора или шифера, которые питает водопровод. В толстых городских стенах оставлены проемы, предназначенные для мусора, и власти заботятся их очистке.
...В Алжире любая религия пользуется свободой. Терпимость распространяется даже на иностранные культы. Христианам отведено для церкви помещение в государственном здании; евреям принадлежат десять молелен, из них четыре пределах города.
...Магометане отличаются необыкновенной чистоплотностью. В городе много бань. В одном только Алжире сто общественных и специальных школ. Молодые мусульмане весьма прилежны. Мой приход едва заставил их поднять головы; они обратили на меня очень мало внимания. Я видел, как их исправлял учитель, но никогда мне не приходилось наблюдать, чтобы к ним плохо относились, как это имеет место во французских деревенских школах.
...На полях страны пасутся тучные стада. Каждой семье принадлежит несколько хижин, стоящих посреди садов и ого; родов; их окружают фиговые деревья, посадки пшеницы, гороха, бобов, картофеля, а также небольшие виноградники. Вся земля обработана. Арабы почти все умеют читать и писать». Правда, сфера экономического и культурного благоденствия ограничивается в основном городами и окрестными районами. Большинство арабского населения живет трудно, голодно, дико. Хозяйство бедуинов-кочевников и феллахов-земледельцев застыло где-то на подступах к железному веку. Они; еще полностью зависят от капризов природы. Их жизнь далека от патриархальной идиллии. Жизнь в вечном страхе перед стихийным бедствием или — что бывает пострашней — перед; набегом разбойников, нападением враждебного племени, налетом янычар. Вся надежда на аллаха. А эта надежда так же; призрачна, как мираж в Сахаре.
Вражда между янычарами, засевшими в городах, и арабскими племенами в известной мере смягчалась благодаря общности религии — ислама. Но только до поры до времени. Богу-то турки и арабы молились одному, но не одинаково вкушали от благ земных. Чисто мирская ненависть и зависть обездоленных к преуспевающим единоверцам неизбежно оборачивались религиозной нетерпимостью праведников к святотатцам. Янычарство, которое, говоря словами Коковцева, «утопая в пороках, одну токмо наружность веры сохраняет», становилось в глазах правоверных арабов воплощением безбожия и греха. Алжир в этом отношении не был исключением на Арабском Востоке. Вплоть до конца XIX века народные движения в мусульманских странах, скованных порядками феодального средневековья, были облечены, как правило, в религиозную оболочку. В работе «К истории первоначального христианства» Энгельс писал:
«Ислам — это религия, приспособленная для жителей Востока, в особенности для арабов, следовательно, с одной стороны, для горожан, занимающихся торговлей и ремеслами, а с другой — для кочевников-бедуинов. Но в этом лежит зародыш периодически повторяющихся столкновений. Горожане богатеют, предаются роскоши, проявляют небрежность в соблюдении «закона». Бедуины, которые живут в бедности и вследствие бедности придерживаются строгих нравов, смотрят на эти богатства и наслаждения с завистью и жадностью. И вот они объединяются под предводительством какого-нибудь пророка, махди, чтобы покарать изменников веры, восстановить уважение к обрядам и к истинной вере и в качестве вознаграждения присвоить себе богатства вероотступников. Лет через сто они, естественно, оказываются в точно таком же положении, в каком были эти вероотступники; необходимо новое очищение веры, появляется новый махди, игра начинается сначала»[1].
В Алжире ненависть арабских племен к городу обострялась тем, что именно город был вместилищем власти иноземных завоевателей. До тех пор, пока корсарство экономически и политически ориентировало янычарское государство в сторону моря, эта ненависть выплескивалась лишь в эпизодических выступлениях арабских племен. Положение изменилось, когда морской разбой стал приходить в упадок и янычары, не утратившие от того пиратских привычек, начали разбойничать внутри страны.
К началу XIX века на морских путях господствовали мощные флоты европейских держав. Алжирские корсары не отваживались уже на дальние рейсы. Их флот сократился до десятка кораблей. В алжирских тюрьмах содержалось все лишь несколько сот пленников, ожидавших выкупа. Добычи пиратов не хватало даже на выплату жалованья янычарам. Правда, и тогда алжирские корсары все еще контролировал морские подходы к магрибским портам. Чтобы обеспечить себе свободу судоходства в этом районе, многие государства платили дею ежегодную дань. Среди них были такие сильные морские державы, как Соединенные Штаты Америки, Голландия, Португалия, Норвегия.
Но пиратство в то время было уже для янычар побочным промыслом. Главным источником их доходов стало податное ограбление алжирских землевладельцев. Дей, заключавший миллионные сделки с Францией на поставки алжирского зерна, выколачивал подати, не считаясь с традиционным для всех мусульманских стран налогом: десятой частью урожая приплода скота. В деревнях бесчинствовали отряды янычар, посланные для сбора налогов. Им помогали военнослужилые племена, называвшиеся махзен. Эти племена были освобождены от податного обложения и сохраняли поэтому верность янычарам. У крестьян отнимали даже семенное зерно. Непокорным рубили головы.
Арабские и берберские племена, привыкшие к вольной жизни, бунтовали. Восстания вспыхивали повсеместно. Наиболее крупное произошло в конце XVIII века в Орании, близ границы с Марокко. Оно продолжалось несколько лет. Лишь бросив на восставших почти все янычарское войско, дей смог утвердить свою власть в этом районе. Но только временно И практически только в городских центрах провинции. В глубине страны вызревали новые силы, способные сокрушить янычарское господство.
Небольшой поселок в несколько десятков домов приютился у одной из излучин речки Хаммам, что протекает в западной части Алжира, южнее Орана. Как и все такие реки — уэды, — питающиеся лишь скудными дождями, она маловодна и иссякает, не добравшись до Средиземного моря. Но ее воды хватает на то, чтобы давать жизнь многим земледельческим поселкам вроде Гетны. Нехитрая система отводных каналов орошает апельсиновые и оливковые сады, окружавшие деревню, и, разветвившись за окраиной на множество ручейков, поит живительной влагой пшеничные поля. За ними далеко на юге зыбится мутное марево великой пустыни Сахары. Ее жаркое дыхание опаляет днем Гетну пропыленным раскаленным ветром. На западе голубеют поросшие лесом отроги гор древнего Атласа. Оттуда вечерами веет отрадная для уставшего за день земледельца прохлада.
Одноэтажный глинобитный дом с плоской земляной кровлей, расположенный в центре Гетны, выделяется среди других таких же домов своей массивностью и просторным двором. Отличается он от своих соседей и внутренним убранством. Богаче украшено оружие, развешанное по стенам, тоньше выделка устилающих полы ковров, искусней изготовлена домашняя утварь. В остальном жизнь в резиденции шейха Махи ад-Дина, возглавляющего племя хашим, обставлена столь же скромно и неприхотливо, как и в обычном арабском жилище.
Во дворе шейха всегда многолюдно, а рядом обычно разбиты шатры арабов, приехавших искать помощи или совета у своего вождя. Далеко окрест простирается власть и влияние Махи ад-Дина. Судьба многих соплеменников зависит от его решений.
Никто из всей Орании не почитаем в народе столь глубоко, как Махи ад-Дин. И заслуженно. Шейх прост в обращении, непритязателен в одежде, умерен за пиршественным столом. Он столь же славится благочестием и набожностью, сколь мудростью в делах и доблестью в бою. Несмотря на преклонный возраст, седобородый шейх юношески строен и вынослив. Одетый в неизменный белый бурнус — шерстяной плащ с капюшоном, — он может целый день провести в пути, расставаясь с седлом лишь для того, чтобы совершить положенные для каждого правоверного молитвы. Янычарам не однажды приходилось испытывать на себе твердость его духа и силу его руки: Махи ад-Дин был одним из вождей Оранского восстания.
Смирившись с поражением, шейх не смирился с иноземным господством. Он одержим идеей освобождения своего народа. Оранский бей осведомлен об этом, но остерегается своевольного шейха. Слишком велико его влияние. Слишком опасно возбуждать и без того озлобленное на турок население.
Сам Махи ад-Дин держится в отношениях с беем с достоинством, но не вызывающе. Он исправно выплачивает подати и не позволяет своим людям нападать на янычар. Он знает, что время для решающей схватки еще не пришло. Его надо ждать, к нему надо готовиться. Этому посвящены все помыслы и дела Махи ад-Дина. В укромных местах неутомимый шейх создает склады оружия, скрытно договаривается о союзе с вождям других племен, заключает тайные сделки с французскими и испанскими купцами на поставку военного снаряжения.
Но первая его забота — о силе и сплоченности собственного племени. Сложны и многообразны повседневные обязанности шейха. Он распределяет землю, пастбища и источники воды между родами и семьями, намечает сроки начала и окончания полевых работ, устанавливает раскладку податей. Его слово решает споры и тяжбы между соплеменниками. Он следит за религиозным воспитанием и военным обучением молодежи. Он — хранитель племенных традиций и главное лицо при исполнении религиозных обрядов.
Только властью шейха может быть принят в племя инородец. И только лично ему вступающий приносит традиционную клятву, звучащую, как заклинание:
«Моя кровь — твоя кровь, мой ущерб — твой ущерб, моя месть — твоя месть, моя война — твоя война, мой мир — твой мир, ты наследуешь мне — я наследую тебе, ты взыскиваешь за меня — я взыскиваю за тебя, ты платишь выкуп за меня — я плачу выкуп за тебя».
Горе тому, кто преступит эту древнюю клятву. Высшая кара для клятвоотступника — изгнание из племени. А тогда может спасти только чудо. Ибо без племени он — ничто. Лишенный всех средств существования и поддержки соплеменников, оскверненный их презрением, он будет неминуемо раздавлен средневековой жестокой жизнью.
Для человека племени нет ничего более святосокровенного и жизнедейственного, чем асабийя. Это слово обозначает высшее духовное единство, связующее соплеменников узами взаимной ответственности, созданием кровнородственной общности, любовью к родному племени. В асабийе воплощено превосходство общеплеменных интересов и ценностей над личными устремлениями. Она образует духовную основу совместной практической деятельности соплеменников. Поэтому асабийя — туманное и отвлеченное понятие для непосвященного — имеет вполне конкретный смысл и реальное значение для человека племени.
Арабское племя — отнюдь не община равных. В нем есть богатые и бедные, слуги и господа, аристократия и чернь. И хотя племенная асабийя сохраняет многие черты первобытного равенства, из которого она произошла, изнутри она уже поросла иерархией богатства, знатности, родовитости. Одинаково защищая каждого соплеменника от покушений внешнего мира, она — согласно этой иерархии — избирательно относятся к нему в пределах племени.
Каждый род и каждая семья обладают собственной асабийей, передающейся из поколения в поколение. И тот род или семья, которые силой и древностью асабийи превосходят другие роды и семьи, главенствуют в племени.
Именно таков род Махи ад-Дина издревле знатный и влиятельный, он, по семейному преданию, принадлежит к одной из ветвей Фатимидов. А это означает, что родословная Махи ад-Дина восходит к святой Фатиме, дочери основателя ислама Мухаммеда, единственной продолжательнице его рода (у пророка, кроме нее, детей не было). По старому же преданию кто-то из рода Фатимидов станет новым мессией — махди, который явится, чтобы объединить и возглавить арабский народ, укрепить истинную веру и восстановить справедливость.
Как и у всех вождей мусульманских народных движений, у Махи ад-Дина мессианская идея, подкрепленная к тому же родословной, слита воедино с идеей освобождения. Еще в период Оранского восстания он прослыл человеком, призванным свыше избавить страну от нечестивого господства янычар. Молва эта тем более укреплялась в народе, что она сопутствовала широкой известности Махи ад-Дина как одного из самых влиятельных марабутов, главы религиозного братства Кадирия, основанного еще в XII веке магрибским святым Абд-аль-Кадиром аль-Гилани.
Подобно христианским монашеским орденам, мусульманские братства были школами святости для своих послушников, но в отличие от первых они объединяли не только профессиональных священнослужителей, но и простых смертных.
Тысячи правоверных из многих племен входят в братство Кадирия. И если в собственном племени Махи ад-Дина — верховный носитель асабийи, то в братстве он олицетворяет мистическую духовную силу — бараку, которая дает марабуту огромную власть над его собратьями по духу. Ибо по неписаному уставу и традициям ордена каждый его член обязан безропотно — «как труп в руках обмывалыцика» — исполнять волю своего пастыря. По первому же повелению братство может превратиться в вооруженную рать, фанатично преданную своему вождю.
В магрибских странах марабуты иногда еще при жизни признавались святыми, способными творить чудеса. В легендах, которые создавало воображение верующих, они одним прикосновением исцеляли неизлечимые болезни, обладали ром перевоплощения, подчиняли себе природные стихии, и шествовали верхом на львах — «собаках аллаха» — и в общем немногим отличались от фантастических героев народных арабских сказок.
Культ святых, противоречащий единобожию и широко распространенный в странах Магриба, составлял религию сельских жителей и включал в себя верования и обряды, характерные для доисламского язычества. Известный исламовед И. Гольдциэр писал: «Почитание святых стало оболочкой, под которой внутри ислама могли сохраняться уцелевшие остатки побежденных религий».
В обществе, где вся жизнь пропитана религией, для правоверного нет четкой грани между светским и духовным, между действительным и сверхъестественным. Потусторонний мир для него так же реален, как сказочно одухотворен мир земной3. Практический ум арабского кочевника или земледельцы даже более доверчиво относится к способности живого марабута творить чудеса, чем отошедшего в мир иной.
Прижизненным ореолом святости окружен и Махи ад-Дин. И он слывет в народе чудотворцем. Марабут не только тому не противится, но всемерно поощряет распространение слухов о своей богоизбранности. Да и сам он не испытывает никаких сомнений на этот счет.
Разве не отмечен он божественной благодатью бараки? И разве не исполнена она чудодейственной силы? Говорил же о себе — да не усомнится в его словах ни один правоверный! — изначальный обладатель бараки, основатель братства Абд-аль-Кадир, который согласно легенде провел последние 50 лет своей жизни на вершине горы, стоя на носке ноги. «Еще до своего восхода солнце приветствует меня; до своего начала год приветствует меня и сообщает мне, что прей изойдет в течение его. Клянусь царственным величием Аллаха, что я различаю благочестивых и проклятых, которых проводят передо мной, и что зеница моих очей прикована к хорошо хранимой Скрижали судеб. Я погружаюсь в море науки Аллаха. Я видел его своими глазами. Жизнью своей я свидетельствую существование Аллаха. Я — наместник Пророка и его наследник на земле».
Религиозное самовозвышение не зазорно для праведника, ибо — и в этом убежден всякий правоверный — сам аллах вещает его устами. И когда Махи ад-Дин внушает своей пастве веру в мессианское предназначение его рода, он встречает трепетный и глубокий отклик.
Влияние марабута растет. Умножается число его приверженцев. Крепнет сила их преданности своему вождю.
Но доведется ли ему повести на битву святое воинство? На него ли указует перст всевышнего? И если не на него — на все воля аллаха! — то кто из его потомства унаследует эту миссию? В книгу судеб не заглянешь. Волю пророка не предугадаешь. А старость надвигается и все настойчивей требует ответа на мучительные вопросы.
И все явственней слышится ответ старому марабуту в лепете младенца, который покоится на руках третьей его жены Лаллы Зорги.
Неизвестно, что побудило шейха из пяти сыновей, подаренных ему четырьмя женами, избрать своим духовным наследником именно сына Лаллы, рожденного ею 15 числа месяца Реджеба 1223 года хиджры по мусульманскому, 6 сентября 1808 года по христианскому летосчислению. Откровение ли свыше? Земной ли расчет? А может быть — многоженство тому не помеха, — возвышенная любовь к Лалле Зорге?
Как бы там ни было, именно ее сын с момента своего рождения стал для Махи ад-Дина будущим мессией, который воспримет от него асабийю — в племени, бараку — в братстве. Именно в его имени марабут решил запечатлеть сокровенную связь с основателем ордена, назвав новорожденного Абд-аль-Кадиром. А чтобы окружающие, да и сам избранник уверовали в предуготованную ему судьбу, умудренный опытов шейх прибег к услугам легенды — испытанной повитухи всякого мессии.
Сама природа — так возжелал аллах — отметила появление на свет Абд-аль-Кадира, сопроводив это событие удивительными знамениями. Затих ветер в пустыне. Умерило свой жар солнце. Недвижно застыла вода в реке Хаммам. Неземным ароматом заблагоухали цветы. Вся Гетна озарилась сиянием, которое, затухнув, оставило на небе огненные знаки, указующие, по разумению сведущих людей, великое будущее сыну марабута.
Отец хочет повторить себя в сыне.
Воля марабута с фатальной неотвратимостью осуществляет эту цель. Потому что она сливается с волей общества, действуя посредством извечно установленных в нем обычаев и традиций, воплощаясь в непререкаемо обязательные для всех его членов племенные и религиозные установления. Воля марабута выступает как орудие догмата предопределения, одного из главных в исламе. «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах», — утверждает коран (9:51)[2]. Все наши дела и помыслы записаны еще до сотворения мира на «тщательно охраняемой скрижали».
И когда для свершения первого возрастного обряда отец ввел двухлетнего Абд-аль-Кадира в середину круга, образованного многочисленными родственниками и старейшинам племени, мальчик являл собою для окружающих будущего махди. Старуха обрила ему голову, бросила волосы в горшок с горящими углями и, прошептав над ним подобающие заклинания, развеяла пепел по ветру. Мальчика облачили в первый в его жизни бурнус — в последнем он, как и подобает доброму мусульманину, сойдет в могилу, — и он тем самым взошел на первую ступень возмужания и одновременно сделал начальный шаг по той стезе, которую прочил ему отец.
Марабут не ошибся в выборе продолжателя своего дела. Мальчик был чрезвычайно одарен. Факт этот удостоверен не легендой, а вполне заслуживающими доверия свидетельствами современников. Уже на пятом году Абд-аль-Кадир самостоятельно читал коран и палочкой, обмакнутой в чернила, выписывал оттуда стихи на дощечку красного дерева, покрытую белой глиной. Его память хранила множество молитв, сур — глав корана и хадисов — рассказов, входящих в мусульманское священное предание — сунну. Он часто читал их наизусть умиленному отцу, который и следил за обучением мальчика.
Начальное образование Абд-аль-Кадир получил в отцовской завийе — своего рода марабутском монастыре, который состоял из мечети, школы и странноприимного дома. Здесь под руководством шейха дети, кроме корана и сунны, познавали начала арифметики, грамматики, географии, арабской истории и литературы. В Алжире, как, впрочем, и во всем арабском мире, почитание грамотности и культуры вошло в народную традицию. Выбросить в мусор даже маленький клочок бумаги, исписанной арабскими буквами, считалось недопустимым святотатством.
В семь лет Абд-аль-Кадир прошел второй возрастной обряд — обрезание, таинство, посвятившее его в новый период физического и духовного созревания. Отнятую плоть, поместив в горшок, закопали в укромном месте за окраиной Гетны, дабы никакой злоумышленник не имел к ней доступа и не мог причинить вреда посвященному путем магических над ней действий.
Вслед за этим для Абд-аль-Кадира — много раньше, чем его сверстников, — стали обязательными пять ежедневных молитв: на заре, в полдень, во второй половине дня, при заходе солнца и в начале ночи. Совершив омовение — «чистота — половина веры», по священному преданию, — и обратив лицо к Мекке, правоверный совершает ритуальную молитву, скрупулезно соблюдая очередность поз и заклинаний. Стоя, руки на уровне плеч, произносит: «Аллах превелик», вложив левую руку в правую, читает «Фатиху» — первую суру корана, коснувшись ладонями колен, выпрямившись и подняв руки: «Аллах слушает того, кто воздает ему хвалу»; становится на колени, прикладывает руки к земле и, распростершись, касается носом земли; присаживается, не вставая с колен, и простирается вновь.
Этот ряд положений образует один ракат. На утренней заре молитва состоит из двух ракатов, на вечерней — из трех, остальные три молитвы включают по четыре раката. После каждых двух ракатов мусульманин произносит шахаду — формулу исповедания веры: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха». Заканчивается молитва словами: «Да пребудет на вас благословение и милосердие Аллаха».
И так пятикратно в сутки, изо дня в день, в течение всей сознательной жизни, за исключением предусмотренных кораном случаев: болезни, стихийных бедствий и т. п. Само выполнение мусульманских обрядов и молитв, с их застывшим ритуалом, канонически строгой периодичностью и последовательностью, прививает правоверному фатализм. От рождения до смерти его жизнь заранее размечена непрерывной чередой культовых вех — от обряда к обряду, от молитвы к молитве. И эта ритуальная предустановленность оборачивается в его сознании предопределенностью жизненного пути.
Когда Абд-аль-Кадиру минуло 14 лет — грань, отделяющая мальчика от мужчины, — для него не существовало иного жизненного пути, кроме того, ставшего фатально необратимым, который предначертал ему отец. Сравняться с марабутом в святости. Повторить его в мирском и духовном исполнении асабийи и бараки. Продолжить его в мессианской борьбе против иноземных захватчиков. Не было для юного Абд-аль-Кадира целей более возвышенных. И не было таких жертв, которых, если бы то понадобилось, он не принес во имя их достижения.
22 мая 1822 года появление на небе молодой луны возвестило о наступлении мусульманского месяца рамадана, в течение которого правоверные постятся, воздерживаясь от еды в дневное время и добавляя к обычным молитвам еще одну в двадцать ракатов. Выполнив все эти требования впервые в жизни, четырнадцатилетний Абд-аль-Кадир получил право свидетельствовать на суде и разрешение на женитьбу. Он не замедлил воспользоваться этим разрешением, женившись через некоторое время на дочери своего дяди четырнадцатилетней красавице Лейле Хейре: девочки у мусульман столь же рано становятся женщинами, как мальчики — мужчинами. Отныне Абд-аль-Кадир — полноправный мусульманин, ответственный член племени и братства. К этому времени сын марабута далеко продвинулся в постижении корана и сунны, в изучении трудов арабских мыслителей. Главный наставник Абд-аль-Кадира, кади — суды города Арзева Бен-Тахир, улема — ученый, богослов и правовед, был широко образованным человеком. Он воспитывал своего ученика в традициях магрибской культуры, исторически обособившейся в развитии мусульманской цивилизация Она сложилась на основе доисламской культуры берберского населения, впитавшей в себя сильную и глубокую цивилизацию Арабского Востока и утонченно-изысканную культуру мавританской Испании.
Абд-аль-Кадир познакомился с трудами великого арабского историка Абдаррахмана Ибн Халдуна, долгое время пребывавшего в Магрибе в XIV веке, создателя классической «Книги поучительных примеров по истории арабов, персов берберов и народов, живших с ними на земле». В его знаменитых «Пролегоменах», энциклопедии средневековой арабской науки, есть в ряду других и такая материалистическая мыслью противная самому духу мусульманской теологии. «Различия, существующие в обычаях и учреждениях разных народов, зависят от того, каким образом каждый из них обеспечивает свое существование».
Зачатки диалектики Абд-аль-Кадир мог бы воспринять учении о «двойственной истине», созданном крупнейшим арабским мыслителем средних веков, последователем Аристотели Ибн-Рошдом, больше известным в Европе под латинизированным именем Аверроэса. Он также долго жил в Магрибе XII веке, после того, как халиф изгнал его из родной Кордовы. Но Бен-Тахир, ревностный поборник чистоты ислама, знакомил своего ученика с крамольными мыслями арабских ученых лишь для того, чтобы показать ему, что и великие могут заблуждаться. Для него существовала только одна наука, объяснявшая все остальные, — богословие, и только одна истина, — та, которую содержит коран.
Правовая догматика, которую преподавал учитель, покоилась на маликизме, одном из самых строгих течений, издавна преобладавшем в магрибском исламе. Его основатель Малик ибн Анас, живший в VIII веке, в своем главном труде «Муватта» («Расчищенная тропа») построил систему права, которая требует от мусульманина строжайшего выполнения всех предписаний, исходящих из корана и сунны.
Более широкий простор юному воображению Абд-аль-Кадира открывало другое течение, столь же широко распространенное в странах Магриба, — суфизм. Это крайне мистическое направление в исламе возникло под влиянием монашеского мистицизма христиан и учения неоплатоников об эманации — истечении материального мира из духовного первоначала — и было направлено против светского характера ислама. Именно суфизм породил марабутские братства с их представлением о бараке — мистической силе, передающейся посредством эманации от одного марабута к другому.
Один из теоретиков суфизма, Ибн Теймийя, так выразил главную мысль этого учения: «Существование сотворенных вещей есть не что иное как существование творца; все исходит из божественной сущности, чтобы в конце концов в нее возвратиться».
Суфизм, близкий по духу к языческому пантеизму, оживил мусульманскую обрядность и вероучение, добавив к молитвам экстатические радения и объявив интуицию той силой, которая только и может постичь абсолютную истину. Согласно учению крупнейшего мусульманского мистика Газали, пытавшегося примирить каноническое богословие с суфизмом, только «божественный культ сердца, внутренняя молитва позволяют приблизиться к богу».
Суфизм оказал сильное воздействие на магрибскую и испано-мавританскую литературу, особенно на андалузскую школу поэзии, поклонником которой стал Абд-аль-Кадир. Его стихи — он начал писать еще в детстве — проникнуты возвышенным лиризмом и тонким пониманием природы, характерными, для поэтов этой школы.
Образование, которое Абд-аль-Кадир получил под руководством своего ученого дяди, преследовало одну главную цель: сделать его подлинным сыном ислама. Знание им наизусть всех 114 сур корана считалось основным достижением ученичества. Но вместе с тем он преуспел в изучении истории, географии, астрономии и других наук. К помощи его математических знаний отец прибегал при сложных и запутанных расчетах с купцами и сборщиками налогов.
Когда Абд-аль-Кадиру исполнилось 15 лет, отец отправил его для продолжения образования в Оран. Но мальчик пробыл здесь недолго. Ему претили городские нравы, далекие от чистоты и строгости племенных обычаев, на которых он был воспитан. Он с отвращением смотрел на разряженных надменных отпрысков янычарских сановников, с которыми ему приходилось сидеть рядом на школьной скамье. Сын марабута, привыкший к вольным просторам пустыни, задыхался тесных городских улицах, стиснутых рядами каменных домов Через несколько месяцев отец внял его просьбам и позволив ему вернуться в Гетну.
Абд-аль-Кадир на всю жизнь сохранит неприязнь к городской жизни и любовь к пустыне, воспетой им в стихах:
О
ты, ищущий покоя за каменными
стенами,
Осуждающий
любовь бедуинов,
Не
легкость ли наших палаток страшит
тебя?
Не
твердь ли только городов мила
твоему сердцу?
Если
бы ты знал тайну пустыни, ты
чувствовал бы подобно мне.
Но
ты не ведаешь ее, а невежество —
мать зла.
Если
бы ты пробудился в сердце Сахары,
Если
бы твои ноги погрузились в этот
песчаный ковер,
Усеянный
весенними цветами, похожими на
драгоценные камни,
Ты
восхитился бы ими,
Необыкновенным
разнообразием их оттенков,
Их
изяществом и тончайшим ароматом.
Ты
вдыхал бы их чудесный запах,
который удваивает жизнь,
Ибо
он не осквернен зловонием города.
Если
бы ты вышел звездной ночью,
Освеженной
обильной росой,
И
окинул бы взглядом пространство
вокруг себя,
Ты
увидел бы повсюду вдали
Стада
диких животных,
Щиплющих
благоухающий кустарник.
В
это мгновенье все печали покинули
бы тебя,
Великая
радость охватила бы твою душу.
По возвращении в Гетну Абд-аль-Кадир продолжает самостоятельно постигать науки и литературу. Много времени отдает он и усвоению воинского ремесла. Он с детства привязан к лошадям. Его арабский скакун повинуется малейшему знаку хозяина. Как наездник и стрелок Абд-аль-Кадир не знает себе равных в округе. Стоя на спине скачущей во весь опор лошади, он может без промаха поразить из своего ружья далеко впереди поставленную цель. Он выходит победителем из всех состязаний в верховой езде, не кичась при этом своей удалью с невозмутимым бесстрастием внимая похвалам. Позднее о нем будут говорить: «седло было его троном, ружье — его скипетром».
Юный сын марабута любит уединение. Он целыми днями проводит за книгами в своей комнате, выходя оттуда лишь для совместной молитвы с близкими. Иногда он садится на своего арабского скакуна и сутками в одиночестве скитается по пустыне. Даже на опасную охоту на диких кабанов в лесах предгорий Атласа он предпочитает отправляться без сопровождения.
У Абд-аль-Кадира нет близких друзей среди сверстников. Причина этому — легенда о сыне марабута, обособляющая его от людей. Родившись вместе с ним, она с детства сопутствовала ему, питаясь реалиями его жизни и со своей стороны насыщая ее мифами. Она создавала вокруг юноши некое поле отчуждения, врастала через внушение близких в его самосознание, обретала силу биографического факта и, опрокидывая на него предписанную ему судьбу, устремляла его духовное развитие в мистически заданном направлении.
Среднего роста, худощавый, прекрасно сложенный, Абд-аль-Кадир обладал царственной внешностью — свойством чрезвычайно ценным для вождя в мусульманских странах, где всякий природный изъян в человеке расценивается как отметина нечистой силы. Вот как современник описывает его лицо:
«Классической чистоты линий, оно было необычайно привлекательно своей строгой выразительностью и одновременно почти женской красотой. Его тонко изваянный нос средней между греческой и романской формы и изящно очерченные, слегка сжатые губы выражали сдержанное достоинство и твердость, тогда как большие и блестящие, как у газели, глаза под массивным мраморной белизны лбом то излучали мягкую меланхолию, то блистали мощью ума и силой духа».
Махи ад-Дин, втайне восхищающийся своим сыном, исподволь приобщает его к исполнению его будущих обязанностей племенного шейха и главы марабутского братства. Абд-аль-Кадир сопровождает отца в деловых поездках, присутствует на встречах с чиновниками Оранского бея, участвует во всех мирских и сакральных начинаниях шейха.
Но есть у марабута заветная мечта, осуществление которой должно утвердить в сыне благочестие, зажечь его душу святым огнем, завершить его возмужание. Все это призван свершить хадж — паломничество к святым местам в Аравии. Туда, где возник ислам и где покоится прах его основателей. Где находится Мекка, «мать городов», духовный центр всего мусульманского мира. Здесь в мечети Аль-Кааба хранится величайшая святыня правоверных — «черный камень», который, по их убеждению, оживет в день страшного суда и будет свидетельствовать перед аллахом в пользу тех, кому посчастливилось коснуться его губами.
Не всякому доступно паломничество в земли обетованные! Слишком опасно и дорого это путешествие. Недаром злые языки так говорят о хадже: «Богатые совершают паломничестве для удовольствия; купцы — для того, чтобы заниматься торговлей; читающие коран — из лицемерия, для того, чтобы о них слышали и их видели; бедные — чтобы совершать кражи».
Уже само по себе совершение хаджа возвышает мусульманина над массой правоверных и дает ему право на священное звание — хаджи. Но Махи ад-Дин ждет от путешествия не только этого. По его замыслу, оно расширит знания и углубит ученость Абд-аль-Кадира. Марабут намерен посетить не только святые места, но и древние центры арабской культуры: Александрию, Каир, Дамаск, Багдад. Паломничество призвано увенчать жизнь самого шейха и освятить начало самостоятельной жизни его преемника.
В октябре 1823 года после долгих приготовлений, совершив положенные молитвы, паломники отправились в путь. Весть о хадже марабута и его сыне разнеслась по всей Орании. Отовсюду к ним стекались толпы приверженцев шейха, чтобы проводить его и выразить тем свое сопричастие великому предприятию. На второй день путешествия пилигримов сопровождали уже сотни всадников, на третий день — тысячи, а когда еще через день марабут остановился на привал в долине реки Шелифа, его шатер окружало целое море палаток.
Здесь паломничество было прервано. Встревоженный бей послал погоню за марабутом. Памятуя о той роли, которую Махи ад-Дин сыграл в Оранском восстании, бей испугался, что шейх воспользуется огромным стечением вооруженных арабов для начала нового мятежа. Прискакавшие в лагерь янычары передали ему повеление бея: немедленно вернуться вместе с сыном в Оран. Толпа разгневанных арабов готова была разорвать на куски посланцев. Но шейх, не желавший подвергать опасности жизнь сына, смирил своих подданных и, повинуясь приказу, направился в Оран.
Два года паломники находились на положении почетных ленников оранского бея. Шейха и его сына не лишили свободы передвижения и занятий в пределах города, но повсюду, паже в мечети, их неотступно охраняла стража. Абд-аль-Кадир использовал вынужденный досуг для углубления своих познаний в науках и литературе. Здесь он начал собирать библиотеку, которая всю жизнь будет повсюду следовать за ним.
Наконец, в 1825 году оранский бей, уверившись в отсутствии у пленников дурных намерений, дал разрешение на продолжение хаджа. Чтобы избежать повторения шумных проводов, марабут решил не возвращаться в Гетну. Прямо из Орана он вместе с сыном отправился в Тунис, где они присоединились к одному из караванов паломников. В начале 1826 года они уже были в Аравии.
Паломничество продолжалось почти три года. Все задуманное было выполнено. В Мекке пилигримы целовали «черный камень» и совершали омовение водой из священного источника Земзем. В Медине они молились у могилы пророка Мухаммеда. В Багдаде поклонялись усыпальнице основатели своего братства, святого Абд-аль-Кадира.
Во всех городах, в которых побывали марабут и его сын, они встречались для ученых бесед со знаменитыми улемами, посещали библиотеки, мусульманские школы и университеты. Во время путешествия Абд-аль-Кадир основательно изучил арабские переводы трудов античных мыслителей, что очень помогло ему постепенно преодолевать религиозный догматизм, привитый ему ранее. Наблюдения, сделанные в период пребывания в Египте, содействовали оформлению его взглядов на социально-политическое устройство общества.
Египет в то время переживал эпоху глубоких преобразований, вызванных реформами его правителя Мухаммеда Али. К. Маркс называл этого деятеля «единственным человеком» в Османской империи, который стремился «...добиться того, чтобы «парадный тюрбан» заменила настоящая голова»[3]. Подобно Петру I, с которым он любил себя сравнивать, Али был реформатором, пытавшимся вырвать свою страну из средневекового оцепенения.
Мухаммед Али уничтожил в Египте власть мамлюков — египетских янычар и отобрал у мусульманского духовенства земельные владения. Он создал по европейским образцам государственный аппарат, строил фабрики и заводы, основал первые в Египте светские школы и начал издавать первую газету. Сам он, кстати, до 45 лет оставался неграмотным. Мухаммед Али посылал в Европу молодых египтян для обучения светским наукам. Его регулярная армия, созданная по уставам Наполеона, была самой боеспособной на мусульманском Востоке. Один наполеоновский маршал писал о египетской артиллерии: «Эту превосходную артиллерию можно сравнить с артиллерией европейских армий. Смотря на нее, невольно дивишься могуществу власти, преобразовавшей феллахов в столь добрых солдат».
Ознакомление с нововведениями Мухаммеда Али поколебало веру Абд-аль-Кадира в незыблемость порядков, устоявшихся в мусульманских странах. В новом свете предстали для него и те возможности, которые открывал путь, предуготованный ему старым марабутом.
Посетив еще раз Мекку, паломники двинулись на родину. Изрядно поиздержавшиеся — более всего на покупку книг, они вынуждены были на обратной дороге перейти на содержание своих соотечественников, возвращавшихся из хаджа в жир. В начале 1828 года они прибыли в Гетну, которая встретила их всеобщим ликованием. Подданные уже давно с нетерпением дожидались марабута. За время его отсутствия в ней произошли события, которые предвещали алжирскому народу тяжелые испытания.
Удар опахалом
Это случилось в ясный весенний день 29 апреля 1827 года. Было жарко. В покоях алжирского дея кружили мухи. Хусейн-дей нервно отмахивался от них опахалом. Настроение у дея было неважное. А тут еще этот консул Деваль. О аллах! Что надо этому неверному? Разве он не видит, что дей не расположен сейчас заниматься государственными делами? И Хусейн-дей, словно отмахиваясь от назойливой мухи, бьет консула по лицу опахалом.
Какой позор! Какое оскорбление представителю великой Франции! И дей еще отказывается принести извинения! Война, только победоносная война может смыть это оскорбление! Франция не потерпит, чтобы пусть и сиятельный турок столь унизительно обращался с ее достойнейшими сыновьями. Вив ля Франс! Гренадеры, вперед! Преподайте своими штыками урок вежливости этим заморским варварам.
В таком примерно виде в течение почти полутора веков изображали французские учебники истории причины и начало колониального захвата Алжира. Жан Блотьер, автор книги об Алжире, изданной сравнительно недавно, в 1955 году, пишет: «В 1827 году Хусейн (дей Алжира) ударил ручкой опахала консула Деваля, которому было поручено объяснить причины опоздания в урегулировании' вопроса о платежах по займу. Перед лицом такого серьезного оскорбления, нанесенного представителю Франции, Карл X потребовал удовлетворения и принесения извинений, в которых ему было отказано...»
В действительности все обстояло иначе.
Еще в эпоху Французской революции алжирский дей начал поставлять во Францию крупные партии зерна, пеньки и других товаров. Поставки продолжались и в период наполеоновских войн. Они совершались обычно в кредит, при посредничестве ливорнских коммерсантов. В 1819 году французское правительство произвольно сократило почти в три раза сумму задолженности Алжиру. Причем и оставшуюся часть выплатило не алжирскому дею, а купцам-посредникам.
Именно в это время в Алжире появляется консул Деваль, затеявший темные махинации вокруг французских долгов. Этот «сын Франции» был на деле беспринципным проходимцем, которого современники характеризовали как «сводника и мошенника». В 1826 году дей, обнаруживший очередной обман Деваля, потребовал, чтобы французское правительство отозвало консула. «Я не могу терпеть у себя этого интригана, — писал дей. — Если прибудет новый доброжелательный консул, ему будет оказано всевозможное почтение, так как Франция рассматривается как нация, наиболее тесно связанная с нами».
Это пожелание не было выполнено. А 29 апреля 1827 года Деваль, явившись на прием, нанес дею преднамеренное оскорбление. Хусейн предложил ему выйти. Деваль нагло отказался. Тут-то и случился инцидент с опахалом. Французское правительство, искавшее повода для вторжения в Алжир, расценило Удар как «покушение на честь Франции», хотя дей неоднократно уверял его, что пощечина предназначалась только лишь наглому дельцу.
Франция
разорвала с алжирским деем все
отношения. Французский флот
установил блокаду побережья Алжира.
Для того чтобы «смыть оскорбление»,
нанесенное опахалом от мух, готовился
огромный экспедиционный корпус.
Уже тогда европейская печать
находила повод для нападения на
Алжир смехотворным. Австрийский
канцлер Меттерних цинично заметил
на этот счет: «Из-за одного удара
веером не расходуют сто миллионов
франков и не рискуют сорока
тысячами солдат».
Захватить рынки сбыта и источники сырья. Заполучить даровую рабочую силу. Установить господство на торговых путях в Средиземном море. Таковы были истинные цели французского завоевания Алжира. И диктовались они интересами французской буржуазии, с острой завистью взиравшей на колониальные успехи британского капитализма.
Правда, непосредственно перед нападением на Алжир буржуазия, за исключением марсельского купечества, выступала против экспедиции. Инициативу взяло на себя правительство короля Карла X. Объяснялось это внутренним положением во Франции. В стране назревала новая буржуазная революция, направленная против реставрированной после падения Наполеона монархии.
Захватом Алжира король хотел укрепить шатающийся трон, дать землю дворянам, лишившимся своих владений в период Великой Французской революции, удовлетворить реваншистские устремления офицерства, травмированного поражениями в период крушения наполеоновской империи. Именно поэтому буржуазная оппозиция называла алжирскую экспедицию «одной из самых глупых затей, когда-либо задуманных правительством».
Однако она заговорила другим языком как только июльская революция 1830 года — в самый разгар алжирской экспедиции — свергла Бурбонов и на французском троне оказался «король-буржуа» Луи-Филипп. Военный министр нового правительства генерал Жерар заявил теперь без всяких обиняков:
«Это завоевание отвечает самой настоятельной необходимости, тесно связанной с интересами поддержания общественного порядка во Франции и во всей Европе: оно даст выход; нашему избыточному населению и обеспечит рынки, куда мы' сможем направить товары наших мануфактур в обмен на недостающие нам продукты».
Идея о захвате Алжира родилась не вдруг. Она уже давно вынашивалась крупным французским капиталом. Еще Наполеон сделал первый шаг в ее осуществлении. В 1808 году он послал в Алжир военного инженера Бутэна с секретным заданием произвести топографическую съемку прибрежной части страны и разработать план военного вторжения. Труды Бутэна не пропали впустую. Его доклад был извлечен из архивов военного министерства и послужил практическим руководством для военной экспедиции в Алжир.
Несмотря на то, что в целом французский капитал в то время выступал против алжирской авантюры короля, экспедиция все же была оплачена буржуазией. Торговые фирмы Марселя, особенно заинтересованные в захвате и пренебрегшие потому политическими интересами буржуазной оппозиции — в подобных случаях в буржуа барышник всегда берет верх над политиком — снабдили армию транспортными судами, боеприпасами и даже навербовали для нее пять тысяч матросов.
Командование над экспедицией взял на себя сам военный министр маршал Бурмон, презираемый во Франции за дезертирство под Ватерлоо. Пожертвовав своим высоким постом, он надеялся победой в Алжире смыть с себя позор и «восстановить воинскую честь».
Это была самая крупная морская экспедиция из когда-либо предпринимавшихся Францией ранее. Она состояла из 100 военных и 500 транспортных кораблей, которые доставили в Алжир 37 тысяч французских солдат.
14 июня 1830 года экспедиционный корпус высадился на небольшом полуострове Сиди-Фарух, в двадцати километрах к западу от столицы Алжира. Слабое и примитивно вооруженное янычарское воинство не могло оказать французам сколько-нибудь серьезное сопротивление. После того как дей собрал своих воинов из всех четырех провинций и конницу покорных ему арабских шейхов, в его распоряжении оказалось около 30 тысяч солдат, недисциплинированных и плохо вооруженных. 19 июня французская армия разгромила лагерь дея на плато Стауэли, а 4 июля осадила город Алжир. После нескольких часов артиллерийского обстрела дей понял, что защитить город невозможно, и согласился на капитуляцию.
Маршал Бурмон обещал выполнить следующие условия сдачи Алжира: дею гарантируется сохранение жизни и личной казны; он вправе удалиться со своей семьей и своим имуществом куда пожелает; те же права предоставляются янычарам; жителям города гарантируются свободное отправление их культа, неприкосновенность их жен и собственности. Статья 5-я Акта о капитуляции Алжира гласила: «Свобода, религия, имущество всех сословий, а также их торговля и промышленность никак не пострадают. Главнокомандующий честью клянется в этом».
В полдень 5 июля 1830 года ворота Алжира были открыты янычарами. Французские войска вступили в город. Видимо, выполнение обязательств, взятых на себя перед побежденными, не входило в понимание маршалом «воинской чести». Резиденция дея была разграблена, государственная казна Алжира расхищена. В домах богатых алжирцев безнаказанно бесчинствовали мародеры, убивая людей за малейшее сопротивление.
Казалось бы, французское правительство получило по, удовлетворение за столь для него обидный удар опахалом. Но не тут-то было. Оказалось, это только начало. Карл X писал на этот счет: «Я захватил Алжир, руководствуясь лишь соображениями достоинства Франции, я сохраню его, руководствуясь лишь ее интересами».
С самого начала французское нападение на Алжир было рассчитано на полное подчинение страны. Уже в первые оккупации завоеватели уничтожили верховный аппарат государственной власти в Алжире. В конце июля 1830 года дей был выслан из страны. Вслед за ним перебрались в Турцию янычары. На территории Алжира возникла первая на Арабском Востоке европейская колония.
Легко сломив сопротивление янычар, французские генералы поначалу предполагали, что завоевание Алжира будет чем-то средним между увеселительной прогулкой и военными играми. Де Бурмон писал в рапорте о захвате Алжира: «Все королевство подчинится нам в пятнадцать дней без единого выстрела».
Маршал
оказался плохим пророком.
Янычарское государство рухнуло под первым же ударом завоевателей потому, что оно не имело социальной опоры народе, держалось на грубом насилии и служило исключительно интересам иноземных властителей. Поэтому арабское население не выступило на его защиту. Но как только французы попытались продвинуться из прибрежных городов в глубь страны, они встретили ожесточенное сопротивление алжирцев.
Когда же арабы познакомились с методами французской колонизации страны, сопротивление выросло во всенародную войну. Эти методы по жестокости превзошли все то, что видел Алжир со времен нашествия вандалов на Северную Африку. Непосредственный очевидец событий, французский историй Кристиан так описывает один из рейдов оккупационных войск: «По приказу главнокомандующего генерала Ровиго ночью 6 апреля 1832 года военный отряд вышел из Алжира и на рассвете, когда племя эль-уффия спало в палатках, неожиданно напал на него. Прежде чем кто-либо успел сделать хоть малейшую попытку защититься, все живое было уничтожено.
Возвращаясь из этой постыдной экспедиции, наши кавалеристы несли отрубленные головы на остриях пик. Весь захваченный скот был продан консульскому агенту Дании, остальная часть окровавленных трофеев, добытых в ужасающей резне, была выставлена на продажу на базаре у ворот Баб-Азун. Можно было видеть страшные вещи: женские браслеты с отрубленными кистями рук и серьги с висящими на них мочками. Вырученные деньги были разделены между головорезами, а в приказе по армии от 8 апреля генерал одобрил этот позор и выразил глубокое удовлетворение проявленными войсками рвением и находчивостью. Вечером полиция приказала алжирским маврам иллюминировать свои лавки...»
Бедствие, обрушившееся на Алжир, внесло великое смятение в устоявшийся уклад жизни арабских племен. С уничтожением верховной власти, которая, несмотря на ее слабость, выступала как объединяющая сила, государство распылилось на множество почти несвязанных между собой мелких и мельчайших шейхств, религиозных братств, сельских и городских общин. Ахмед-бей — в Константине, бей Бу Мезраг — в Медее, Хусейн-бей — в Оране отказались признать власть Франции и объявили себя независимыми государствами. Их примеру следовал каждый феодал, имевший хотя бы два десятка вооруженных всадников, чтобы отбиться от соседа. Выступал, однако, такой феодал против французов лишь тогда, когда они вторгались в его владения. Ибо для него соседний шейх нередко представлялся таким же чужеземцем, как француз. Повсюду возникали междоусобные столкновения. По дорогам брели толпы беженцев, спасавшихся либо от французов, либо от разбойничьих шаек, чрезвычайно размножившихся в то время,
Царивший по всей стране политический хаос в Орании усиливался вследствие нападений арабских племен на турецкий гарнизон, остававшийся в центре провинции. После того, как в январе 1831 года французы захватили город Оран и выслали оттуда янычар вместе с Хусейн-беем за пределы Алжира, обстановка еще более обострилась.
Шейхи нескольких крупных племен, обитавших в Орании, обратились к Махи ад-Дину с предложением возглавить войну против захватчиков. У них для того были веские резоны, Старый марабут — самый влиятельный человек в Орании. Под его началом крупное и сплоченное племя. Ему фанатично предано братство Кадирия. Он сведущ в военном деле и опытен в искусстве устранения межплеменных раздоров. У него есть все, чтобы стать вождем народной войны.
Казалось, настал час для осуществления мессианских замыслов марабута. Казалось, он без раздумий должен ухватиться за предложение шейхов. Но Махи ад-Дин рассудил иначе. Он стар и немощен. Давно уже все его честолюбивые надежды обращены на сына. Предложить вместо себя Абд-аль-Кадира он сейчас не может: сын молод, нет у него еще ни опыта, ни авторитета. Если же марабут возьмет на себя миссию вождя и не справится с ней, то неудача отрежет сыну путь к высшей власти. А это весьма возможно. Слишком зыбко положение стране. Слишком силен противник.
Марабут указал иной выход, изложив свои соображения ответном послании шейхам.
«Турецкая тирания, — писал Махи ад-Дин, — подавляла и подрывала дух нашего народа, а сохранение нынешнего положения может повлечь за собой полное его уничтожение. Связи между людьми разрушены. Каждый поднял руку на соседа. Народ, предоставленный своим страстям, ежедневно нарушает законы бога и человека.
Что же нам делать? Призвать французов? Невозможна! Покориться им, а тем более призвать их было бы изменой нашему богу, нашей родине и нашей вере.
Французы — воинственная нация, они многочисленны, богаты и жаждут побед. А что мы можем им противопоставить? Племена, враждующие друг с другом; своекорыстных и жадных вождей, стремящихся к личному возвышению; общины, отвергающие всякую власть, одни из которых обогащаются грабежом, другие едва удерживают свое имущество? Силы слишком неравны. При таком положении дел даже представить себе успешную борьбу с неверными было бы глупостью, а начать ее — безумием. Нет, могущественному французскому королю может быть с успехом противопоставлен только такой властелин, который, подобно ему, стоит во главе хорошо организованного государства, располагает богатой казной и послушной армией. Нам нет нужды далеко ходить за таким королем. Султан Марокко уже выражал нам свое сочувствие. Он хорошо знает, что внешняя опасность, которая угрожает нам, может в конце концов обернуться и против него. Его присутствие воодушевит и укрепит нас. Порядок будет установлен. Борясь под его началом, мы добьемся победы, ибо его знамена — знамена бога и пророка».
Махи ад-Дин сумел убедить оранских шейхов в том, что предложенный им выход является единственно разумным в создающейся обстановке.
В середине 1831 года алжирское посольство, сопровождаемое конным отрядом и караваном с подарками, прибыло в столицу Марокко город Фес. Султан Мулай Абдаррахман, соблазненный возможностью расширить свое царство, обласкал оранских шейхов и обещал поддержку. Однако султан не торопился с выполнением своего обещания: он опасался восстановить против себя французское правительство. Только через полгода Абдаррахман решился послать в Алжир войско из пяти тысяч всадников, возглавленных его сыном Мулай Али.
Марокканцы, встречаемые повсюду приветственным ликованием алжирцев, вступили в Оранию и заняли древний алжирский город Тлемсен. Махи ад-Дин, сопровождаемый Абд-аль-Кадиром, отправился в Тлемсен, чтобы заверить марокканского принца в своей преданности. За ним последовали почти все шейхи крупных оранских племен. В Тлемсен стекались многочисленные отряды арабских воинов. Город мог бы стать центром освободительной борьбы против французских захватчиков. Но не стал. Французское правительство предъявило марокканскому султану ультиматум: тот должен либо вывести войска из Алжира, либо вступить в войну с Францией. Султан уступил. По его повелению Мулай Али вернулся в Марокко, оставив в Тлемсене гарнизон во главе с пашой Бен-Нуной.
Алжирцы вновь оказались предоставленными самим себе.
Махи ад-Дин призвал арабские племена к джихаду — «священной войне» против французов. За короткое время он собрал войско в несколько тысяч человек и повел его на штурм Орана. Арабы атаковали Ханк-ан-Натах, крепость на южной окраине города. План штурма составил Абд-аль-Кадир. Он же лично руководил осадой крепости.
Сражение началось атакой арабской конницы, которая загнала в крепость французский отряд, пытавшийся защитить подступы к Орану. После этого алжирцы, спешившись, бросились на штурм. Абд-аль-Кадир, одетый в алый бурнус, появлялся на своем арабском скакуне в самых жарких местах битвы. Сильный орудийный и ружейный огонь со стен крепости заставил алжирцев отступить. Часть осаждавших осталась под стенами в крепостном рву. Плотный огонь неприятеля отрезал их от основных сил арабов. У них кончились боеприпасы. Несколько сот алжирцев оказались совершенно беззащитными под дулами французских пушек. Никто не отважился прийти к ним на помощь. Тогда Абд-аль-Кадир сбросил бурнус, наполнил его ружейными зарядами и сквозь град пуль прорвался на своем скакуне в крепостной ров. Под его руководством воины сумели без потерь отойти от крепости.
В этом бою родилась легенда о неуязвимости Абд-аль-Кадира, которая сопутствовала ему в последующие годы и немало содействовала укреплению его авторитета у суеверного мусульманского воинства. Он и впрямь словно был заговорен от вражеских пуль. При осаде Оранской крепости под ним была убита лошадь, его бурнус был изрешечен пулями. Но и в этом и в многочисленных других сражениях он неизменно выходил невредимым из своих горячих схваток. Лишь однажды, спустя несколько лет, пуля оторвала ему часть уха. Это ранение тщательно скрывал от своих солдат, дабы они не усомнились в его неуязвимости.
Первый бой с французами не принес успеха алжирцам. В нем обнаружились все недостатки племенного ополчения: отсутствие дисциплины и организованности, слабость вооружения, незнание тактики современного боя. Нужно было срочно устранять эти недостатки. Но прежде нужно было найти вождя, который сплотил бы народ и возглавил борьбу против захватчиков.
В ноябре 1832 года в городе Маскаре собрался совет племенных шейхов, на котором вновь было решено просить Махи ад-Дина принять титул султана. И вновь марабут отказался. Но на этот раз он решил, что настала пора осуществить свою заветную цель. «Пророк открыл мне, — заявил он шейхам, — что султаном должен стать сын мой Абд-аль-Кадир. Ибо, как сказал мне пророк, если я приму на себя обязанности султана, то мой сын умрет; если это сделает он, та же участь постигнет меня. Для меня поэтому нет иного выбора». Замечательные слова, свидетельствующие о мудрости и величии Махи ад-Дина. Высшая воля пророка — кто осмелится противиться ей! — предопределила выбор вождя. Самоотверженность марабута — кто усомнится в ней! — удостоверила истинность этого выбора. Это не просто риторический прием или ловкий политический ход. Марабут верил в то, что говорил. В этом действительно нельзя усомниться. И шейхи разделили его убежденность, признав предложенный им выбор откровением свыше.
Но при всем том слова Махи ад-Дина не нашли бы отклика у шейхов, не будь они подкреплены легендой и самой личностью Абд-аль-Кадира, являвшей собой очевидное воплощение всех достоинств, необходимых народному вождю.
Шейхи единодушно согласились с предложением марабута. Абд-аль-Кадир, призванный на совет, ответил на их решение словами, достойными сына своего родителя: «Моя святая обязанность — повиноваться повелениям моего отца». 25 ноября 1832 года крупные Оранские племена хашим, бени-аббас, гараба и бени-меджахар признали 24-летнего Абд-аль-Кадира своим верховным вождем. Чтобы не портить отношений с марокканским правительством, он отказался принять титул султана и удовольствовался званием «эмира аль-муминим» — «принца правоверных». В тот же день утром он в сопровождении шейхов и военачальников выехал к войску, стоявшему лагерем в долине Эрсибиа. Здесь его ожидали Ю тысяч всадников, выстроенных по племенам вокруг шатра. Абд-аль-Кадир подскакал к шатру и спешился. Махи ад-Дин взял его за руку и, обращаясь к войску, произнес речь, которая заканчивалась так:
«Будьте преданны и повинуйтесь эмиру, поставленному над вами волей Пророка! Повинуйтесь ему так же, как вы повиновались бы мне! Он всегда будет находиться под защитой Аллаха».
Воины, оценившие уже доблесть Абд-аль-Кадира по оранскому сражению, с восторгом приняли юного эмира. Под приветственные крики он объехал строй всадников и обратился затем к ним со страстной проповедью джихада, которую закончил клятвой:
«Я буду поступать только по закону корана, одного корана, и только корана. Если мой брат преступит этот закон, у меня ни на мгновение не дрогнет рука убить его».
После этого Абд-аль-Кадир вернулся в Маскару. Уединившись в своем доме, он сочинил воззвание к алжирским племенам. Размноженное писцами, оно было отправлено к шейхам племен Сахары, жителям городов, горским племенам Атласа.
«Жители Маскары, Восточной и Западной областей, их соседи и союзники, — писал эмир, — единодушно согласились поставить меня во главе народа нашей страны, поклявшись быть преданными мне, повиноваться мне в счастье и несчастье, в беде и радости и посвятить себя, своих сыновей и свое имущество великому и святому делу.
Я принял
на себя эту тяжкую ношу, надеясь
послужить делу объединения
правоверных, преодолению
разногласий между ними,
обеспечению всеобщей безопасности
народа, подавлению произвола и
беззакония, изгнанию и уничтожению
врага, который вторгся в нашу
страну, чтобы надеть ярмо на наши
шеи».
ТРОПОЙ
ГЕРОЯ
Мифы и действительность
История обладает собственной логикой, которая обнаруживается в законосообразности свершающихся событий. Постигая эту логику, историк осмысливает исторические факты в их совокупном развитии и оценивает их значение. Только так и можно как-то объяснить течение жизни человечества, называемое историей, и найти в этом вселенском течении некий смысл.
Но нередко случается и так, что логику для истории придумывают сами историки. В меру провиденциальности их сознания. В соответствии со своими интересами, убеждениями, вкусами, личными и социальными. При этом историк превращается в лицо, сочиняющее историю. Выступая в этой роли, он толкует факты согласно такой «логике истории», которая реально есть продукт его собственного сознания, либо коллективного сознания той социальной группы, к коей он принадлежит. В итоге все «алогичное» объявляется внеисторичным, факты схематизируются, связи между ними омертвляются, иллюзии выдаются за действительность, действительность выглядит иллюзией. Личности же, противные этой «логике», считаются как бы исторически необязательными, самое их возникновение относится в область непостижимо случайного, чуть ли не мифического.
Если среди всеобщего святотатства появится вдруг святой, станут допытываться, не аист ли его принес. Если народ, известный своими добродетелями, окажется под деспотической властью тирана, примутся искать глупца, который выпустил джинна из бутылки. Если во главе великой империи утвердился шут несусветный, скажут, что он возник из стручка гороха.
Нечто подобное произошло и с героем нашей книги в трудах французских историков XX века правого и либерального толка. По их просвещенному мнению, Абд-аль-Кадир в исторические личности произведен... французскими же генералами, мемуаристами и историками, но века девятнадцатого. Крупный французский историк М. Эмери утверждает, что славой своей Абд-аль-Кадир обязан французам. На том же стоят Ж. Ивер, М. Валь, д'Эстейер-Шантерен и ряд других современных историков.
Французские генералы неправомерно вели себя с Абд-аль-Кадиром как с равным противником и преувеличили его значение в своих мемуарах. Историки XIX века неоправданно много писали о нем. Палата депутатов неумеренно дебатировала алжирский вопрос, а французский император выказывал Абд-аль-Кадиру незаслуженно большое внимание. Так якобы возникло представление об алжирском эмире как о национальном герое. Представление, дескать, совершенно нелепое, поскольку, как писал д'Эстейер-Шантерен, автор нескольких книг об Абд-аль-Кадире, алжирская нация «никогда не существовала» и обретается лишь «в воображении европейских романтиков».
Отвечая на такие утверждения, французский марксист М. Эгрето писал в книге «Алжирская нация существует»:
«Истинную природу народных чувств, находивших выражение в сопротивлении, нередко изображают в извращенном виде под тем предлогом, что Алжир тогда еще не конституировался в нацию. Однако этот факт не может служить аргументом. Французский народ правомерно считает Жанну д'Арк н а ц и о н а л ь н о й г е р о и н е й (разрядка автора), а ведь французская нация сложилась намного позже самопожертвования юной лотарингки. Алжирский народ имеет полное право чтить память тех своих сынов и дочерей, самопожертвование которых подготовило алжирское национальное объединение».
В прошлом
веке личность Абд-аль-Кадира
действительно целые десятилетия
занимала французское и в
значительной мере европейское
общественное мнение. Во Франции ему
было посвящено множество книг,
журнальных статей, выступлений
политических деятелей. Редкий из
французских полководцев может
соперничать с Абд-аль-Кадиром по
числу посвященных ему во Франции
книг. Немало писалось о нем и в
других странах. Книги и статьи о
нем выходили в Англии, Германии, Италии.
Имя Абд-аль-Кадира неоднократно
упоминается в работах К. Маркса и Ф.
Энгельса. В 1857 году Ф. Энгельс
написал специальную статью об
Алжире для «Новой Американской
энциклопедии», в которой
значительное место занимает описание
освободительной борьбы алжирцев. В
России в 1849 году вышла книга
полковника генерального штаба М. И.
Богдановича «Алжирия в новейшее
время», целиком посвященная разбору
военных действий между войсками
Абд-аль-Кадира и французской
армией. В 1877 году об эмире писал
капитан Куро-паткин в своей книге «Алжирия».
Об Алжире в то время часто писали «Современник»,
«Сын отечества» и другие русские
журналы.
Немногое из написанного об Абд-аль-Кадире в XIX веке отмечено благожелательностью в подходе и объективностью в оценках. Но в целом знаменитый эмир все же предстает как деятель исторического значения. Да и могло ли быть иначе? Если он в течение многих лет успешно возглавлял сопротивление натиску самой боеспособной в Европе армии, числом более ста тысяч, прекрасно вооруженной и обученной, руководимой лучшими французскими генералами. Как бы пристрастно ни относились к эмиру европейские современники, они были вынуждены ставить его в ряд крупных исторических деятелей столетия. Вот характерное высказывание на этот счет современного Абд-аль-Кадиру французского автора Е. Бареста:
«История найдет, наверное, странным, что какой-то араб, несомненно умный, но не обладавший ни большим войском, ни деньгами, смог в течение пятнадцати лет оказывать сопротивление такому государству, как Франция, что этот простой сын пустыни сумел расстроить планы ученых и стратегических комбинаций генералов, таких, как граф д'Эрлон, генерал Дамремон, маршал Клозель и маршал Бюжо, и что ему, наконец, удалось поставить на грань катастрофы французскую армию, насчитывающую более ста тысяч солдат».
В двадцатом же веке французская официальная историография задалась целью поставить алжирского эмира в ряд тех авантюристов, разбойников, самозванных мессий, которые дюжинами плодятся на Арабском Востоке во все эпохи и времена. Почему? И зачем?
Потому, что этого требовала «логика истории», то есть логика буржуазного сознания первой половины XX века. Затем чтобы привести действительную историю в соответствие с этой логикой, которая тем самым выдается за объективную историческую истину.
Дело здесь вот в чем.
Еще в период первых европейских колониальных захватов родился миф о «цивилизаторской миссии» европейцев, в странах Африки, Азии и Америки. В последующие века этот миф неизменно освящал и оправдывал колониальную политику «цивилизованных» правительств. Применительно к Алжиру он выглядел так:
«Мы создаем в Алжире нацию, которая без нас не достигла бы цивилизации... Если мы верим в какие-нибудь религиозные истины, то разве не радость, разве не долг нашей совести выполнить миссию, возложенную на нас, завоеванием, призвать эти народы к познанию наших верований и к счастью от веры в будущее? Провидение доверило и даже приказало нам выполнить прекрасную миссию, ибо в тот самый день, когда мы завоевали эту страну и прогнали угнетавшее ее варварское правительство, мы взяли на себя заботу о судьбах этих народов, обязавшись вместе с лучшим управлением принести им такое просвещение, знания и верования, которыми провидение в своем благоволении наделило нас самих».
Миф о «цивилизаторской миссии» прочно держался в европейском общественном сознании вплоть до начала XX века. В него верили почти все политические течения, включая самые либеральные. Отказ от этой миссии почитался даже и безнравственным. Правда, критики было много. Осуждали формы и методы «цивилизации». Разоблачали злоупотребления. Высмеивали расовое высокомерие. Вот, к примеру, весьма критический пассаж из статьи «Колониальная война и положение французов в Северной Африке», опубликованной в августе 1881 года в русской либеральной газете «Порядок».
«Есть нечто глубоко безотрадное в этих отношениях культурных народов к патриархальным племенам других частей света, имевших несчастье привлечь на себя внимание европейских политических предпринимателей. Истребление огнем и мечом, полное опустошение страны, до усмирения и рабского подчинения обитателей — вот что прежде всего несет с собою европейская цивилизация в ее военной форме в далекие края, подлежащие ее оплодотворяющему влиянию. Высшие правительственные, религиозные и иные интересы приписываются одним только «высшим» европейским расам, призванным к господству и свободному развитию, а к туземным населениям Азии или Африки привыкли относиться с высокомерным презрением... Азиатские и африканские племена научаются видеть в европейцах не представителей света и правды, а неутомимых деятелей зла, кровожадных и корыстолюбивых врагов, какими они являются, к сожалению, в большинстве военных экспедиций».
Критика, несомненно, искренняя. Но автор столь же искренно убежден — и это характерно для большинства критиков колониализма того времени, — что сама «цивилизаторская миссия», безусловно, необходима. Нужно только, чтобы африканские и азиатские народы подвергались «мирной колонизации», которая, по его словам, поведет к «действительному прочному нравственному завоеванию их для европейской культуры».
Для европейца XIX века его культурное превосходство над «цветными», над «дикарями» является извечно данным, само собой разумеющимся, не подлежащим сомнению. Иначе, мол, просто быть не может. Точно так же очевидна для него и неспособность «дикаря» приблизиться к цивилизации без европейских поводьев. Эта убежденность проистекала в конечном счете из уверенности европейца в превосходстве собственной силы.
Это превосходство — силы, а не культуры — действительно многократно доказывалось и подтверждалось в прошлом. До начала XX века история тут не знала исключений, развиваясь таким образом вполне «логично» для европейской буржуазии. Поэтому ее представителям в колониальном мире не было нужды принижать противников в своих сочинениях. Для мемуаров, писанных генералами, которые воевали с Абд-аль-Кадиром, свойственно, как правило, уважительное отношение к эмиру. Дело здесь, конечно, не столько в любви к истине, сколько в генеральском тщеславии: чем значительней побежденный противник, тем больше славы победителю. Довольно высоко оценивают его деятельность и французские историки середины XIX века. Им нечего было опасаться: всякий национальный герой, как бы велик он ни был, заведомо обрекался на поражение самой «логикой истории». Исключений ведь не бывало.
В начале XX века положение круто изменилось. Революции в России, Монголии, Египте, подъем национальной борьбы во всех восточных странах окончательно разрушили иллюзию о неколебимости превосходства капиталистического Запада. Все в колониальном мире стало зыбким и ненадежным. Миф о «цивилизаторской миссии» начал испаряться из сознания европейцев.
Буржуазия не могла смириться с этими изменениями. Расставаться с мифом не хотелось. С колониями — тем более. Что делать?
Приспособить историю к колониальной логике — хотя бы в официальной историографии. Канонизировать цивилизаторский миф — пусть и с оговорками. Лишить национальных героев ранга исторических личностей — дабы низвести национальные движения до уровня «дикарских бунтов».
Заботами верноподданных историков Абд-аль-Кадир был представлен как заурядный честолюбец из племенных вождей, разве что более удачливый, чем другие. Освободительная война алжирцев стала выглядеть как бессмысленное сопротивление варваров наступлению эры европейской цивилизации. Захватчики же обратились в бескорыстных и благочинных культуртрегеров.
А в действительности было так.
«Не прошло и сорока восьми часов после прихода армии в эту страну, одну из самых прекрасных в мире, как страна была разорена».
«Воду, с которой алжирцы так умело обращались и так отлично ею пользовались, наши солдаты отводили, разрушали подземные водопроводы, чтобы наполнить свои фляги».
«Нравы были прискорбные. Наше поведение оскорбляло, не скажу мусульманскую добродетель — я в нее не верю, — но целомудрие мавров и арабов, щедро наделенных этими качествами. Что ни день, со смехом рассказывались гнусности, которым словно научились у Тиберия и Гелиогабала».
Эти свидетельства принадлежат французским офицерам, участвовавшим в алжирской экспедиции. Они много писали. Их книги еще не проникнуты фальшью и лицемерием, которыми насквозь пропитаны почти все писания колониальных офицеров и историков XX века. Они не стеснялись называть вещи своими именами. Они были уверены в своем будущем.
Алжир для них был завоеванным призом, который они могли использовать так, как им заблагорассудится. Французский публицист Жан Гесс писал в 1905 году по этому поводу:
«Совершенно непопулярное сначала завоевание приобрело популярность, как только в нем увидели выгодное для всех дело. «Найдется для каждого шкалик», — поют на мотив сигнала к атаке.
Да, в Африке для каждого можно было найти шкалик. Для всех: для солдата, для переселенца. И начиная с 1830 года, все события в Алжире определялись исключительно погоней за корыстными интересами, «бизнесом и барахлом». Ни о какой чисто цивилизаторской деятельности уже не могло быть и речи».
Речи об этом действительно и не было. Не те «цивилизаторы» явились в Алжир. «Целая стая спекулянтов набросилась на Алжир, — писал французский юрист Ларше, — стремясь скупить все по дешевке, чтобы затем как можно быстрее продать: в первую очередь городские здания, а затем и строения в сельской местности... Спекулировали все, не только частные лица, но даже чиновники».
Колония стала для французского правительства удобным местом ссылки преступников и лиц, политически неблагонадежных. Префект парижской полиции Бод одним из первых принял участие в осуществлении «цивилизаторской миссии» в Алжире.
«В течение
января и февраля 1831 года, — писал он,
— примерно 4500 человек из числа
самых беспокойных жителей Парижа
были отправлены в Африку...
Обследование, проведенное мною в
других отделах парижской полиции,
убедило меня в том, что обладание
Алжиром может благотворно
отразиться на безопасности и
нравственности столицы».
Судя
по этому, скорее уж Алжир
содействовал росту французской
цивилизации, освобождая ее от
преступников. В самой же колонии
воцарились порядки, представление
о которых дает письмо жены генерала
Бро своему брату, написанное в
1834 году: «Ты спрашиваешь меня, как
идут дела с колонизацией. Скажу, что
до сих пор она ограничивалась
ажиотажем, земельной лихорадкой.
Здесь на земельных участках играют
так, как на бирже играют на ренте,
водке и кофе. Ты удивишься, если я
скажу тебе, что Блида была
распродана тысячам колонистов,
прежде чем мы ее завоевали и заняли.
Эти господа развлекаются тем, что
разглядывают свои поместья в
подзорную трубу, проделав для этого
километра три, чтобы установить
свой наблюдательный пункт на
одной из возвышенностей. Многие,
не доставив себе даже этого
развлечения, довольствуются тем,
что идут к нотариусу и покупают
землю. Равнина Митиджа — это болото,
имеющее около 25 лье в длину и 12 лье в
ширину, — также продана. Нам
остается теперь лишь сложить
голову, чтобы завоевать поместья
для своры голодранцев, которые
только и делают, что ругают армию, а
армия пока что растрачивает свое
время и молодость на то, чтобы
обеспечить им доходы.
Самое же пикантное заключается в том, что Митиджа имеет 25 лье в длину и 12 лье в ширину, а земли продали по крайней мере раза в три больше, и когда наступает время распутывать этот клубок, то люди готовы перегрызть друг другу глотку. Почтенные колонисты — в большинстве своем беглые каторжники или люди, которым место на каторге. Вместо того чтобы обрабатывать землю, они ею торгуют, а в результате этого земли вокруг Алжира не обрабатываются. Вот нам и приходится платить франк за маленький кочан капусты, пять сантимов за одну морковку и два с половиной франка за фунт плохого мяса.
Великолепно процветают питейные заведения, их встречаешь повсюду. Кабатчики соревнуются: кто лучше и быстрее оберет бедного солдата. Недавно один солдат выскочил из кабака в одной рубашке, так рьяно кабатчик-колонист стремился получить от него залог...»
Документы эти не нуждаются в комментарии. Они достаточно красноречивы сами по себе. А вот о новой группе свидетельств поговорить стоит. Но сперва ознакомимся с ними.
Через неделю после захвата города Алжира в бывшей резиденции дея, по рассказу очевидца, происходило следующее:
«В глубине главного двора Касбы был воздвигнут алтарь. Символ спасения мира появился в центре крепости, которую сыны Магомета воздвигли против христианских народов. И слова евангелия были провозглашены в том месте, где все еще напоминало об исламе. Генералы, офицеры и солдаты окружали алтарь, и после богослужения почтенный священник вознес хвалу богу, прочитав благодарственную молитву».
В «Поучительных и любопытных письмах об Алжире» аббат Сюше, главный викарий первого епископа Алжира, пишет об алжирском губернаторе:
«Господин Валэ — человек глубокомысленный, добросовестный, главное, умелый. Он правит Алжиром как самодержавный король. Он прежде всего хочет, чтобы религия укрепилась, чтобы ее везде уважали. Он хочет приумножить в Алжире кресты и часовни. С таким человеком его преосвященство может делать все. Он только что выбрал самую красивую мечеть Константины, чтобы превратить ее в прекраснейшую церковь колонии. И когда добрейший аббат получит назначение основать эту церковь, ему очень захочется заполучить в качестве амвона кафедру, с которой проповедовал Магомет и которая находится в мечети, называемой святой. Говорят, это шедевр арабской архитектуры».
Преобразование мечетей в христианские храмы совершается по мановению генеральского пальца.
«Мне нужна, — говорит генерал Ровиго, — самая красивая мечеть города, чтобы превратить ее в храм христианского бога. Устройте это как можно быстрее. Затребуйте мечеть Джемаа Хшауах: это самая красивая мечеть Алжира, она находится рядом с дворцом, в самом центре гражданских учреждений европейского квартала.
18 декабря 1832 года, в полдень, рота 4-го линейного полка занимает позицию на Суданской площади, тысячи мусульман забаррикадировались в мечети. Появляется отделение саперов, чтобы топорами взломать дверь... Солдаты штыками загоняют туземцев в мечеть. Несколько арабов падают, растоптанные или раненые. Рота пехоты всю ночь занимает храм».
И наконец, еще одно высказывание, принадлежащее секретарю алжирского губернатора.
«Настали
последние дни ислама. Через
двадцать лет в Алжире не будет
другого бога, кроме Христа. Уже
сейчас дело господне начато. Если
еще можно сомневаться в том,
останется ли эта земля за Францией,
то уже совершенно ясно, что она
потеряна для ислама... Всеобщее
возвращение в лоно господа будет
тем признаком, по которому я узнаю,
что Франция сохранит Алжир. Арабы
будут принадлежать Франции лишь
тогда, когда станут христианами».
Где же обещанная «свобода культа»? Веротерпимость? Свобода совести? А ведь едва ли не самое главное обвинение, которое предъявили «цивилизаторы» выступавшим против них арабам, было обвинение в религиозном фанатизме, который-де и явился причиной «священной войны». Отчасти это было и так. Но кто вызвал этот фанатизм? Он ведь не выражался: в стремлении арабов утвердить ислам среди французов, а был естественной реакцией на подавление иноземцами духовной жизни народа. Объявляя «священную войну», алжирцы отнюдь не пытались разрешить в ней спор о том, чей бог лучше. Они стремились к одному: остаться алжирцами и мусульманами.
Колониальная цивилизация, под какими бы она высокими, лозунгами ни выступала, на практике всегда оборачивается чудовищным молохом, пожирающим земли, собственность, а затем и души цивилизуемых. Ее миссия приносит «успех» только тогда, когда она завершается всеобщим истреблением. Очевидные тому доказательства дает история Северной Америки и Австралии.
В конечном счете колониальная цивилизация предлагает своим жертвам только два выбора: рабство или уничтожение. В Алжире, впрочем, она на первых порах допускала еще одну возможность:
«Раз их невозможно приобщить к цивилизации, необходимо оттеснить их подальше; точно так же, как дикие звери не могут жить по соседству с обитаемыми землями, так и они должны отступать до самой пустыни перед продвижением наших институтов, чтобы навсегда остаться в песках Сахары».
Но может быть, все это происходит потому, что осуществление «великой миссии» вышло из-под контроля высшей государственной власти — парламента, правительства, короля? Может быть, все дело в самостийных злоупотреблениях колонистов и военщины? И может быть, французское общество не знало, что творило?
Знало. И в целом и в частностях. И знало, что это жестоко и бесчеловечно. А 1834 году парламентская комиссия, обследовавшая положение в Алжире, представила доклад, который звучит как самообвинительный акт.
«Мы присоединили государственному имуществу все владения религиозных учреждений; мы наложили секвестр на имущество той части населения, которую обещали не трогать; осуществление нашего владычества мы начали с вымогательства (насильственный заем в 100 тысяч франков); мы захватили частные владения, не выплачивая никакого возмещения, и чаще всего владельцев, подвергавшихся такой экспроприации, мы даже заставляли оплачивать расходы по сносу их домов. Однажды это было сделано в отношении мечети.
Мы сдавали в наем третьим лицам постройки, принадлежавшие государственному имуществу; мы оскверняли храмы, гробницы, дома, считающиеся у мусульман священным убежищем.
Известно, что требования войны бывают иногда неумолимы, но в применении самых крайних мер можно найти деликатные и даже справедливые формы, которые скроют все, что есть в этих мерах отвратительного.
Мы убивали людей, которым выдавали охранные грамоты; мы по простому подозрению уничтожали целые группы жителей, которые впоследствии оказывались невиновными; мы отдавали под суд людей, имевших в стране репутацию святых, людей, уважаемых за то, что у них находилось достаточно смелости, чтобы, презрев наше бешенство, прийти хлопотать за своих несчастных сограждан; нашлись судьи, чтобы их приговорить, и цивилизованные люди, чтобы их казнить.
В варварстве мы превзошли тех варваров, которых пришли приобщить к цивилизации. И после этого мы еще жалуемся на то, что нам не удавалось завоевать доверие местных жителей...»
Вывод? Колонизацию надо продолжать, стараясь только избегать крайностей: «Умеренность, провозглашенная силой, является действенной силой».
Стало быть, отдавали себе отчет в том, что делают. И сознавали, что это дурно. А все-таки продолжали делать. Оговорки тут никого не обманут. Уже тогда было ясно (хотя колониальные историки и спустя сто лет будут это отрицать), что цель осуществлялась методами, единственно для этого возможными. Именно цель оправдывала дурные средства. Выходит, сама цель была порочна.
Вот это уже признать никак не могли. Согласиться с этим — значит отказаться от самой цели колонизации. Значит, снять с себя миссию «цивилизатора». Европеец прошлого века этого сделать не мог. И не хотел. В силу исторической необходимости, сказал бы детерминист, — что было, то было, и иначе быть не могло. Истина, против которой возражать не стоит. Но только в том случае, если ее не соединяют с идеей прогресса.
В итоге такой совокупности неизбежно возникает скользкая мысль о том, что колонизация, как, впрочем, и многое иное, раз уж была вызвана исторической необходимостью, в конечном счете была разумной, оправданной и прогрессивной. И что в плане мирового прогресса и в разрезе движения к всеобщему ублаготворению она явилась, как это ни огорчительно, необходимым звеном. В этом плане и в таком разрезе противники колонизации закономерно превращаются в ретроградов, вставлявших палки в колеса истории и мирового прогресса. Им можно сочувствовать, ими можно восторгаться и зачислять их в шеренгу великих, но приходится признать, что к историческому прогрессу они повернуты спиной.
Здесь надо внести некоторую ясность. Речь не о том, чтобы повернуть эмира лицом к прогрессу. А о том как раз, чтобы оградить Абд-аль-Кадира от легенд, представляющих его врагом или поборником прогресса.
В соединении с аксиоматичной истиной всякая идея может обрести силу объективной закономерности. Эта сила реальна или фиктивна в зависимости от того, произросла ли сама идея на ниве исторической действительности. Если нет, то рождается очередной миф. В данном случае — миф о всеядности прогресса, в котором по существу объективирован принцип дровоколов «цель оправдывает средства». Обращенная в прошлое, идея такого прогресса превращает аксиому «что было, то было» в верткую формулу о «разумности былого». Устремленная в будущее, она обращает реально вероятное «что будет, то будет» в безоглядно бодрое «будь что будет».
А в общем согласно этой идее все идет как надо в этом лучшем из миров. Так стоит ли ломать копья?
Наш герой копья ломал.
Рыцарь ислама
Перед ним была могущественная европейская держава. Располагающая передовой для того времени наукой и техникой. Обладающая мощной армией, прошедшей школу наполеоновских войн. Управляемая классом, который рвался к колониальным захватам и, говоря словами одного из представителей этого класса, рассматривал Алжир как «французскую землю, которой французы должны владеть, которую они должны как можно скорее заселить и обработать, чтобы она когда-нибудь могла стать в руках французов действенным орудием устройства судеб человеческих».
За ним была страна, живущая по законам средневековья. Лишенная единой системы государственности. Раздробленная на множество феодальных княжеств и племенных владений. Лишь немногие из них знали о нем и признавали его власть.
Войско его могло бы считаться передовым разве что во времена Гаруна-аль-Рашида.
Не один только Абд-аль-Кадир выступал претендентом на роль религиозного вождя алжирцев. У него были соперники, не уступавшие ему ни в воинской силе, ни по влиянию на алжирские племена.
В Константине властвовал бей Ахмед, которому подчинялись многие племена на востоке страны. В Тлемсене сидел паша Бен-Нуна, признававший одну только власть марокканского султана. В долине Шелифа самостоятельным властителем был шейх племени флиттов Сиди-аль-Араби, который считал ниже своего достоинства подчиняться юному эмиру. Точно так же относился к Абд-аль-Кадиру и могущественный вождь Мустафа бен-Исмаил, презрительно называвший эмира «безбородым мальчишкой». На юге Алжира отказалось признать власть Абд-аль-Кадира религиозное братство Тиджиния, возглавляемое марабутом Айн-Махди. Лишь собственным вождям соглашались повиноваться горные племена кабилов.
На западе страны, в Орании, влияние Абд-аль-Кадира на первых порах поддерживалось авторитетом Махи ад-Дина, который до конца жизни не оставлял сына своими советами и помощью. Но эта поддержка была недолговечной. Слова марабута о том, что его ждет смерть в случае избрания Абд-аль-Кадира султаном, и впрямь оказались пророческими: в июле 1833 года Махи ад-Дин умер.
Отныне Абд-аль-Кадир мог полагаться только на самого себя.
Молодой эмир поступил иначе: он положился на аллаха.
Безоговорочно. До конца. Самоотреченно. В делах мирских и духовных. В жизни личной и общественной. В абсолютном согласии с заповедью корана: «Если Аллах окажет вам помощь, то нет победителя для вас, а если Он вас покинет, то кто же поможет вам после Него? На Аллаха пусть полагаются верующие!» (3:154).
Всякий мусульманский вождь, равно как и любой правоверный, признавал эту заповедь. В этом нет ничего необычного. Однако не всякий был способен уверовать в нее до конца. Редкий из способных на это делал ее практическим руководством в жизни. И только исключительный человек мог настолько полно и беззаветно «положиться на Аллаха», чтобы в собственных глазах и в глазах окружающих обрести лик мессии, исполнителя воли всевышнего.
Никто иной не был бы в состоянии сплотить и возглавить алжирцев в борьбе против иноземных захватчиков. Религия была единственной силой, объединяющей людей, разделенными во всех прочих отношениях — политическом, социальном, этническом, культурном. Только человек, являвший собой для народа избранника божьего, мог превратить эту силу в политическое орудие, сделать ее формой алжирской государственности.
Для Алжира, как и для всего мусульманского мира того времени, эпоха средневековья еще не кончилась. Религия еще не отделилась от социальной и политической жизни. Поэтому массовые народные выступления неизбежно происходили в форме мессианских движений. «Так, — отмечал Ф. Энгельс по этому поводу, — обстояло дело со времен завоевательных походов африканских Альморавидов и Альмохадов в Испанию до последнего махди из Хартума, который с таким успехом сопротивлялся англичанам. Так же или почти так же обстояло дело с восстаниями в Персии и в других мусульманских странах»[4].
Народным вождем в Алжире мог быть только религиозный мессия.
Абд-аль-Кадир был подготовлен к этой роли всем своим, прошлым. И, что главное, он лучше, чем кто бы то ни было из его соперников, понимал политическое значение ислама. «То, чего не достигнет любовь к родине, свершит религиозная страсть», — говорил он о возможности объединения племен. И был совершенно прав. В представлении алжирца того времени Алжир еще не был родиной. Родиной для него была земля его племени. В человеке соседнего племени он еще не видел соотечественника. Но он видел в нем единоверца. Поэтому сколько-нибудь широкое и прочное объединение было возможно только в религиозной оболочке теократической власти, а народная борьба против захватчиков-иноверцев — только в форме «священной войны» — джихада.
И если поначалу Абд-аль-Кадир уступал некоторым алжирским шейхам и марабутам в политическом могуществе, то уже тогда он не имел себе равных в мессианском рвении защитника ислама. Прежде всего он хотел утвердиться в роли религиозного предводителя. Именно поэтому во всех своих проповедях и воззваниях он подчеркивал священные цели войны против французов. Себя же он часто именовал «Насер ад-Дином» — «Доставляющим торжество вере». В обращениях к народу по поводу войны эмир не уставал повторять стих из второй суры корана: «И сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах — слышащий, знающий!» (2 : 245)
Одного лишь мессианского рвения было, конечно, недостаточно для того, чтобы повести за собой народ. При всей своей религиозности правоверные в массе своей были людьми практичными. Сам факт богоизбранности эмира мог стать для них достоверным лишь при том реальном условии, что он подтвердит его своими посюсторонними делами. Лишь тогда избранник всемогущего станет избранником народа,
Абд-аль-Кадир сам был человеком практичным, оставаясь и в этом истинным сыном своего народа. Сразу же после своего избрания он возобновил военные действия против французской армии. Эмир располагал небольшими силами и, как пишет современник, «рассчитывал добиться в этих нападениях не столько крупных побед, сколько испытать своих людей и укрепить их преданность».
В мае 1833 года Абд-аль-Кадир вновь повел свое войско к Орану. Дважды алжирцы бросались на штурм городских стен, но обе попытки были отбиты. Убедившись, что без осадной артиллерии город взять невозможно, эмир отвел войско в долину Эрсибиа. Здесь он был атакован французским отрядом, возглавляемым генералом Демишелем. Бой продолжался несколько часов и окончился безрезультатно для обеих сторон. С наступлением темноты французы отступили и укрылись за стенами Орана.
Через несколько дней Абд-аль-Кадир одержал первую свою победу над врагом. Он устроил засаду на дороге, ведущей в Оран, и внезапным нападением разгромил французский кавалерийский эскадрон, направлявшийся в город. Арабы захватили тридцать пленных.
Весть о победе Абд-аль-Кадира быстро разнеслась по Ора-нии. Первая удача внушила уверенность в возможности успеха, воодушевила арабов, привлекла к эмиру новых сторонников. В Маскаре его ожидал триумфальный прием. Шейхи, которые прежде отказывались признать власть эмира, теперь спешили заверить его в своей преданности. В Маскару со всех концов области прибывали отряды вооруженных арабов. Знаменитый марабут Хадж ибн-Иса привел из Сахары посольство, представлявшее двадцать племен, которые решили поддержать «священную войну», объявленную Абд-аль-Кадиром.
Окрыленный первым успехом, эмир приступил к расширению своих владений. Он неожиданно напал на Арзев, город в нескольких километрах от порта того же названия, и захватил его. Оставив в городе своего наместника, Кадир повел войска к Тлемсену, который находился в руках марокканского паши Бен-Нуны. Эмир предложил паше присоединиться к джихаду. Тот отказался. Тогда Кадир взял Тлемсен приступом. Паша со своим отрядом бежал в Марокко.
Стремясь изолировать врага от местного населения, Абд-аль-Кадир разослал по всей Орании приказ, запрещающий всякие связи с французами, особенно торговлю с ними. Нарушение этого запрета строго каралось. Тут эмир не знал пощады, хотя бы речь шла и о близких ему людях.
Бывший наставник Абд-аль-Кадира, кади Арзева Ахмет Бен-Тахир пренебрег запретом. Рассчитывая, возможно, на былую привязанность к нему эмира, он вел весьма прибыльную торговлю с французскими интендантами. Кади поставлял им продовольствие, фураж и, что считалось особенно преступным, лошадей. Абд-аль-Кадир не раз писал ему, требуя прекратить торговлю и предупреждая о последствиях нарушения заповедей джихада. Бен-Тахир отмалчивался, надеясь, что на худой конец его защитят французы. Когда Арзев был захвачен арабами, эмир, невзирая на мольбы кади и его родственников, приказал заковать его в цепи и отправить в тюрьму Маскары. По решению военного совета предатель был казнен.
Случаев подобного свойства в деятельности эмира было немало. Абд-аль-Кадир мог многое простить врагу, но он никогда не прощал отступления от заповедей джихада своим сторонникам, как бы дороги и близки они ему ни были.
Нетерпимость к инакопоступающим характерна для всякого рыцаря идеи. Но как часто эта нетерпимость оборачивается тупым лицемерием и спесью, когда дело касается самого поборника идеи! Абд-аль-Кадира в этом никто не мог упрекнуть. В большом и в малом он относился к себе много требовательней и строже, чем к окружающим.
Вот качества вождя, которым Кадир заставлял следовать своих помощников и которые в совокупности представляют собой духовный автопортрет самого эмира:
«Совершенно необходимо, чтобы вождь обладал личным мужеством и отвагой, чтобы он был морально безупречен, тверд в вере, терпелив, вынослив, благоразумен, честен и мудр, оставаясь таковым при любых трудностях и опасностях. Ибо командир по отношению к своим подчиненным является тем же, чем сердце для тела; если сердце не здорово, тело ничего не стоит».
В повседневном быту Абд-аль-Кадир вел жизнь праведника и аскета. Неизменным его жилищем была палатка, разделенная занавесом на две части. В большей была приемная, где эмир принимал посетителей, вершил суд, устраивал военные советы. Меньшая служила спальней и библиотекой; здесь, по словам современника, эмир «не столько отдыхал, сколько предавался чтению и молитвам».
Абд-аль-Кадир одевался так же, как и простые воины, и ел ту же пищу, которую ели они. Он ни разу не воспользовался и грошем для своих личных нужд из тех налогов и взносов, которые поступали в его казну. Подарки, которые эмир часто получал, он частью передавал в ту же казну, частью обращал на милостыню. Одежда, которую он носил, была выткана женщинами его семьи. Личные расходы эмира обеспечивались тем, что давало унаследованное им имущество, которое состояло из небольшого участка земли и нескольких десятков овец.
Абд-аль-Кадир годами не виделся со своей семьей, отказываясь во имя священной цели от радостей супружеской жизни, столь высоко ценимых среди правоверных. Редкий из имеющих на то возможность не воспользуется предоставленным ему кораном правом многоженства. Эмир не был в этом исключением. Кроме Лаллы Хейры, он имел еще двух жен. Но вниманием их не баловал. Обычно лишь дважды в год удавалось ему навестить свою семью, как то свидетельствует немец Герндт, служивший у эмира и в 1840 году издавший в Берлине книгу о своих похождениях в Алжире.
Однажды Абд-аль-Кадир со своим отрядом проходил невдалеке от Гетны, где находилась его семья. Лалла Хейра послала к нему гонца с робкой просьбой навестить ее хотя бы на короткое время. Эмир ответил посланцу: «Я очень люблю свою семью, но дело ислама для меня дороже». Сыну, который жаловался на долгое отсутствие отца, Абд-аль-Кадир ответил стихами:
Мой
сын, если любовь к отцу однажды
неизбывной
тоской сожмет твое сердце,
если
твою печаль сможет излечить
лишь
встреча со мной,
пусть
перед тобой возникнет образ того,
чье
сердце пылает любовью к тебе.
Если
я скрываю эту страсть в своей душе,
то
потому лишь, что человек
благородных
чувств хранит тайну своей любви...
Все лично сокровенное скрыто от окружающих. Для них Абд-аль-Кадир — религиозный вождь, неустрашимый воин, праведный аскет. Ничто не в силах отвратить его от борьбы за намеченные цели. Тщеславие и корыстолюбие чужды ему. Ни победы, ни поражения не накладывают заметной печати на его личность. При любых обстоятельствах он остается для подданных образцом, достойным восхищения и подражания.
«Благодаря тому, что я вел такой образ жизни, — говорил сам Абд-аль-Кадир впоследствии, — я был вправе требовать от арабов больших жертв. Они видели, что все налоги и! подношения, которые я получал, целиком шли на общественные нужды. Когда война потребовала дополнительных податей и арабы неохотно стали их выплачивать, я немедленно продал все свои семейные драгоценности на базаре в Маскаре и объявил, что полученные за них деньги полностью переданы в казну. После этого остался лишь вопрос об очередности налоговых взносов, потому что все согласились с моими требованиями».
В Абд-аль-Кадира поверили. За ним пошли. За очень короткий срок он стал самым могущественным вождем в Алжире.
В течение нескольких месяцев Абд-аль-Кадир подчинил себе почти всю Оранскую область. В августе 1833 года он осадил крупную крепость Мостаганем. Арабы сделали подкоп и подорвали часть городской стены. Но в самый разгар штурма эмир получил известие о том, что генерал Демишель напал на союзные ему племена. Абд-аль-Кадир был вынужден снять осаду и двинуться к ним на помощь. Он подоспел вовремя. Французы отошли в Оран, потеряв во время отступления арьергардный отряд, разгромленный эмиром.
Французское командование начинает относиться к Абд-аль-Кадиру серьезно. Оказалось, что он имеет мало общего с прежним представлением о нем как о главаре шайки разбойников. Уничтожить его войско не удается. Оттеснить в пустыню тоже. Города, захваченные французами, находятся на положении осажденных крепостей, отрезанных от страны. Арабское население отказывается поставлять продовольствие и фураж французским гарнизонам. Те немногие арабы, которые соблазняются высокой платой, согласны доставлять в города товары только в сопровождении французского конвоя. Отряды эмира нападают на такие караваны, захватывают в плен французов. Именно по этому поводу генерал Демишель обратился к Абд-аль-Кадиру с посланием, в котором укорял эмира в отсутствии «гуманности» и просил освободить французских пленных.
Эмир ответил на это письмом:
«Что касается меня, то когда французы захватывают моих людей, я не обращаюсь к вам с требованиями освободить их. Как человек я огорчен их несчастной судьбой, но как мусульманин я рассматриваю их смерть — если она случится, — как переход в новую жизнь. Вы сообщаете мне, что французам было поручено охранять арабов. Я не вижу в этом никакого оправдания ни для защитников, ни дли защищаемых. И те и другие одинаково являются моими врагами; все арабы, которые находятся на вашей стороне, — отступники от веры, предавшие свой долг».
В этом письме замечательно признание автором двойственности своего отношения к единоверцам, попавшим в беду. И вот почему.
Раздвоенность сознания, личности характерна для религиозного человека вообще, для мусульманина в особенности. Проистекает она из его веры в загробную жизнь, по сравнению с которой жизнь земная выглядит лишь преходящей иллюзией. «Ведь достояние ближней жизни в сравнении с будущей — ничтожно» (9:38). Согласно этому откровению корана здешняя жизнь если и имеет некую цель, то состоять эта цель может только в том, чтобы подготовиться к переходу в мир иной, где только и начинается жизнь истинная.
Сознание человека отчуждается. На себя здешнего верующий глядит глазами обитателя той блаженной обители, где текут «реки из воды не портящейся и реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного для пьющих, и реки из меду очищенного» (47:16,17). Понятно, что этот здешний покажется существом жалким и никчемным. Но в реальной жизни этот взгляд на практике выражается в самоуничижении и самонебрежении лишь у фанатиков. Обычный же правоверный алчет благ земных так же, как и всякий нормальный смертный. Верующий в конце концов оценивает собственную никчемность на этом свете в меру сугубо мирских интересов.
Положение меняется, когда указанный взгляд переносится с собственной личности на личность ближнего. Взгляд этот тотчас же обретает всю силу внемирской отрешенности. Новый объект воспринимается так, словно правоверный глядит на него через дырку в воротах рая, изнутри, конечно. И этот объект, естественно, под взглядом с занебесья превращается в исчезающе малую величину. В итоге нравственные связи между людьми рвутся, человек отчуждается от человека и остается наедине с самим собой, отчего, между прочим, происходят типичные для мусульманских стран формы необузданного произвола отдельной личности — от деспотизма главы семьи до тиранства государственных правителей.
Но опять-таки в обыденном мире отчуждение нравственных связей между людьми в относительно чистом виде может иметь место разве только в какой-нибудь общине дервишей. В целом же в обществе религия, какими бы пожарами она ни полыхала, не может до конца выпарить эти связи в замогильную пустоту! Ибо они имеют слишком цепкие земные корни, уходящие вглубь трудовых и иных мирских отношений между людьми. Религия, как и всякая слепая вера, обычно лишь иссушает эти связи. Излученный от них в результате этого образ становится автономной областью человеческого сознания. Отсюда раздвоение личности на мирскую и религиозную, каждая из которых воспринимает внешний мир по-своему. Первая — непосредственно, как он есть, вторая — каким он ей видится в озарении внеземного идеала.
Эта раздвоенность очень четко выражена в письме Абд-аль-Кадира французскому генералу. Эмиру по-человечески жаль своих воинов, попавших в плен. Здесь он мирской человек. Но тут же он бездушно отрекается от них: чего о них заботиться, если даже в худшем из мирских случаев — смерти — они лишь обретут «новую жизнь». Здесь он человек религиозный.
Замечательно во всем этом то, что самосознание эмира сохранило мирское человеческое начало. Не было бы в том ничего удивительного, если бы речь шла о простом правоверном. Но ведь Кадир был религиозным вождем! Махди! Мессией! Человеком, которому с пеленок прививали мысль о его высшем назначении. За которым всю жизнь влеклась религиозная легенда. Которого, наконец, само положение в обществе возвысило над ближними. И над какими ближними! Ревностно религиозными. Желавшими видеть в своем вожде идола. Заведомо отрицавшими за ним право на все то мирское, что дозволено им самим.
Сохранить при этом человечность невероятно трудно, почти невозможно. Не говоря уж о тьме деспотов, больших и малых, которыми усеяна история религиозных обществ, эту истину может удостоверить жизнь любого власть предержащего поборника религиозной идеи. Даже в том случае, если сама по себе идея чиста и величественна, а ее поборник исполнен самых благих намерений, он должен быть истинно великим человеком — великим деятелем он может быть независимо от этого, — чтобы остаться в коей-то мере по-мирски человечным.
Заурядный человек, одержимый религиозной идеей, неизбежно становится ее рабом. Ничто мирское не заставит его изменить Идее — его госпоже. Рано или поздно для такого рыцаря идеи подданные становятся безликими знаками, которые можно зачеркнуть, стереть, переписать, если то будет угодно его повелительнице. В конце концов инквизиторы были подлинными рыцарями христианской идеи. И кроме того, большими пуританами.
Абд-аль-Кадир не относится к этой категории воителей за чистоту веры. Его личность отчетливо проявляется не только в деяниях религиозного вождя, но и в общественно значимых поступках мирского человека. И если а первой роли он выступал как орудие идеи ислама, то во второй роли он был выразителем мирского сознания своего народа, соединяя таким образом в своей личности религиозного мессию и народного героя.
Однако в реальной жизни психически здоровая личность всегда выступает практически как единое целое. Она может являться миру — по собственной ли воле, в силу ли обстоятельств — в различных ипостасях, относясь при этом, однако, как целое к части, к любой из них и сохраняя свое внутреннее единство. Ибо она имеет свою неразложимую константу — человеческий характер, который образует связующее единство всякой личности, индивидуально обособляет ее, составляет главное условие сохранения ее целостности в столкновениях с внешним миром или в периоды внутренних духовных кризисов.
Именно характер нашего героя соединяет в его личности, казалось бы, несоединимое: фанатичную религиозность и трезвую реалистичность, мессианскую отчужденность и мирскую человечность. Благодаря своему характеру, впитавшему в себя силу и чистоту патриархальности племенной среды, закаленному религиозным подвижничеством, обретшему гибкость под воздействием жизненных испытаний, Абд-аль-Кадир, в зависимости от условий и обстановки, мог выступать в различных ролях, оставаясь всегда самим собой и сохраняя цельность своей личности.
Характер Абд-аль-Кадира был сильнее его призвания. Поэтому его личность была значительнее любой из ролей, в которых жизнь вынудила его выступать. И даже больше главной из них — роли религиозного вождя.
Это обнаруживается уже в начальный период деятельности эмира.
После того как арабам удалось запереть противника в приморских городах, Абд-аль-Кадир решил окончить войну одним ударом. Но выполнить это решение он понадеялся весьма своеобразно. В конце 1833 года эмир направил генералу Демишелю послание, в котором приглашал его к единоборству в открытом поле. «Если Вы сделаете двухдневный переход от стен Орана, — писал Кадир, — я встречу Вас, и пусть поединок решит, кто из нас останется хозяином на поле битвы».
Наивно? Конечно. Глупо? Ни в коем случае. Разве не мудростью и не благом ли для народов было бы решать войны единоборством вождей? И разве были бы сами вожди столь воинственны, если бы они знали, что им первым придется подставлять собственный лоб под удар? Как скоро и какой малой кровью кончались бы войны! Но это уже из области идиллических утопий. Абд-аль-Кадир не был утопистом. Просто он был человеком другого мира, где здравый смысл еще не был оттеснен в область утопий.
Приглашая французского генерала на рыцарский поединок, эмир надеялся одержать победу в «священной войне». Но самое его рыцарство шло здесь не от ислама. Это было скорей былинное, языческое рыцарство, истекавшее из доисламских народных представлений о войне. Эти представления стали пережитками уже в эпоху крестовых походов, когда столкновения между европейскими и восточными странами происходили в форме религиозных войн.
С тех пор Европа претерпела превращения, о которых лучше всего сказать словами «Коммунистического манифеста»:
«Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой»[5].
Абд-аль-Кадир оставался целиком в рыцарской эпохе. Правда, позднее он по-своему поймет значение европейского перерождения. В 1839 году эмир с горечью будет писать французскому королю:
«С основания исламизма мусульмане и христиане находились в состоянии войны. Веками она была священной обязанностью обеих сект; но христиане пренебрегли своей религией и кончили тем, что стали рассматривать войну как обычное средство мирского возвышения.
Для истинного же мусульманина война против христиан продолжает оставаться священным долгом; как много больше стала она значить для христиан, когда они являются, чтобы завоевать мусульманскую страну!»
Но даже поняв, что он имеет дело не с однозначным себе противником, Абд-аль-Кадир сохранил верность своим идеалам, отделенным многовековой толщей грандиозных исторических перемен от идеалов современных ему европейцев. Он продолжал ломать копья. И не без успеха для своего дела.
Видно, не всякое ломание копий не имеет практического смысла.
На войне, как на войне
Французский генерал ответил на вызов Абд-аль-Кадира в соответствии с идеалами того класса, оруженосцем которого он выступал в Алжире. А этот класс, пришедший к власти во Франции в результате июльской революции 1830 года, требовал от своего воинства решительных действий. Колония должна быть «умиротворена». Алжирцы должны покориться законам новой религии, исповедуемой капиталом, — «религии чистогана». Все дозволено и все допущено во имя утверждения этих законов.
Генерал Демишель, удивившись, наверное, наивности своего врага, воспользовался известием об удаленности войска эмира от стен Орана для очередного набега на арабские племена. Он тайком вывел французский отряд из города и внезапно напал на мирные селения. Дома арабов были сожжены, взрослые мужчины почти поголовно перебиты, женщины и дети уведены в Оран. Упоенные легким успехом, французские офицеры торжествовали победу.
В Париже эти самые офицеры блистали своими мундирами в театральных ложах, целовали дамам ручки в салонах и со знанием дела могли рассуждать о стихах модного поэта. Они были воплощением благородства и мужества. Их щепетильность в вопросах чести не вызывала сомнения. Дуэли из-за пустяшной ссоры случались в Париже в то время чуть ли не ежедневно. Отклонение вызова на поединок опозорило бы на всю жизнь офицера, да и вообще любого «светского человека». В 1834 году генерал Бюжо, впоследствии главный «умиротворитель» Алжира, убил на дуэли депутата Дюлона всего лишь за язвительную реплику, брошенную им во время прений в парламенте.
В Алжире все менялось. Здесь генерал лишь посмеялся бы над вызовом арабского вождя. Понятия чести и благородства в общении с алжирским населением попросту исключались. «Туземцы» не считались людьми. В войне с ними хороши способы.
«Вот как нужно вести войну с арабами, мой друг, — писал полковник Монтаньяк в своей книге «Письма солдата», — следует уничтожить всех мужчин старше 15-летнего возраста, захватить женщин и детей, погрузить на корабли и послать их на Маркизовы острова или в другое место — одним словом, уничтожить всех тех, кто не будет ползать у наших ног, как собаки».
В другом месте книги доблестный полковник не без некоторого кокетства сообщает: «Вы спрашиваете меня в письме, что мы делаем с женщинами, которых захватываем. Некоторых из них сохраняем в качестве наложниц, других обмениваем на лошадей, а оставшихся продаем с аукциона как вьючных животных».
Когда жестокость становится нормой, к ней начинают привыкать. На самые ужасные вещи перестают обращать внимание. Французский историк Неттеман в 1856 году в книге «История завоевания Алжира» писал: «Я слышал, как самый блестящий офицер африканской армии рассказывал о том, что он часто завтракал с генералом, не испытывая никакого беспокойства из-за сложенных в углу его палатки многочисленных мешков с отрубленными головами».
Причины жестокости французских солдат не носят, конечно, ни социального, ни национального характера. У себя на родине были бы эти французы люди как люди. Но их послали на войну, а на войне, как на войне. Другой вопрос, что война была несправедливой, захватнической. В таких войнах жестокость входит в систему, и за это уже несут прямую социальную и национальную ответственность те, кто эти войны развязывает. И не только перед народом, на который совершено нападение, но и перед собственным народом.
Положение французов в Алжире многие годы было очень нелегким. Непривычно жаркий и сухой климат, незнание страны, враждебность местного населения — все это с самого начала обрекало французскую армию на тяжелые испытания. Французам стало совсем худо, когда войска Абд-аль-Кадира блокировали с суши захваченные ими города. В первые годы завоевания почти все снабжение французских гарнизонов осуществлялось через Средиземное море. Продукты быстро портились. Французские солдаты страдали от голода и болезней. Было время, когда начальник французского гарнизона в Арзеве был вынужден платить по 50 франков за кошку, чтобы у него на столе хоть изредка появлялось свежее мясо. Немногим лучше были условия и в других блокированных городах.
Герцог Орлеанский, воевавший в Алжире, писал в книге «Кампания африканской армии»:
«Продукты портятся. В Мостаганеме выбрасывают тысячу бочек протухшего мяса; нет врачей. Мало того, кампании предпринимаются безрассудно; настолько безрассудно, что ответственные за них люди не хотят признавать эту ответственность».
А вот эпизод одного из походов французских войск, описанный тем же автором:
«Не в состоянии даже бежать, вся эта масса беспорядочно кружила на месте, обезумев и тяжело дыша. Солдаты были словно в бреду. Голые, безоружные, они с хохотом бросались навстречу арабам; одни, ослепнув, падали в речку (они ее не видели) и пытались плыть, хотя воды было на несколько вершков; другие, упав на колени, пели гимн солнцу, безжалостные лучи которого помутили их сознание. У всех было потеряно чувство реального, чувство долга и даже инстинкт самосохранения».
Но никакие обстоятельства не могут служить оправданием жестокости и вероломства завоевателей. В конечном счете никто их в Алжир не звал. И даже если предположить, что их жестокость была вынужденной, ответом на жестокость арабов, то и в этом случае нельзя судить обоих противников одной мерой. Современный французский автор М. Эгрето, который в своей книге об Алжире приводит многие свидетельства жестокости колонизаторов, пишет об этом:
«Любители всеобщей справедливости и гармонично уравновешенного развития упрекнут нас в том, что мы представили эту захватническую войну не объективно, даже односторонне. Они скажут нам, жестокости и зверства были свойственны не только одному лагерю. Возможно, это так и было. Однако мы не будем напоминать им трудно опровергаемые факты, а именно, что согласно самым элементарным принципам международного права в этой войне одна сторона выступала как захватчик, а другая была жертвой агрессии и что в этих условиях просто недостойно стараться взваливать ответственность в одинаковой степени на оба лагеря».
Но истины ради остановимся и на отношении алжирского населения к завоевателям. Скажем сразу: относиться к ним хорошо у алжирцев не было ни малейших оснований. Равно как и не отвечать на жестокость колонизаторов той же монетой. На войне, как на войне. Жестокость с арабской стороны по отношению к врагу имела место, хотя и выражалась несравненно в меньших масштабах, чем у французской армии. Отрезанные головы, добивание раненых, уничтожение цивильных лиц — все это было. Более того, все это было освящено давними традициями и неписаными правилами ведения войны против «неверных».
История «священных войн» писана бессмысленно пролитой кровью. Их вожди обычно отличались тупой и холодной свирепостью. И от того, что эти вожди были для подданных святыми, принявшими на себя всю полноту ответственности за ведение войны, сами подданные предавались зверствам во всю меру собственной безответственности и с сознанием освященности своих деяний.
Война, которую возглавил Абд-аль-Кадир, не была обычной «священной войной». И не только потому, что она была чисто мирской по существу, справедливой по целям, оборонительной по форме. Все это нисколько не помешало бы ей быть обычной «священной войной» по методам ее ведения. Однако и в этом отношении она выпадает из общего правила. Во-первых, необузданная жестокость не стала системой в отношениях с врагами. Во-вторых, она в большинстве случаев проявлялась в районах, неподвластных Абд-аль-Кадиру.
Обращение с военнопленными служит мерилом гуманности во всякой войне. По многим свидетельствам современников эмир и в этом отличался истинным рыцарством. «Во всех случаях, — пишет один из них, — Абд-аль-Кадир обращался с захваченными французами скорее как с гостями, чем как с пленными. Он посылал им деньги и пищу из личных запасов. Они были хорошо одеты...»
Абд-аль-Кадир с отвращением относился к захвату французских женщин. Однажды отряд конницы одного из его вождей доставил ему в качестве ценного подарка четырех молодых женщин. Он с негодованием отверг дар. «Львы, — сказал он, — нападают на сильных, шакалы набрасываются на слабых».
Пленные французы могли пользоваться библиотекой Абд-аль-Кадира, им разрешалось переписываться с родными, никто не покушался на их право исповедовать христианство. Эмир даже приглашал к себе в лагерь христианских священников, дабы пленники не остались без духовных наставников. Один французский офицер говорил:
«Мы были вынуждены скрывать эти факты от наших солдат: если бы они узнали о них, мы никогда не смогли бы заставить их с такой жестокостью сражаться против Абд-аль-Кадира».
На войне все же бывает не как на войне. Благородство при этом выглядит особенно привлекательно, потому что его искренность и бескорыстность не вызывают никаких сомнений. У Абд-аль-Кадира же оно граничит с нравственным подвигом. Ведь ему пришлось восстать против освященных временем традиций, изменить собственной роли религиозного вождя, наконец, нарушить одну из заповедей корана насчет джихада: «Кто же преступает против нас, то и вы преступайте против него подобно тому, как он преступил против вас» (2:190).
Абд-аль-Кадир не только не следовал этой заповеди в обращении с поверженным врагом, но и требовал того же от своих подданных. Он распространил особый указ, который гласил:
«Каждый араб, который захватил в плен французского солдата, или христианина, целым и невредимым, получит вознаграждение, составляющее восемь пиастров за мужчину и десять пиастров за женщину. Тот, кто захватил француза, или христианина, обязан хорошо обращаться с ним... В случае какого-либо выражения недовольства со стороны пленника плохим обращением, араб лишается всех прав на вознаграждение».
Указ этот, помимо прочего, был направлен на искоренение старого варварского обычая отрезать голову у раненого или убитого врага с тем, чтобы представлением головы удостоверить факт убиения врага и получить за то вознаграждение. «Цивилизаторы» не только поощряли своих союзников из местного населения следовать этому обычаю (отсюда и мешки с отрубленными головами, о которых пишет Неттеман), но и очень быстро сами переняли его. Полковник Монтаньяк хвастается в своих «Письмах солдата»:
«Я приказал отрубить ему голову и кисть левой руки и явился в лагерь с головой, насаженной на штык, и рукой, привязанной к шомполу. Все это послали генералу Барагэ д'Илье, стоявшему лагерем поблизости. Ты сам понимаешь, что он был в восторге».
В армии же Абд-аль-Кадира подобные случаи, и в прошлом редкие, после обнародования указа прекратились совершенно. Лишь однажды указ был нарушен, и эмир воспользовался этим, чтобы преподать наглядный урок своим воинам. Он лично вершил суд над преступником в присутствии всего своего войска. По свидетельству современника это происходило так.
В
назначенный день и час войско было
выстроено вокруг палатки эмира. Абд-аль-Кадир
стоял, окруженный гражданскими и
военными начальниками. Отрезанную
голову положили перед эмиром.
Преступника вывели вперед. Эмир
спросил у него:
— Ты отнял эту голову у мертвого или живого?
— У мертвого.
— Тогда получишь двести пятьдесят ударов за то, что ослушался меня. Это наказание научит тебя тому, что голова человека не может быть врагом, трусливо и жестоко увечить его.
Солдата положили на землю и подвергли наложенной наказанию. После этого он поднялся и, думая, что экзекуция закончена, хотел уйти. Эмир остановил его:
— Я хочу задать тебе еще один вопрос. Где было ружье в то время, когда ты отрезал голову?
— Я положил его на землю.
— Еще двести пятьдесят ударов за то, что ты бросил свое ружье на поле боя.
После второго наказания солдат едва стоял на ногах. Несколько человек подошли, чтобы увести его. Эмир снова остановил их:
— Не торопитесь, у меня есть еще один вопрос к нему. Как ты умудрился одновременно нести и свое ружье и чужую голову?
— Я держал ружье в одной руке, а голову в другой.
— Ты хочешь сказать, что ты нес свое ружье таким способом, что не смог бы им воспользоваться? Дать ему еще двести пятьдесят ударов.
Несчастного едва не забили насмерть.
Жестоко? Безусловно. Бесчеловечно? Нет. Точно так же, как, скажем, наказание мародерства. А ведь здесь речь идет о мародере, охотившемся за вражескими головами. Войны вообще бесчеловечны. Самая человечность нередко проявляется в них в бесчеловечном виде, когда, например, командир жертвует частью своих солдат, чтобы спасти жизнь остальных. Кто осудит его за это? У войны своя система нравственности. И оценивать поступки человека на войне следует в измерениях этой системы: на войне, как на войне.
У Абд-аль-Кадира была твердая рука. И хотя эмир никогда не злоупотреблял своей властью — а она давала для того сколько угодно возможностей, — он не останавливался перед самыми крайними мерами, чтобы заставить солдат повиноваться своим указам. Только так и можно было превратить разномастное и не привыкшее к дисциплине племенное воинство в боеспособную армию.
Благодаря твердости и настойчивости в осуществлении своих целей Абд-аль-Кадир в 1834 году стал хозяином положения в Оранской области. Власть французов кончалась за стенами прибрежных городов. Снабжение оккупационных войск морем обходилось очень дорого. Алжирская война все более обременяла государственный бюджет метрополии. Никаких экономических выгод французская буржуазия пока еще не могла извлечь из владения колонией. Будущее Франции и Алжира стало представляться некоторым буржуазным политикам очень сомнительным. Но как поучал их известный французский историк и общественный деятель Гизо, «надо довериться» будущему и не ускорять ход событий».
Французская буржуазия была уверена в том, что рано или поздно Алжир окажется в полном ее распоряжении. Так стоило ли торопиться? Тем более что и возможностей для этого пока не было. Не лучше ли договориться с Абд-аль-Кадиром о мире? И тем самым облегчить участь французской армии и выиграть время для подготовки новых завоевательных доходов?
В конце 1833 года генерал Демишель, воспользовавшись завязавшейся по поводу пленных перепиской с эмиром, направляет ему послание с предложением о мирных переговорах. Зная, что только тяжелые обстоятельства вынудили генерала пойти на, это, Абд-аль-Кадир не отвечает на послание. Но в то же время он дает тайное указание своему агенту в Оране Мордехаю Омару исподволь и осторожно побудить генерала к более определенным предложениям.
Абд-аль-Кадир нуждался в мире не меньше, чем его французские противники. Ему нужно было навести порядок в своих владениях, укрепить армию, распространить власть на новые племена. Само заключение мирного договора должно было, по верному расчету эмира, узаконить в глазах французов и в глазах подданных его положение самостоятельного, и независимого главы зарождавшегося алжирского государства.
Однако для Абд-аль-Кадира решиться на мирные переговоры с врагом, было нелегко. Он сдержанно воспринял первое предложение Демишеля не только потому, что хотел добиться более выгодных для себя условий. Эмиру нужно было еще и убедить своих сторонников в необходимости и, главное, в позволительности мирного соглашения с врагом.
Дело
в, том, что часть близкого окружения
эмира, состоявшая из шейхов и
улемов, закосневших в религиозном
фанатизме, воспринимала как отступничество
от закона «священной войны» всякие
невоенные отношения с «неверными».
Ведь заповедь корана вполне
определенно внушает правоверным: «И
убиваете их, где встретите, и
изгоняйте их оттуда, откуда они
изгнали вас: ведь соблазн — хуже,
чем убиение!» (2; 187).
А разве не соблазн — договориться с врагом, чтобы обрести мир и покой? И разве можно поддаться ему, если это означает признание права «неверных» на сохранение их господства в захваченной ими части мусульманского мира?
Никакие политически реальные доводы, сколь бы разумны они ни были, не убедили бы фанатиков в обратном. Абд-аль-Кадир и не делал этого. Он убедил собственными их доводами. Никто в окружении эмира не знал лучше его коран и иные мусульманские книги. Никто не был искусней его в их толковании. А есть ли в мире хоть одна священная книга, где концы сходились бы с концами? Изощренному уму ничего не стоит, оставаясь верным духу и букве любой такой книги, неопровержимо доказывать по десять раз на дню, что черное — это белое и наоборот.
Абд-аль-Кадир никогда не опускался до этого. Он не был ни циником, ни софистом. Он всегда оставался искренним в своей религиозности. Но в практической жизни религиозные догмы служили для него лишь оболочкой здравого смысла, тогда как для узколобых фанатиков здравый смысл, если он у них сохранился, служит, напротив, для облачения в него религиозных догм.
Вскоре генерал Демишель направляет эмиру новое послание, в котором прямо предлагает заключить мир. В письме генерала сквозит упрек в том, что эмир не оценил по достоинству французской мирной инициативы, хотя должен был бы это сделать, учитывая могущество Франции. Эмир отклонил упрек. Он соглашался поддерживать отношения с противником только на равных. В тот период эмир обладал к тому же военным превосходством и знал, что лишь поэтому французы хотят мира. «Вы говорите, — ответил он генералу, — что, несмотря на Ваше положение, Вы решились на первый демарш. Но это — Ваша обязанность согласно правилам войны».
Абд-аль-Кадир сразу же отверг все унизительные условия заключения мира, которые содержались во французских предложениях: признать себя вассалом французского короля, платить ежегодную дань, представить заложников, закупать оружие только во Франции. В феврале 1834 года Демишель был вынужден подписать договор, который юридически узаконил фактическую власть эмира. Условия договора сводились к следующему.
Военные действия прекращаются. Власть Абд-аль-Кадира признается во всей Орании, за исключением городов Оран, Мостаганем и Арзев. В эти города эмир направляет своих консулов-укилей. Французский консул находится в Маскаре
Франция обязуется уважать религию и обычаи алжирцев. Производится обмен пленных и взаимная выдача дезертиров. Обеими сторонами гарантируется свобода торговли. Европейцы могут свободно передвигаться по Алжиру, имея пропуска, подписанные укилем Абд-аль-Кадира и французским представителем.
Этот договор был для 26-летнего эмира большим дипломатическим достижением. Помимо прочего, он открывал Абд-аль-Кадиру путь для утверждения своей власти за пределами Орании, потому что в тексте договора эмир признавался «повелителем правоверных». Благодаря этому он получил правовое основание настаивать на том, что мусульмане, то есть фактически все местные жители, подлежат подчинению его духовной власти, которая в условиях Алжира означала для местного населения и политическую власть.
Сознавая, что в обозримом будущем ему не под силу будет полностью изгнать французов из Алжира, Абд-аль-Кадир стремился найти лучшее из возможных решений проблемы отношений с Францией. В своих представлениях о будущем страны он относился к французским колониям в Алжире примерно так же, как некогда жители Северной Африки относились к финикийским торговым колониям. Английский полковник Ч. Черчилль, написавший в итоге изучения документов и продолжительного личного общения с Абд-аль-Кадиром книгу об эмире, пишет: «Их существо состояло в том, чтобы он был признан правителем Алжира: французы же продолжали бы жить с его молчаливого согласия на окраинах империи, извлекая выгоды из торговли с его подданными».
Совершенно в ином смысле истолковывала договор и его возможные последствия французская сторона. Генерал Демишель представил дело так, будто он своими военными успехами принудил Абд-аль-Кадира заключить мир и что эмир признал верховную власть Франции в Алжире. В донесении французскому министерству иностранных дел генерал писал: «Должен уведомить вас о покорении Орании, наиболее значительной и воинственной провинции регентства. Это большое достижение является результатом преимуществ, достигнутых благодаря боевым действиям моих войск».
Однако генералу не поверили: выгоды, полученные Абд-аль-Кадиром по условиям договора, были слишком очевидны. Хотя король утвердил договор, правящие круги Франции остались крайне недовольны исходом договоров с эмиром. В январе 1835 года Демишель был отозван, его место в Оране занял генерал Трезель, убежденный сторонник продолжения воины до победного конца. Незадолго до этого в Алжир был назначен новый губернатор — генерал Друэ д'Эрлон. Согласно королевскому указу Алжир начинают именовать «французскими владениями на севере Африки», а не «бывшим регентством», как в прошлом, и, таким образом, жители Алжира формально обращаются во французских подданных, что открывает путь к расширению завоеваний.
Новый губернатор спешит предупредить Абд-аль-Кадира, чтобы он не обольщался надеждами на расширение своих владений.
«И хотел бы, — пишет д'Эрлон эмиру, — чтобы Вы отдавали себе отчет в том, что юрисдикция генерала Демишеля ограничивалась лишь пределами провинций .Оран и что он не имел никакого права обсуждать какие-либо условия соглашения относительно остальной части страны, Даже в случае самого широкого толкования договора, заключенного между Ради и им в феврале 1834 года, Вы не можете выдвигать никакие претензии на земли, находящиеся за границами провинции Оран».
Трезель настаивает на возобновлении войны с тем, чтобы помешать эмиру укрепиться в прежних своих владениях и захватить новые. Однако осторожный д'Эрлон, памятуя о неудачах своих предшественников, воздерживается от обострения отношений с Абд-аль-Кадиром. Он предпочитает собраться с силами и выждать удобный момент для начала войны.
Абд-аль-Кадир тем временем осуществляет свои замыслы, успокаивая французов посланиями насчет своей верности условиям договора и настаивая на собственном истолковании этих условий. Он направляет к губернатору посланца с письмом, в котором как о само собой разумеющемся сообщает о своем намерении навести порядок на территориях, не занятых французами.
«Каид Милуд ибн-Араш, — пишет эмир, — известит Вас относительно состояния наших дел. Я поручил ему заверить Вас в том, что мы лишь хотим найти наилучший способ для установления спокойствия во всех местностях, приморских и внутренних, вдоль побережья между Алжиром и Ораном и в глубине страны от Тлемсена и Маскары до Медеи и Милианы».
Д'Эрлон возмущен. Он требует заключения нового договора, который бы заставил эмира признать суверенитет французского короля и отказаться от притязаний на господство в Алжире. Французские офицеры доставляют Абд-аль-Кадиру проект такого соглашения. Эмир тепло принимает посланцев, не проявляя, однако, никакого интереса к новым предложениям. Он приглашает их совершить с ним поездку по стране, искусно используя её для того, чтобы показать колеблющимся племенам что французы — его союзники, одобряющие его политику и что шейхам не остается ничего иного, как признать его власть. По возвращении из поездки эмир предлагает послам губернатора свои условия мирного договора, в которых нет и намека на признание зависимости от Франции.
Прежний договор, не основанный на единстве взглядов, установил лишь шаткое перемирие. Борьба фактически продолжалась, вылившись в дипломатическую войну. А на войне как на войне: интересы противника в расчет не берутся. Каждая сторона стремилась использовать перемирие в собственных целях.
Продолжая переговоры с французами, Абд-аль-Кадир одновременно расширял свой владения. Его войска перешли реку Шелиф и заняли провинцию Титтери. Эмир назначил халифами своих людей в главные города провинции — Медею и Милиану, где до этого правили турки. Генерал Трезель предложил в ответ захватить столицу эмира Маскару. Но губернатор, не надеясь на свой силы, не решился на это. К тому же Абд-аль-Кадир поспешил уверить его в своей готовности начать новые переговоры. Ему был нужен мир с чужеземцами, чтобы окончательна подчинить Соотечественников. Внутри страны нарастала волна племенных бунтов, грозивших опрокинуть не утвердившуюся еще государственную власть эмира.
Не переводя дыхания
Эта внутренняя война давалась Абд-аль-Кадиру не менее трудно, чем борьба против французов. И победы и поражения в этой войне имели одинаково горький привкус, потому что в любом случае приходилось сражаться со своими земляками и единоверцами. Но это только одна сторона дела. Самое трудное заключалось в том, что обе войны были между собой в прямой связи; Одна война обуславливала другую.
Абд-аль-Кадир нуждался в мире, чтобы заняться внутригосударственным устройством и прежде всего добиться объединения племён под своей властью. Но это он мог сделать только военным путем. Мирной передышки не было. Союзные эмиру племена — кроме них, всегда были и враждебные — соглашались действовать сообща и признавать его вождем только в период войны против иноземцев. Как только военные действия прекращались, племенные шейхи считали свой союзный долг исполненным и настаивали на своей полной независимости от верховной власти Абд-аль-Кадира.
После заключения мирного договора большинство племен, объединившихся во время войны вокруг эмира, отказались выплачивать ему подати. А без налогов Абд-аль-Кадиру не удалось бы основать и захудалого княжества. Податная система — главная экономическая основа всякого феодального государства. Племена этого не могли и не хотели понять. Объединение и центральная власть, необходимые им во время войны с иноземцами, в мирное время становились в их глазах ненужными и обременительными оковами.
Даже племя бени-амер, в преданности которого Абд-аль-Кадир никогда не сомневался, после окончания войны прекратило выплачивать традиционный налог. Разгневанный эмир собрал шейхов этого племени в мечети Маскары и после положенной молитвы обратился к ним с проповедью:
«Не вы ли, о бени-амер, первыми призвали меня на тот пост, который я сейчас занимаю? Не вы ли первыми умоляли меня установить постоянную власть, которая поощряла бы добро и наказывала бы зло? Разве не вы торжественно поклялись вашей жизнью, вашей собственностью и всем, что для вас является дорогим и священным, помогать мне и поддерживать меня? Так неужели вы будете первыми, кто оставит общее дело? Может ли существовать какая-нибудь власть без податей, без сердечного союза и взаимной поддержки всех подданных?
Не думаете ли вы, что хотя бы грош из податей, которые я требую, будет обращен на мои нужды или на нужды моей семьи? Вы все хорошо знаете, что мне достаточно того, что дает моя родовая собственность. Я требую лишь того, что закон Пророка вменяет вам, как мусульманам, в прямую обязанность и что в моих руках — я в этом клянусь — послужит торжеству веры!»
На шейхов бени-амер красноречие Абд-аль-Кадира подействовало: они были давними союзниками родного племени эмира хашим и, главное, были заинтересованы в сохранении сильной центральной власти, потому что жили рядом с захваченными французами городами, и постоянная опасность возобновления войны побуждала их искать спасения в союзе с соседними племенами.
Хуже было с племенами, населявшими отдаленные местности Алжира. Лишь близкая, видимая угроза иноземного вторжения могла заставить их выступить под знаменем эмира. Если такой угрозы они не ощущали, то все пламенные призывы к их священному долгу правоверных оставляли их равнодушными. Клановый дух, выражавшийся в племенной асабийе, был сильней, чем сознание общности целей борьбы в защиту веры. Общность же этих целей только тогда становилась действенной силой, когда она накладывалась на чисто мирские, материальные интересы, то есть когда иноземцы прямо покушались на жизнь и собственность того или иного племени.
С особенным упорством держались своей независимости горные племена кабилов. Абд-аль-Кадир не раз направлял к ним послов с предложением присоединиться к его борьбе против колонизаторов, обещал всяческую помощь, посылал подарки их вождям — аминам. Все было тщетно. Тогда он сам отправился в горы и на собрании аминов произнес зажигательную речь о «священной войне».
«Знайте, что если бы я не воспротивился честолюбивым намерениям французов и не доказал им на деле их бессилия в борьбе со мною, давно уже, подобно волнам разъяренного моря, враги наводнили бы вашу страну и подвергли ее таким бедствиям, которые до сей поры были неизвестны вам. Они оставили свое отечество с единственной целью поработить нашу общую родину и обратить нас в невольников. Я — терние, которым Всевышний устилает их путь, и с вашей помощью сброшу их в море. Благодарите же Пророка, что я враг врагам вашим, проснитесь и уверуйте, что мое единственное желание — водворить спокойствие и благоденствие в стране правоверных. Для этой цели я требую от вас покорности, содействия мечом и имуществом общему делу, как то завещал Владыка мира каждому верному мусульманину».
Речь Абд-аль-Кадира была воспринята с одобрением: всюду, где он появлялся, его встречали восторженные толпы кабилов; в честь него устраивались празднества; ему подносили дорогие подарки. Но на все призывы эмира подчиниться его власти кабилы отвечали одно и то же: «Мы повинуемся только нашим аминам». Амины же, уверенные в неприступности своих горных селений, предпочитали оставаться независимыми. Лишь несколько окраинных племен, для которых угроза французского нападения стала уже осязаемой, согласились признать власть эмира.
В мирных условиях никакое иное средство, кроме военной силы, не могло преодолеть сепаратистские устремления племен. Абд-аль-Кадир это понимал; и когда призывы и увещевания не действовали, без промедлений и очень жестоко карал отступников от «священной войны». Он не мог так поступить с кабилами потому, что это было выше возможностей его войска, и потому, что они никогда не договаривались е ним о союзе, а стало быть, и не предавали его. Во всех иных случаях Абд-аль-Кадир был скор на расправу с отступниками от его дела.
Чаще других от эмира откалывались и предавали его племена махзен. Эти племена, охватывавшие примерно десятую часть сельского населения страны, еще в эпоху, предшествовавшую турецкому господству в Алжире, занимали привилегированное положение. Они исполняли для местных династий военную и полицейскую службу и собирали налоги с остальных племен, в отличие от них называвшихся райя. Махзен составляли феодальную касту воинов и разбойников. Единственным мирным занятием, которое они считали достойным себя, было разведение верблюдов. На племена райя они смотрели с презрением. Самое предложение объединиться с райя в союз воспринималось ими как оскорбление.
Все завоеватели неизменно сохраняли старый порядок сбора налогов и брали племена махзен себе на службу, Так было в эпоху янычарского господства. Так вскоре после прихода в Алжир начали делать и французские колонизаторы. Уже в 1833 году генерал Демишель договорился с шейхами племен дуайр и змала, обитавшими близ Орана» о том, что французы возьмут на себя их защиту от войск Абд-аль-Кадира в обмен на те услуги, которые эти племена, относящиеся к махзен, выполняли в прошлом для янычарских властей. Но Абд-аль-Кадир не допустил осуществления этого договора. Он явился со своим войском к племенам и под угрозой оружия заставил их переселиться к Тлемсену, где они находились под наблюдением его людей.
Вожди махзен ненавидели эмира за то, что он не делал никакого различия между ними и шейхами прочих племен, которые раньше находились в их подчинении. Вождь племени бану-ангад Мустафа бен Исмаил говорил: «Те, кто вчера служил мне, занимают теперь равное со мной или даже более высокое положение». Этот вождь не только отказывался признать власть Абд-аль-Кадира, но и использовал всякую возможность, чтобы нанести ему вред. Мустафа бен Исмаил переселил обратно племена дуайр и змала, а летом 1834 года напал на верное эмиру племя бени-амер. Абд-аль-Кадир с небольшим ионным отрядом бросился на помощь своим союзникам, послав вперёд себя посильных и повелением Мустафе прекратить грабеж. Шейх отказался выполнить приказ. Тогда Абд-аль-Кадир, несмотря на численное превосходство противника, вступил с ним в бой. Но силы были слишком неравны. Почти все воины эмира были перебиты, а сам он едва успел ускакать на израненном коне в Маскару.
Поражение Абд-аль-Кадира воодушевило его противников. Против него выступил Сиди аль-Араби, шейх флиттов — крупного племени махзен. К нему присоединились другие вожди, желавшие использовать удобный момент для того, чтобы свести счеты с эмиром.
Для Абд-аяь-Кадира настали трудные дни. То в одном, то в другом районе Алжира феодалы поднимали против него подвластные им племена. Сутками эмир не спускался с коня, переносясь со своими отрядами из одного конца страны в другой, чтобы силой удержать, ее в своей власти.
Самым опасным противником стал для него в то время Сиди аль-Араби, созвавший в долине Шелнфа большое племенное ополчение.
Абд-аль-Кадир спешно собрал 15-тысячный отряд и обрушился с ним на мятежного шейха. Войско Сиди аль-Араби было разгромлено, а его предводитель взят в плен. Сразу после этого Абд-аль-Кадир двинулся на племенную рать Мустафы бен Исмаила. Битва произошла 13 июля 1834 года. Она с переменным успехом длилась почти весь день. К вечеру обессиленные противники разошлись. Абд-аль-Кадир начал готовиться к новому сражению. Но Мустафа предпочел признать власть эмира и заключил с ним мир.
В начале 1835 года феодальная знать махзен составила новый заговор, направленный против Абд-аль-Кадира. Заговор возглавили сыновья Сиди аль-Араби, умершего незадолго до этого в тюрьме Маскары. Их поддержал марабут Хадж аль-Деркауи, глава религиозного братства Деркавийя, объединявшего многие племена бедуинов.
И на этот раз Абд-аль-Кадир разгромил феодалов. Но тотчас же вслед за этим племена махзен нанесли ему новый удар в спину. В июне 1835 года шейхи племен дуайр и змала заключили с генералом Трезелем соглашение, по которому признали себя французскими подданными, обязались предоставить в его распоряжение своих воинов и снабжать о райский гарнизон продовольствием и фуражом. За это Трезель обещал им платить по два франка в день и защищать от нападений войск эмира.
Абд-аль-Кадир направляет генералу письмо, протестуя в нем против нарушения условий договора, которые предусматривали выдачу пленных и дезертиров. Трезель отвечает, что племена, которые хотят подчиниться французской власти, не могут считаться дезертирами, а потому никакого нарушения договора здесь нет.
Абд-аль-Кадир никак не может согласиться с этим, потому что примеру дуайр и змала готовы последовать все племена махзен. В новом письме он продолжает настаивать на том, чтобы генерал Трезель выдал ему предателей.
«Дуайр и змала, — пишет эмир, — мои подданные, и согласно нашему закону я волен поступать с ними по своему усмотрению. Если Вы лишите их своего покровительства и как прежде не будете препятствовать им повиноваться мне, то мир сохранится. Если, напротив, Вы упорствуете в нарушении Ваших обязательств, то немедленно отзовите своего консула из Маскары...»
Генерал Трезель отозвал своего консула и начал военные действия. В июне 1835 года французский отряд напал на племя хашим-гараба и отнял у него весь урожай зерна. Абд-аль-Кадир выступил с войском из Маскары, решив в отместку покарать предавшие его племена дуайр и змала. Трезель направил на их защиту пехотную колонну в пять тысяч солдат и крупный отряд кавалерии.
Эмир устроил засаду на пути французских войск в лесу Мулай—Исмаил. Как только французы углубились в лес, на них со всех сторон посыпался град пуль. Потеряв несколько десятков солдат убитыми и бросив часть обоза, французы, отбиваясь на ходу от атак арабской конницы, выбрались из леса и расположились лагерем на берегу реки Сиг. Трезель решил отступить, но эмир перерезал дорогу на Оран, и французы вынуждены были направиться к Арзеву.
Абд-аль-Кадир, превосходно знавший местность, устроил новую засаду. Он отобрал тысячу лучших своих кавалеристов и приказал взять каждому к себе на коня по пехотинцу. Этот отряд, обогнав стороной французскую колонну, укрылся на поросших густым лесом склонах теснины, образуемой рекой Мактой. Именно сюда направилось французское войско. Иной дороги на Арзев не было.
Вступив в теснину, французы оказались в мышеловке. Десятки французских солдат были убиты первыми же залпами со склонов холмов; Одновременно с фронта и с тыла на французов устремилась конница Абд-аль-Кадира. Началась всеобщая паника. Множество солдат, пытавшихся спастись бегством, утонуло в реке. Разгром был полный. Остатки французского войска, потеряв почти весь обоз, с большим трудом прорвались к Арзеву.
Метрополия была потрясена поражением французских войск на Макте. Но как писал французский историк официального направления М. Валь, «этот разгром по крайней мере вызвал во Франции взрыв патриотизма». Трезель был смещен со своего поста в Оране и заменен генералом д'Арланжем. На место губернатора Алжира д'Эрлона был назначен маршал Клозель. Новый губернатор, прибыв в августе 1835 года в Алжир, издал прокламацию о скором покорении страны.
Абд-аль-Кадир в ответ усиливает и умножает атаки на французские войска и поселения колонистов. Он очищает от захватчиков равнину Митиджу и наглухо блокирует все портовые города, включая Алжир, — так, чтобы, по его словам, «даже птица не могла пролететь через городские стены».
Положение французских гарнизонов становится отчаянным. Маршал Клозель требует присылки дополнительных подкреплений. Правительство идет ему навстречу. Усилив оккупационную армию, Клозель ведет ее из города Алжира в Оранию, решив захватить столицу Абд-аль-Кадира Маскару.
Эмир, избегая прямого столкновения, преследовал французское войско, тревожа его внезапными нападениями небольших конных отрядов. Он выжидал удобного момента для крупного сражения. Этот момент наступил, когда французы вышли в долину реки Сиг. Здесь их уже ожидали главные силы эмира, расположенные им на удобных позициях, выбор которых, по словам английского полковника Черчилля, «сделал бы честь любому европейскому генералу».
Но, несмотря на полководческий талант эмира и отвагу его воинов, арабская армия была разбита наголову. Огонь французской полевой артиллерии опрокинул атаку арабской конницы и рассеял пехоту эмира. Абд-аль-Кадир мог ответить на него лишь несколькими выстрелами из четырех старых пушек, которые составляли всю его артиллерию. К тому же его вновь предали шейхи племен махзен, бежавшие со своими отрядами еще до начала битвы. Разгромленное войско эмира рассыпалось по Орании.
Абд-аль-Кадир
с горсткой ближайших сподвижников
укрывается в своем родовом имении.
Он не предается отчаянию и никого
не упрекает. Эмир остается
уверенным в себе и в конечном
торжестве своего дела. Матери,
которая пытается его утешить, эмир
мягко отвечает: «В жалости нуждаются
женщины, но не мужчины».
Клозель тем временем вступает в Маскару, но не застает там почти никого из жителей, покинувших город при первом же известии о приближении французского войска. Взорвав городскую крепость и уничтожив арсенал и склады провианта, заготовленные эмиром, французы оставляют Маскару.
Наутро другого дня перед распахнутыми воротами пустого города появился одинокий всадник. Это был Абд-аль-Кадир.
Вскоре прибыла его свита. Для эмира раскинули палатку у ворот Маскары. К вечеру в свои дома вернулись жители города. Вокруг палатки эмира постепенно собрались тысячи солдат его разбитого войска. Абд-аль-Кадир вышел к шейхам. Эмир отчитал их в гневной речи за трусость и поклялся не входить в Маскару до тех пор, пока не отомстит врагу за поражение. Лотом, пристально оглядев шейхов, он сказал, указывая на одного из них: «Я вижу среди вас изменников. Вот один из них, повесьте его».
Приказ был тотчас же выполнен.
Устрашив этой казнью предателей и вселив своей твердостью уверенность в соратников, Абд-аль-Кадир незамедлительно принимается за восстановление войскового порядка. Он разделяет скопище солдат на отряды, назначает для, них командиров, распоряжается доставить из тайных складов
В ту же ночь из Маскары во все концы страны помчались гонцы , с повелениями эмира своим наместникам и шейхам насчет дальнейшего ведения войны. ...
Уже через несколько дней конница, ведомая Абд-аль-Кадиром, разгромила одну из походных колонн Клозеля, направлявшуюся в Мостаганем. К началу 1836 года эмир восстановил свой контроль в сельской местности. Французы вновь были вынуждены спрятаться за городские стены. Экспедиция маршала Клозеля в Маскару существенно не изменила обстановку в стране. По признанию историка М. Валя, «плоды этой экспедиции, прозванной «маскарадом», были незначительны».
Но одного важного результата Клозель добился: получив известие о поражении Абд-аль-Кадира в битве под Маскарой, шейхи племен махзен начали переходить на сторону французов. Первым это сделал старый противник эмира Мустафа бен Исмаил, который предложил Клозелю помощь в походе на Тлемсен. Но когда французы заняли этот город, они потребовали у шейха 150 тысяч франков в доказательство его верноподданности. Тщетно Мустафа умолял маршала поверить в его преданность. Под угрозой расстрела заложников, взятых французами, ему пришлось отдать все свое золото и драгоценности.
Абд-аль-Кадир разослал по племенам прокламацию, написанную по этому поводу. В ней он спрашивал шейхов: «Если французы подобным образом ведут себя со своими союзниками, то чего же можно ожидать от них их вратам?» Вероломство маршала Клозеля заставило часть шейхов, склонявшихся к союзу с колонизаторами, изменить свои намерения и примкнуть к эмиру.
Остальных Абд-аль-Кадир безжалостно карает. Он вторгается со своим войском в долину реки Шелифа, где племена, возглавляемые сыновьями Сиди алъ-Араби, отдались под покровительство французов. В наказание за предательство эмир отнимает скот у 18 племен и казнит нескольких их вождей. Особенно сурово расправляется он с племенем борджиа, которое не раз нападало на мелкие его отряды и перехватывало его гонцов, выдавая их затем французам. Эмир приказывает обезглавить каждого десятого мужчину в племени, а само племя переселяет в отдаленный район страны.
В
этот период личность Абд-аль-Кадира
проявляется в отношениях с
внешним миром одной, и только одной,
своей стороной — той, которая
выражает его миссию рыцаря ислама.
Все мирское оттеснено сжигающей
его религиозной идеей. Все
человеческое скрыто за ипостасью
призванника божьего. Он — лишь
орудие всевышнего. Он —
олицетворение карающего меча
аллаха.
ТУПИКИ
ВЛАСТИ
Тафнский договор
Военные успехи кружат головы колонизаторам, распаляют тщеславие генералов. Желаемое принимается за действительное, намерения обретают вид свершений. После захвата Тлемсена маршал Клозель, ревностный сторонник «абсолютного господства» в Алжире, издает прокламацию об окончании войны. «Абд-аль-Кадир полностью разбит и бежал в Сахару», — читают в ней обрадованные колонисты. Победные реляции летят в Париж. Судя по ним, в Алжире остается только навести некоторый порядок, и колония будет готова к «освоению».
Но чтобы Париж в это поверил, Клозелю нужна громкая победа. Военные успехи, достигнутые в борьбе с эмиром на западе страны, весьма сомнительны. Армия Абд-аль-Кадира все еще существует. Захваченные города и укрепленные посты — всего лишь островки во владениях эмира. Маршал обращает свой взор на восток, где властвует бей Константины Ахмед, после изгнания алжирского бея объявивший себя самостоятельным правителем.
К нападению на Константину склоняет Клозеля бывший янычарский офицер Юсуф, перешедший к французам и заслуживший у них впоследствии генеральские эполеты. Он уверяет маршала, что стоит лишь французскому войску подойти к Константине, и в городе против бея начнется восстание жителей, которым ненавистно янычарское господство. Клозель легко поддается уговорам. Юсуфу обещан пост губернатора Константины. В ноябре 1836 года французское войско во главе с маршалом отправляется в поход.
Константина, в древности столица нумидийского вождя Масиниссы, вполне оправдывала свое старое пуническое название «Цирта» — «Круто обрубленная». Она была расположена на высоком и крутом утесе, который с трех сторон огибала бурная река Руммель. Попасть в город можно было только через старый мост, построенный еще римлянами. Войско бея состояло из янычар, сильного кавалерийского отряда и ополчения, набранного из подчиненных ему окрестных племен.
Подходя и Константине, маршал Клозель надеялся; что его встретят жители с-ключами от города, Однако французское войско было встречено пушечными залпами. Незадолго до этого бей Ахмед вышел из Константины с конницей и укрылся в засаде, поручив оборону города своему помощнику Бен-Аисе. Две попытки штурма были успешно отбиты осажденными. С тыла французов беспрерывно атаковала кавалерия бея. Французское войско страдало от эпидемии простудных заболеваний: стояли холода. Начинался голод, потому что, рассчитывая на быструю победу, маршал отправился в поход налегке, не захватив достаточно провианта. Армия таяла на глазах. Клозелю ничего не оставалось, как дать приказ к отступлению. Ахмед-бей в течение нескольких дней преследовал французов, изматывая их силы частыми нападениями. Когда войско вошло в город Алжир, оно представляло собой жалкую толпу больных, израненных людей, утратившую всякий военный порядок. Уже после возвращения в госпиталях от болезней и ран, полученных в экспедиции, умерло около двух тысяч солдат.
Абд-аль-Кадир держался в стороне от военной кампании в Восточном Алжире, надеясь использовать в своих интересах любой ее исход. Ахмед был сильным и опасным противником эмира среди алжирских вождей, и в случае поражения бея Абд-аль-Кадир рассчитывал подчинить себе провинцию Константину. Поражение французов позволило ему начать широкое наступление на их позиции в западных и центральных районах страны.
По приказу эмира все население подвластных ему провинций поднялось на войну против колонизаторов. Из пустыни пришли конные отряды бедуинов. С гор спустились тысячи вооруженных крестьян. Хозяйства французских колонистов повсюду были разгромлены. Все оккупированные города и укрепленные посты были осаждены, а все дороги между ними перекрыты.
Почти вся страна оказалась во власти эмира. Основу успеха обеспечила предшествующая его деятельность по объединению народа. Признавая этот факт, генерал Бюжо писал в одной из своих книг: «Не прошло и двух лет с того времени, как арабы, действуя не изолированно и разрозненно, как прежде, а сообща, по приказу и под руководством единой воли, обладавшей политической и религиозной властью, начали сжигать поместья у стен Алжира, перерезать наши коммуникации и установили полное господство в провинциях Оран, Алжир, Титтери и частично Константина».
Известия из Алжира вызывают переполох во французской палате депутатов. Вновь встаёт вопрос о целесообразности завоевания Алжира; Оппозиция выступает за прекращение алжирской войны, потому что, как заявил депутат М. Дюпэн, «она грозит поглотить последнего нашего солдата». Но большинство сходится на том, что колонизацию надо продолжать, но более умеренными способами, чем прежде. Маршала Клозеля, поборника «полной оккупации», смещают. На его место назначен генерал Дамремон, которому правительство дает наказ проводить «ограниченную, постепенную и мирную оккупацию». Подобные наставления давались всем алжирским губернаторам, менявшимся почти каждый год. Но все эти генералы и маршалы забывали о них как только прибывали в Алжир. «Каждый новый губернатор являлся лишь для того, чтобы повторить все жестокости своего предшественника», — писал Ф. Энгельс в статье об Алжире[6].
Абд-аль-Кадир
был хорошо осведомлен о
политической жизни Франция. В
метрополии и в крупных городах
Алжира находились его агенты,
которые периодически извещали
эмира о текущих событиях. Эмир
регулярно выписывал французские
газеты и журналы, из которых для
него переводили все важные статьи.
Д'Эстейер-Шантерен пишет: «Отважный
когда надо, осторожный в принятии
решений, эмир, прежде чем действовать,
ждал новостей о французской
внутренней политике.
Французский историк, подчеркивая, что успехи Абд-аль-Кадира целиком зависели от развития политических событий во Франции, сильно преувеличивает. Верно здесь то, что эмир действительно чутко следил за политическими изменениями в метрополии и е искусством талантливого дипломата использовал их в своих отношениях с французами. И когда губернатор Орана генерал Бюжо во исполнение миротворческих указаний правительства попытался склонить Абд-аль-Кадира к миру на невыгодных для алжирцев условиях, эмир, осведомленный о сильной оппозиции войне во Франции» отказался даже обсуждать эти условия.
Через своего агента Дюрана эмир известил генерала, что никогда не согласится подписать договор, еще более неприемлемый для алжирцев, чем договор, заключенный с Демишелем. Он выдвинул собственные условия мира, согласно которым вся страна, за исключением нескольких портов, должна быть признана самостоятельным государством. Тем самым осуществились бы его сокровенные замыслы о созданий независимого Алжира.
Генерал
Бюжо счел эти предложения столь
несовместимыми с интересами Франции,
что решил немедленно начать войну.
В начале мая 1837 года он стянул
основные силы французских войск
в лагерь на Тафне и начал
подготовку к походу. Но из этой
затеи ничего не вышло. Для крупной
экспедиции в глубь страны у
французов не хватало ни провианта,
ни лошадей. Племена, напуганные
карами Абд-аль-Кадира, не хотели
рисковать, вступая в торговлю с
колонизаторами. На всех дорогах
господствовали войска эмира. Генералу
пришлось снова начать переговоры о
мире. И вести их на основе предложений,
выдвинутых Абд-аль-Кадиром, поскольку
французское господство в Алжире
в этот период оказалось на грани
полного краха. Момент для
заключения мира был чрезвычайно
благоприятен для алжирцев. Абд-аль-Кадир
это прекрасно сознавал. Однако и на
этот раз его попытки убедить своих
сподвижников в необходимости
мирных переговоров уперлись в
религиозный фанатизм некоторых
влиятельных феодалов. Тогда он
решает поставить дело так, чтобы
ответственность за принятие договора
взяли на себя сами шейхи. Пусть он
будет лишь исполнителем их воли.
Пусть сами они убедят в благотворности
мира приверженцев войны до полной
победы.
В
мае 1837 года на берегу реки Хабры Абд-аль-Кадир
собирает большой совет, на который
приглашены все шейхи племен,
военачальники, марабуты, улемы.
Эмир рассказывает им о переговорах
с французами и излагает условия
мирного договора, заканчивая свою
речь словами: «Пусть никто из
вас не обвиняет меня в желании
заключить мир с христианами.
Решайте сами, быть миру или войне».
После
долгого и бурного обсуждения совет
под влиянием близких соратников
Абд-аль-Кадира одобрял заключение
мира с французами, 30 мая 1837 года в Т!афи«
бьш подписан договор,
составленный на французском и
арабском языках. Вот основные его
пункты согласно французскому
тексту:
— Абд-аль-Кадир признает верховную власть Франции.
— За французами останутся в провинции Оран города Мостаганем, Мазагран, Оран, Арзев и территория на восток до реки Макта; в провинции Алжир — город Алжир, Сахель, Митиджа на восток до вади Кадар и далее.
—
Под властью Абд-аль-Кадира
находятся провинции Оран, Титтери и
часть провинции
— Французские войска отдадут эмиру Рашгун и Тлемсен с цитаделью и пушками.
— Торговля внутри Алжира будет свободна; внешняя торговля алжирского государства будет вестись только через французские порты. Эмир может покупать во Франции порох, серу и оружие.
— Эмир гарантирует безопасность французских колонистов.
— Абд-аль-Кадир обязуется не допускать на побережье Алжира никакой иностранной державы.
— Французские власти и эмир обмениваются дипломатическими агентами.
Впоследствии в арабском и французском текстах договора обнаружится серьезное разночтение, которое вызовет тяжкие последствия для обеих сторон. В арабском тексте первая статья договора вовсе не обозначала признание Абд-аль-Кадиром вассальной зависимости от Франции. Согласно этой статье эмир лишь «признает, что король Франции велик». Другое различие: пункт, ограничивающий французскую территорию, по-арабски звучит «до вади Кадар и выше», что означает закрепление фактического владения, по-французски — «до вади Кадар и дальше», что не ставит пределов возможным притязаниям французов на всю провинцию Константину.
Но и французский текст договора был принят с большим недовольством в Париже, который в инструкциях, данных генералу Бюжо, настаивал на двух непременных условиях: ограничении владений эмира провинцией Оран и выплате им ежегодной дани, которая служила бы символом его признания вассальной зависимости от Франции. Пытаясь оправдаться, генерал писал министру иностранных дел:
«Как Вы можете предположить, я с чрезвычайной неохотой был вынужден нарушить Ваши инструкции относительно границ владений эмира. Но иначе я не мог поступить. Уверяю Вас, что мир, который я заключил, является наилучшим выходом из положения».
Генерал знал, что писал. Ему лучше, чем кому бы то ни было в Париже, было известно действительное состояние дел в Алжире. Договор по крайней мере закреплял за французами основные захваченные ими земли и, провозглашая свободу торговли, устранял постоянную опасность голода, тяготевшую над оккупированными городами. И если для Абд-аль-Кадира главным в этот момент было выполнение территориальных условий договора, то Бюжо прежде всего настаивал на возобновлении торговли арабских племен с городами. Об этом свидетельствует описанная современником беседа, которая состоялась между Абд-аль-Кадиром и Бюжо. Любопытна она еще и тем, что в ней обнаруживаются некоторые черты характера собеседников.
Утром 31 мая 1837 года генерал Бюжо в сопровождении шести батальонов и нескольких батарей полевых орудий прибыл на условленное место встречи. Эмира там не оказалось. В полдень его все еще не было. Обеспокоенные французы начали строиться в боевые порядки, опасаясь неожиданного нападения. Наконец прискакали арабские гонцы, передавшие извинения эмира и его просьбу отложить встречу на следующий день.
Опоздал он потому, что не успел как следует подготовиться к ней. Абд-аль-Кадир, впервые встречавшийся лично с французским генералом, хотел ритуально обставить свидание так, чтобы произвести наибольшее впечатление на французов и, что еще важнее было для него, на арабских вождей.
На другой день утром французы увидели невдалеке от своего лагеря конницу эмира, которая состояла из 15 тысяч всадников, выстроенных в образцовом порядке. От нее отделился отряд в несколько десятков вождей в разноцветных одеждах и увешанных оружием, сверкающим золотом и драгоценными камнями. Впереди на великолепном вороном коне скакал эмир, одетый в белый бурнус. Генерал Бюжо, окруженный своими офицерами, направился ему навстречу. Противники пожали руки, спешились и, усевшись на траву, начали беседу при помощи переводчиков.
— Знаете ли вы, — со снисходительным высокомерием начал Бюжо, — что не всякий французский генерал решился бы заключить подобный договор, возвышающий вас? Я же пошел на это, потому что уверен, что условия этого договора могут быть использованы вами для улучшения состояния арабского народа, для установления прочного мира и доброго согласия с Францией.
— Мне кажется, — ответил с легким сарказмом эмир, — что вы слишком высоко оцениваете меня. Но, видит бог, я постараюсь сделать арабов счастливыми; и если мир когда-либо нарушится, это случится не по моей вине. С моей стороны не ждите вероломства.
—
В этом смысле вы так же можете быть
уверены в короле Франции.
Разрешите ли вы торговать арабам с
городами?
— Нет еще. Я это сделаю только тогда, когда вы возвратите Тлемсен.
— Вы должны знать, что я не могу оставить город, пока договор не одобрен королем.
— Как долго надо ожидать ответа из Франции?
— Около трех недель.
— Это слишком много. Во всяком случае; мы не сможем торговать, пока не прибудет одобрение короля. Только тогда мир будет утвержден окончательно.
В таком же примерно духе беседа протекала и дальше. Генерал настаивал на немедленном возобновлении торговли. Эмир твердо стоял на том, чтобы французы сперва вернули отнятые у него города. Генерал угрожающе намекал на возможность новой войны. Эмир спокойно отвечал: «На то воля аллаха». Бюжо вернулся в свой лагерь, так и не добившись никаких преимуществ.
Для французской стороны с самого начала был характерен деляческий и недобросовестный подход к переговорам с эмиром. Одновременно с этим французы тайно пытались договориться с беем Константины о совместной войне против Абд-аль-Кадира. Сделка не состоялась, потому что узнавший о ее подготовке эмир прервал переговоры и пригрозил начать военные действия. Колонизаторам пришлось отказаться от своих замыслов, тем более, что Ахмед-бей также выставил неприемлемые для них условия.
Была в Тафнском договоре и еще одна темная сторона. Как обнаружилось позднее на судебном процессе в Перпиньяне по делу одного из подчиненных Бюжо офицеров, Абд-аль-Кадир через посредника передал генералу 180 тысяч франков. Бюжо, который выступал свидетелем на этом процессе, заявил, что он хотел истратить 100 тысяч франков на «улучшение проселочных дорог своего департамента, а оставшиеся 80 тысяч распределить среди офицеров моего Штаба, которые оказали мне услугу». В заключение он сказал: «Как видите, господа, я перед лицом молодых офицеров, которые слышат меня, открыто признаю, что совершил поступок, недостойный дворянина и командующего армией».
По-видимому,
кроме Официального договора, было
подписано еще и секретное
соглашение, по которому Бюжо за
крупную сумму денег сделал какие-то
уступки эмиру и, в частности,
согласился поставить ему большую
партию военного снаряжения; Это
явствует из письма Абд-аль-Кадира
генералу от 26 июня 1837 года:
«Я заключил соглашение, по которому Вы обязуетесь поставить мне 3000 ружей и 1000 кинталов пороха по ценам, обусловленным ранее. Согласно подписанному Вами обязательству поставки оружия должны, завершиться в течение трех месяцев. Ваше письмо останется у меня в качестве свидетельства».
Подробности тайного соглашения до сих пор еще не выяснены. Но как бы там ни было, ясно главное: искусно использовав политическую обстановку в стане врага и сыграв на сребролюбии французского генерала, Абд-аль-Кадир добился всего, чего можно было добиться. Эмиру вернули отнятые у него города и земли. Он получил оружие. И наконец, он был фактически признан самостоятельным государем. Уже в июне 1837 года Тафнский договор был утвержден королем. 13 июля эмир торжественно вступил в город Тлемсен. Абд-аль-Кадир приветствовал древнюю столицу арабских монархов восторженной одой.
Увидев
меня, красавица протянула мне свою
руку для поцелуя.
Я
поднял покрывало, скрывавшее
тонкий овал ее лица,
Моё
сердце затрепетало
От
радости и счастья.
Её
алые щеки напоминали пылающий
огонь;
Расставаясь
с ней, враг проливал горькие слезы.
Она
всегда была безразлична к тому, кто
был ее господином.
Она
опускала свои прекрасные длинные
ресницы и отворачивалась.
Лишь
меня одного дарила она улыбкой и
сделала счастливейшим из монархов.
Французы, стремившиеся взять реванш за уступки, сделанные Абд-аль-Кадиру, предприняли в октябре 1837 года новый поход на Константину, который возглавил генерал-губернатор Дамремон. На этот раз экспедиция была хорошо подготовлена. После трехдневной бомбардировки осадной артиллерией город, был взят приступом. Ахмед-бей с небольшим отрядом бежал в горы. Константина подверглась повальному ограблению. Участник штурма Сент-Арно свидетельствует:
«Грабеж, которым занялись сначала солдаты, захватил затем и офицеров. Когда мы оставили Константину, как всегда, оказалось, что наиболее богатая и наиболее обильная часть добычи досталась командованию армией и офицерам штаба».
Другой французский автор пишет о взятии Константины: «Множество жителей, особенно, женщины, обезумев при виде французских солдат, бросались в глубокие ущелья, на дне которых течет река Руммель».
Падение
Константины, объяснялось в
значительной мере тем, что Ахмед-бей
в прошлом упорно отвергал все
предложения Абд-аль-Кадира о
заключении союза. После захвати города
французами бей, сохранявший
большое влияние в Восточном
Алжире, продолжал враждебно
относиться к эмиру, В конце 1837 года
население Бискры, крупного оазиса
на востоке страны, опасаясь
французского вторжения, признало
власть Абд-аль-Кадира. Ахмед-бей
воспротивился этому и попытался
не допустить в Бискру наместника
эмира, но его войско было разбито.
Бей бежал в Сахару.
«Перевязь
эскадронов»
Итак, Абд-аль-Кадир, которому не минуло еще и тридцати лет, стал властелином обширной страны, вдвое превышавшей янычарский Алжир. Сотни племен признали его власть. Под французским господством осталось лишь несколько прибрежных городов с прилегающими, к ним местностями. Но и оттуда арабское население, притесняемое французскими колонистами, перебиралось во владения эмира. Французский историк С. Эскер пишет о подвергшихся колонизации районах Алжира: «Страдая от условий, в которых им не обеспечивались ни спокойствие в отношениях с новыми соседями, ни безопасность от грабежей, многие коренные жители переселялись на земли Абд-аль-Кадира... Арабская культура исчезла и лишь частично была заменена европейской».
Задуманное свершилось. Отгремели салюты в ознаменование успешного окончания «священной войны». Отзвучали здравицы в честь ее победоносного вождя. Вознесены благодарственные молитвы аллаху. Что же дальше?
Дальше обычно в мусульманском мире оставалось все как было. Старые общественные и экономические отношения сохранялись. Жизнь текла по замкнутому кругу благодаря политическому равновесию между городами и сельской местностью. Задача государственной власти заключалась в том, чтобы поддерживать это равновесие.
«Все эти проходившие под религиозной оболочкой движения, — писал об этом Ф. Энгельс, — вызывались экономическими причинами; но даже в случае победы, они оставляют неприкосновенными прежние экономические условия. Таким образом, все остается по-старому, и столкновения становятся периодическими. Напротив, в народных восстаниях христианского Запада религиозная оболочка служит лишь знаменем и прикрытием для нападения на устаревающий экономический строй. Последний в конце ниспровергается, его сменяет новый, мир развивается дальше»[7].
В Алжире традиционный круговорот мусульманской общественной жизни был нарушен французским вторжением. После окончания войны он не мог восстановиться по объективным причинам. Поскольку все крупные города были захвачены французами, мусульманская государственная власть лишилась одной из главных экономических опор, с помощью которой она могла бы поддерживать равновесие социально-политических сил в стране. Но главная причина не в этом. Оказавшиеся в руках французской буржуазии города и поселения колонистов, социально чуждые окружавшей их феодальной и племенной среде, своим экономическим воздействием разлагали мусульманское общество. А так как только что возникшее алжирское государство нуждалось в экономических связях с городами, которые ко всему прочему были еще и центрами внешней торговли, то оно не могло отгородиться от этого воздействия и должно было приспосабливаться к новым условиям. Наконец, чтобы обеспечить военную защиту от нового нападения иноземцев, ему нужно было создать армию, равноценную по боевым качествам войску противника. А это также влекло за собой необходимость преобразований в важнейших сферах общественной жизни. В общем, чтобы сохранить свою независимость, мусульманское общество должно было экономически и социально перестроиться.
К старому путь был закрыт. Но он не был открыт и к новому. В этом заключалась историческая трагедия всех национальных движений в восточных странах той эпохи. Европейский капитализм допускал перенесение сюда экономического (и научно-технического прогресса только в форме колонизации. Причем, утратив независимость, колониальные страны не получали взамен плодов перенесенного прогресса, которые целиком доставались колонизаторам. Если же народу удавалось отстоять независимость и во главе этого народа оказывался реформатор, сознававший необходимость социальных и иных перемен, западная буржуазия старалась наглухо закрыть для него всякий доступ к достижениям европейского прогресса.
Путь к преобразованиям был заперт и изнутри — старыми социальными связями, традициями, всем укладом общественной жизни. Взгляды реформатора разделялись лишь ничтожным меньшинством его соотечественников. Как только власть вождя выходила за традиционно допустимые пределы, она сразу же натыкалась на патриархальную косность, феодальное местничество, религиозные предрассудки.
Единственным орудием, способным пробить дорогу новому, была армия. И не только потому, что она составляет главную силу власти. Армия, единокровная старым общественным институтам, всегда выступает охранительницей этих институтов, как это было в янычарском Алжире или в мамлюкском Египте. Но армия, выросшая в войне с противником, превосходящим ее в военно-техническом и прочих отношениях, преображается в такой войне, воспринимая у врага формы организации, тактические приемы, военную технику. Необходимость этого заимствования столь настоятельна и очевидна, а власть вождя во время войны столь велика, что косные силы оказываются не в состоянии помешать структурному обновлению войска. В итоге армия становится первым каналом, через который нововведения проникают в страну. И в силу этого она превращается в орудие дальнейших преобразований. Армия служит центральной власти не только как средство насилия, но и являет собой образец для переустройства других общественных институтов и дает самой государственной власти готовую форму организации.
Именно армия стала скрепляющей силой и основой организации независимого алжирского государства. Когда Абд-аль-Кадир начинал «священную войну», его войско представляло собой племенное ополчение, не знавшее ни надлежащей дисциплины, ни строгого воинского порядка. Оно составлялось по племенам, и для воинов их шейх всегда оставался воплощением высшей власти, потому что и на войне племенная асабийя была сильней армейской дисциплины и воинского долга. По зову своего шейха солдаты могли покинуть поле боя, хотя бы и сам эмир повелевал им остаться. В течение года состав армии заметно менялся по сезонам: весной стремились вернуться к своим пашням и садам феллахи, осенью вслед за кочевьями тянуло на юг бедуинов.
В ходе войны возникла регулярная армия. Пользуясь мирной передышкой, Абд-аль-Кадир постоянно укреплял и совершенствовал ее организацию и вооружение. Пехота подразделялась на батальоны. Каждый из них включал 1200 солдат и возглавлялся тысячником — агой. Батальон состоял из рот по сто солдат, которыми командовали сотники — сияфа. Конница объединялась в 12 эскадронов, во главе каждого стоял ага. Батальонам придавались ремесленные команды из оружейников, шорников, портных; которые следили за готовностью военного снаряжения и исправностью обмундирования. Пехотинцы носили синюю форму, кавалеристы — красную. Командиры имели знаки отличия, на их одежде были вышиты изречения. У аги на правой стороне груди можно было прочесть: «Ничто так не содействует победе, как благочестие и храбрость», на левой — «ничто так не вредит, как пререкания и жажда власти».
Сириец Си Каддур-бен-Мохаммед написал согласно наставлениям эмира военный устав, называвшийся «Перевязь эскадронов и убор победоносной мусульманской армии». Дважды в месяц устав зачитывался во всех войсковых подразделениях. На знамени эмира — зеленом полотнище с широкой белой полосой посередине была изображена рука, обведенная золотой надписью: «Победа от бога, и победа близка».
У французской армии эмир перенял барабанные и трубные сигналы. За проявленную в бою отвагу воины награждались серебряными или золотыми значками в виде руки с вытянутыми пальцами: они давали право на дополнительное жалованье.
Абд-аль-Кадир приглашал к себе на службу, военных инструкторов из Туниса и Триполи. Обучением его армии занимались также французские дезертиры. При каждом батальоне имелся врач, в Тлемсене был создан военный госпиталь. Все врачи были европейцами, нанятыми эмиром.
Абд-аяь-Кадир стремился поелику возможно европеизировать свою армию, следуя в этом реформам египетского правителя Мухаммеда Али, с которыми он ознакомился во время своего паломничества. Но европеизация могла происходить лишь е помощью Европы. Франция же, во многом содействовавшая деятельности египетского реформатора — это подрывало позиции Англии на Ближнем Востоке, — очень сдержанно, если не враждебно, относилась к начинаниям алжирского преобразователя. Здесь Франция признавала европеизацию только по-французски, но никак не по-арабски. В противном случае она подрывала бы собственные позиции в Алжире, не говоря уже о том, что утратил бы всякий смысл миф о ее «цивилизаторской миссии». Поэтому эмиру лишь с величайшим трудом и с различными ухищрениями удавалось находить европейских специалистов, приобретать машины и военное снаряжение. Во Франции его вербовщиков арестовывали, законтрактованных техников перехватывали, отправку закупленных материалов задерживали.
Хотя Абд-аль-Кадир значительно улучшил вооружение алжирской армии, оно все же еще сильно уступало вооружению французского войска. У солдат регулярной арабской армии, кроме холодного оружия, были гладкоствольные мушкеты, которые эмир закупал в Марокко, в Гибралтаре, Тунисе. Крупные партии оружия приобретал он и у французов, причем не только в мирное время. Один французский генерал заработал на тайных поставках оружия эмиру 20 тысяч франков.
Абд-аль-Кадир создал и собственные оружейные мастерские. В Милиане литейным заведением руководил французский минералог, Алкье Казе. В Тлемсене изготавливал пушки испанский мастер. В Текедемпте французские механики, работавшие по контракту, руководили производством ружей. В нескольких городах действовали пороховые мастерские. Слабее всего алжирская армия была вооружена артиллерией. Насчитывалось всего лишь 20 пушек, по большей части устаревших или примитивно изготовленных. Поэтому эмир не мог себе позволить завязывать с французами крупные сражения или предпринимать осаду городов.
Военные потребности вызвали увеличение горнорудного производства. Расширились старые и возникли новые разработки железа, меди, селитры, серы. Эмир лично следил за доставкой сырья в оружейные мастерские.
В армии Абд-аль-Кадира была установлена строгая дисциплина, всякое ее нарушение жестоко каралось. Среди солдат царили пуританские нравы, введенные и бдительно охраняемые самим эмиром. Впоследствии он будет рассказывать полковнику Черчиллю:
«Я полностью запретил украшать одежду золотом и серебром, потому что мне всегда претила в мужчинах кичливость и показная роскошь. Я терпел такие украшения лишь на оружии и конной сбруе...
Я первым подавал пример, одеваясь как самый последний из моих слуг. Делал я это отнюдь не потому, что опасался стать яркой мишенью для вражеских пуль; поступая таким образом, я хотел показать арабам, что в глазах бога они станут выглядеть лучше, если будут приобретать оружие, военное снаряжение и коней вместо того, чтобы покрывать свою одежду тонким и красивым, но расточительным и бесполезным орнаментом.
Вино и азартные игры были строго запрещены. Точно так же, как и курение табака. Правда, курение не возбраняется нашей религией, но мои солдаты были бедны, и я стремился удержать их от привычки, которая иногда так захватывает человека, что он в угоду ей может довести до нищеты свою семью и даже продать собственное платье. Курение и случалось, но очень редко и всегда тайком. Что же до марабутов, чиновных лиц и всех тех, кто был связан с правительством, то они совершенно отказались от курения. Один этот факт показывает, до какой степени я преуспел, добиваясь полного повиновения».
Факт действительно показательный, если учесть, что в период турецкого господства в Алжире, особенно среди феодальной знати, в широкое употребление вошло курение кальяна.
Все вооруженные силы алжирского государства исчислялись примерно в 60 тысяч человек. Но в боевых операциях одновременно участвовало не более 20 тысяч, потому что чаще всего применявшаяся тактика партизанской войны — внезапные набеги, засады и т. п. — ограничивала в боевых действиях численность воинских единиц. В крупных сражениях Абд-аль-Кадир продолжал широко использовать и племенное ополчение, целиком состоявшее обычно из арабской конницы.
В зависимости от местных условий и характера боевых действий регулярная армия прибегала к помощи вооруженных феллахов и бедуинов и в небольших операциях. После окончания боя они возвращались к мирному труду. Это позволяло сравнительно небольшим отрядам регулярной армии, легко маневрируя, ускользать от французских войск, а в нужный момент обрастать крестьянским пополнением и наносить неожиданные и действенные удары. Такая тактика приносила не только военные успехи. Она ослабляла боевой дух французского войска: колонизаторы в каждом местном жителе видели партизана, в каждом племени — партизанский отряд. Это создавало вокруг захватчиков атмосферу постоянного страха и неуверенности.
Чтобы обеспечить защиту страны в случае новой войны с французами и укрепить контроль над племенами, Абд-аль-Кадир разработал стратегический план обороны. Он основывался на создании трех оборонительных линий, протянувшихся вдоль побережья. Первая состояла из племен, расселенных эмиром вблизи французских владений. Две другие образовывали цепи укрепленных фортов.
Среди этих крепостей эмир выделил Текедемпт, основанный некогда римлянами, возродившийся как крупный культурный центр после прихода в Магриб арабов и разрушенный в одной из междоусобных войн в X веке. Город был очень удобно расположен на торговых путях, ведущих из Алжира в Марокко и Сахару. Когда Абд-аль-Кадир впервые посетил Текедемпт, почти весь город лежал в руинах, заросших кустарником. Эмир сам подготовил проект его восстановления. Из других районов страны были доставлены мастеровые. Окрестные племена были освобождены от податей на том условии, что они предоставят людей для строительства. И уже через два года Текедемпт преобразился. Поднялись крепостные стены и башни, вырос белокаменный минарет, ожили городские дома, куда по приказу эмира переселилась часть жителей других алжирских городов. В древних погребах римской постройки были размещены склады и мастерские. В городе возродились ремесла и торговля.
«Согласно моему проекту, — говорил Абд-аль-Кадир, — Текедемпт должен был стать крупным городом — узлом торговых связей между побережьем и Сахарой. Арабы были довольны его местоположением. Они приходили сюда торговать, потому что это сулило им большие выгоды. Город стал колючкой в глазах для независимых племен, обитавших в пустыне. Они не могли ни укрыться от меня, ни досаждать мне. Сахара не родит хлеба, и за ним племена были вынуждены обращаться ко мне. Я воздвиг Текедемпт над их головами. Они чувствовали это и торопились заверить меня в своей покорности».
Но далеко не во всех местностях власть эмира утверждалась столь гладко. Крупные феодалы, враждебно встречавшие нововведения Абд-аль-Кадира. продолжали устраивать против него Заговоры и мятежи. В начале 1838 года на юге провинции Титтери несколько племен объединились в военный союз, возглавленный сахарским шейхом Ибн Моктаром, и заявили о своем отделении от алжирского государства. Абд-аль-Кадир приказал своему наместнику в Милиане Вен Аллалю подавить мятеж. Однако войску Бен Аллаля это оказалось не под силу! Тогда эмир, направив в Титтери подкрепления, сам возглавил поход на взбунтовавшиеся племена. Прежде чем напасть на мятежников, Абд-аль-Кадир попытался миром склонить их к повиновению. Он направил Ибн Моктару письмо, которое заканчивалось так:
«Не обольщайтесь числом ваших воинов, ибо, хотя оно было бы и вдвое большим, я победил бы их; со мной Аллах, и я повинуюсь ему. Не питайте надежду, что сможете укрыться от меня. Клянусь, вы для меня не более как стакан воды в руках жаждущего».
Угрозы и уговоры не подействовали. Началось сражение, которое с небольшими перерывами продолжалось три дня. Мятежное войско было разгромлено, Ибн Моктар сдался и плен и просил пощады. К его удивлению, эмир не только даровал ему жизнь, но и назначил его своим халифом в этой области. С тех пор Ибн Моктар оставался одним из самых преданных сторонников эмира.
Выступая как орудие государственного объединения, армия Абд-аль-Кадира силой подавляла проявления феодально-племенного сепаратизма. Выполняя миссию политической организации молодого государства, она силой же сломала старые порядки и традиции. Но это не означает, что армия стала привилегированной настой, обособленной от народа и чуждой ему по своим интересам. Напротив, именно благодаря своей близости народу армия могла осуществлять свои реформаторские цели. Эти цели были слиты воедино, с общенародной задачей борьбы против иноземного порабощения. Они выражали в этот период интересы всего коренного, населения Алжира, независимо, от социальных, племенных, культурных различий. Поэтому большинство племен и общественных слоев народа поддерживало, добровольно или вынужденно, нововведения Абд-аль-Кадира.
Все племенные и феодальные вожди, которые искренно и сознательно стремились отстоять свободу от колониального господства европейцев, рано или поздно убеждались в благотворности реформ, вводимых центральной властью. Даже во времена тяжелых испытаний эти вожди сохраняли верность Абд-аль-Кадиру, не поддаваясь тем искусам, которыми их пытались соблазнить колонизаторы. Когда после возобновления войны французский генерал предложил Бен Аллалю изменить эмиру за огромное денежное вознаграждение и возвращение захваченных у него земель, наместник эмира ответил:
«От Джебель Дахла до Уэд Фодда я властвую, я борюсь, я творю суд. Что же ты мне предлагаешь взамен этой власти, осуществляемой мною во славу божию и на службе у эмира Абд-аль-Кадира? Мои владения, которые порох может так же вернуть мне, как он и взял их у меня? Да еще деньги и звание предателя?»
Такой же ответ получили французы от племен, обитавших в районе Маскары:.
«Старайтесь
получше управлять своей
собственной страной, от жителей же
нашей страны вы не добьетесь ничего,
кроме огня из наших ружей. Даже если
вы останетесь у нас на сто лет, ваши
хитрости не обманут нас. Мы целиком
уповаем на бога и на его пророка.
Наш господин и имам аль-Хадж Абд-аль-Кадир
среди нас».
Становление алжирского государства опиралось, прежде всего, на общность интересов и целей алжирцев, возникшую в ответ на вторжение иноземных завоевателей. При, этом насилие со стороны центральной власти выполняло служебную роль. Армия была не столько подавляющей, сколько направляющей силой. И не страх, вызываемый этой силой, соединял людей в государстве, а чувство, проистекавшее из общности жизненных интересов народа, над которым нависла угроза иноземного порабощения. Современный алжирский социолог и общественный деятель М. Лашераф называет это чувство «крестьянским патриотизмом, явлением неопределенным и не находящим выражения в отточенных формулировках доктрин, но бесспорно национальным по своему значению».
Это
чувство предвещало возникновение
национального сознания алжирского
народа. В нем проявилось стремление
алжирцев к объединению, поборником
которого выступил Абд-аль-Кадир.
Строитель
государства
Абд-аль-Кадир был сыном своего народа и своей эпохи. И хотя он смотрел дальше и видел глубже, чем его соотечественники, его реформаторские дерзания ограничивались социальными условиями этой эпохи. Для общественного строя Алжира того времени характерно тесное переплетение старых родо-племенных связей и выросших из них классовых феодальных отношений, которые, как правило, выступают в прежней оболочке. Они лишь начали оформляться в самостоятельную социальную систему и действовали вместе и одновременно с еще жизнеспособной системой патриархально-общинных отношений. В каждом из общественных слоев, будь то крестьянство, феодалы или ремесленники, самодеятельной единицей являлась все еще группа родственников — племя, род или патриархальная семья, — а не индивидуум, который обретал социальную значимость лишь как член группы. Отсюда консерватизм ранних общественных форм, устойчивость которых, не подрываемая частной инициативой, охраняется родо-племенными порядками.
В своих нововведениях Абд-аль-Кадир в целом не выходил за рамки этого общественного строя. Советская исследовательница Н. Г. Хмелева, изучавшая государственную деятельность эмира, приходит к выводу, что основанное им государство Оставалось феодальным и своих главных устоях. Но, борясь против племенной замкнутости и феодального сепаратизма, Абд-аль-Кадир содействовал вызреванию единой алжирской народности. «Этот момент, — пишет Н. Г. Хмелева, — является тем основным пунктом, который в корне отличает алжирское государство от ранее существовавших на территорий Алжира, в частности, от турецко-янычарского государства, уничтоженного французами».
Возглавляя народное сопротивление нашествию чужеземных захватчиков, Абд-аль-Кадир побуждал алжирцев к национальному единению. В этом его главная историческая заслуга перед алжирским народом. Даже враги эмира смогли оценить значение его объединительной деятельности. Генерал Клозель отмечал, что Абд-аль-Кадир «искал основную силу в создании единства племен, он ставил политическую революцию, как первую веху в социальном обновлении». Другой французский автор пишет: «Турки разъединяли арабов, Абд-аль-Кадир пытался объединить их».
Созданное эмиром государство представляло собой военно-феодальное объединение, сохранявшее многие черты племенной демократии. Эта особенность яв.ственно обнаруживается в самом устройстве верховной власти. Хотя Абд-аль-Кадир был фактически самодержавным монархом, но пост и титул ему вручило собрание племенных шейхов. Несмотря на то, что все государственные решения принимались центральной властью, наиболее важные из них выносились на обсуждение выборного совета, состоявшего из представителей племен, ибо, по словам эмира, «ни одно решение не может быть законным, если оно не одобрено народом».
Законодательная власть в государстве принадлежала Высшему совету, включавшему одиннадцать ученых — улемов и руководимому заместителем эмира, верховным судьей Ахмедом аль-Хашими. Исполнительную власть осуществлял Диван, состоявший из восьми министров-визирей. Самым влиятельным из них был визирь Мухаммед аль-Джайлани, ведавший делами обороны. По его ведомству проходили почти все государственные расходы, он руководил работой мануфактур, в его распоряжении находился монетный двор.
Абд-аль-Кадир создал новое для Алжира государственное устройство. Биограф эмира французский полковник П. Азан писал: «Его система управления была совершенно отлична от той, которая существовала в период турецкого господства. Турки ограничивались тем, что держали свои войска в главных городах, осуществляя свою власть в сельской местности при помощи преданных им племен махзен; Абд-аль-Кадир, напротив, хотел непосредственно управлять арабами и кабилами, посылая к ним своих вождей и чиновников».
Государство было разделено на восемь халифалыков — наместничеств. Этими областями управляли халифы, которых назначал Абд-аль-Кадир. Халифалыки, в свою очередь, делились на агалыки — районы, возглавлявшиеся ага. В их непосредственном подчинении находились племена, в которые также посылались государственные чиновники — каиды.
Военная организация составляла основу территориального устройства молодого государства. Регулярная армия распределялась по халифалыкам, в распоряжении каждого из государственных чиновников имелся отряд воинов. Халифы обладали всей полнотой власти на вверенных им землях, но они не являлись самовластными правителями, какими в прошлом были янычарские наместники, а всецело подчинялись центральному правительству.
Это военно-политическое деление, накладываясь на традиционную феодально-племенную структуру Алжира, подрывало ее и вызывало к жизни систему межобластных экономически и политических связей.
Создавая государство, Абд-аль-Кадир прежде всего опирался на своих военачальников, испытанных в сражениях с колонизаторами. Халифы Бен Салем, Бу Хамиди, Мустафа бен Тами, Бен Аллаль и многие другие алжирские вожди были надежными помощниками эмира в государственном строительстве. Среди них было немало выходцев из народа. Выдвигая людей на высокие посты, Абд-аль-Кадир меньше всего интересовался их имущественным положением или родословной. «Происхождение человека не суть важно, — говорил эмир, — узнайте о его жизни, достоинствах и недостатках, и вы узнаете человека. Если вода в реке чиста, то чисты и ее истоки».
В интересах обороны была проведена налоговая реформа — самое значительное из преобразований, осуществленных Абд-аль-Кадиром, так как оно затронуло все население страны. Эта реформа отменила откупную систему, которая практиковалась в период янычарского господства. Государство лишило также податных привилегий племена махзен, уравняв их в правах со всеми другими племенами. Это ослабило их экономически и поставило в прямую политическую зависимость от правительства Абд-аль-Кадира.
Реформа в Несколько раз сократила налоговые поборы, взимавшиеся в Прошлом янычарами; Правительство лишь в крайних случаях увеличивало традиционную для мусульманских стран ставку налога: десятую часть с урожая — ашар и с приплода скота — заккат. Чтобы обеспечить армию Продовольствием во время войны, эмир устроил во многих районах государства тайные подземные зернохранилища.
Сбором податей ведали халифы, которые два раза в год объезжали для этого свои владения, весной, взимая ашур, осенью — заккат. Ага, возглавлявшие районы, были обязаны каждую неделю подавать им отчеты о наличии зерна и количестве скота во вверенных им местностях. Часть собранного налога обращалась на помощь бедным. Большие партии зерна и скота сбывались во французских городах по ценам, установленным правительством.
Абд-аль-Кадир ввел государственную монополию внешней торговли и строго карал за всякое ее нарушение. Племенным шейхам разрешалось торговать с французами только через посредничество государственных торговцев. Правительство покупало зерно в племенах по 16 франков, а продавало в городах вдвое дороже. Алжирское государство торговало не только с французами. Расширились торговые связи с Марокко и Тунисом. В Рашгуне европейские купцы основали торговое общество, которое вывозило из Алжира зерно, шерсть, воск и другие товары. Все доходы от внешней торговли, налоговых сборов и чеканки монеты поступали в государственную казну, состоявшую в 1839 году примерно из пяти миллионов франков.
Власть феодалов была сильно ущемлена судебной реформой, которая изъяла судопроизводство из их ведения и передала его государству. В племена посылались государственные судьи — кади, вершившие правосудие именем центральной власти. За короткое время в стране, еще недавно наводненной шайками разбойников, были установлены спокойствие и порядок. Государство пресекало произвол феодалов. Всякий алжирец мог в любое время прибегнуть к защите закона. Абд-аль-Кадир свидетельствует:
«Если турки часто казнили людей из прихоти или жестокости, то я не допустил ни одного наказания, не наложенного законным приговором... Я добился того, что разбой и казнокрадство полностью исчезли в стране; женщина могла в одиночестве идти куда угодно, не опасаясь насилия. Когда эти результаты были достигнуты, арабы стали говорить: «Там, где власть эмира, мы не нуждаемся в правосудии наших шейхов».
Абд-аль-Кадир был одним из крупнейших в истории Алжира просветителей. Он лично руководил развитием народного образования в своем государстве. Он открыл десятки школ при завийях, которые находились на государственном содержании. В одном только Тлемсене на 15 тысяч жителей приходилось пять школ с двумя тысячами учеников и два медресе с шестьюстами учащимися — толба. Как сообщает полковник Черчилль, эмир намеревался открыть медицинскую школу и технический колледж, но начавшаяся война с французами помешала этому. Из числа толба выходили учителя, судьи, государственные чиновники. Они получали жалованье и пользовались различными привилегиями.
«Поощрение образования было столь важно для меня, — говорил Абд-аль-Кадир, — что не однажды я отменял смертный приговор преступнику по той лишь причине, что он был толба. В нашей стране нужно так много времени, чтобы стать образованным человеком, что я не решался уничтожить в один день плоды многих лет ученых занятий».
Эмир имел богатое собрание книг и сделал его доступным для всех грамотных арабов. С его помощью создавались библиотеки при завийях. Абд-аль-Кадир издал особый указ, по которому всякая порча книг строго наказывалась. При захвате военной добычи книги ценились эмиром даже более высоко, чем оружие. Солдаты получали крупное вознаграждение за доставленные ему рукописи. Он пытался закупить во Франции типографскую машину, чтобы наладить собственное книгопечатание, но сделка не состоялась из-за противодействия французских властей.
Все свои преобразования Абд-аль-Кадир совершал под знаменем ислама. Если стремление эмира подчинить свою власть оборонным целям придавало алжирскому государству характер военного лагеря, то слитая с этим стремлением борьба за восстановление «чистоты веры» сообщала государству облик религиозной общины. Соединяя в своем лице светскую и духовную власть, Абд-аль-Кадир использовал религию как одно из главных орудий государственного строительства. Религия освящала верховную власть и призывала правоверных к покорности их правителям: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас» (4: 62). Она выполняла объединительную задачу, отрицая и сглаживая социальные, племенные и другие различия между мусульманами: «Верующие ведь братья» (49 : 10). Она, наконец, в шариате давала молодому государству готовую систему канонического права.
Мусульманское духовенство и в прошлом пользовалось огромным влиянием на жизнь алжирского народа. Это влияние коренилось не столько даже в религиозности алжирцев, сколько в экономическом могуществе духовенства: ему принадлежало около половины всех обрабатываемых земель. Абд-аль-Кадир сохранял и укреплял это положение и вследствие собственной приверженности религиозной идее и в силу того, что духовным феодалам не был присущ сепаратизм в такой мере, как феодалам светским. Ислам всегда поддерживал сильную центральную власть.
Однако Абд-аль-Кадир не доверял ортодоксальному духовенству, возвысившемуся в период янычарского господства. Оно высокомерно относилось к сыну сельского марабута, а в городах, занятых французами, очень быстро подчинилось новой власти. Ближайшее окружение эмира образовывали марабуты и улемы. С первыми он был близок благодаря своему образованию и склонности к богословским занятиям. Марабуты и улемы принимали участие во всех важнейших начинаниях Абд-аль-Кадира. Они входили в правительство и в Высший совет. К их посредничеству эмир прибегал при переговорах с шейхами враждебных племен.
Не все духовные феодалы, даже из числа марабутов, согласились признать центральную власть. С некоторыми из них эмиру пришлось вести ожесточенную и продолжительную борьбу. Очень трудно далась Абд-аль-Кадиру победа над воинством религиозного братства Тиджиния, объединявшим многие племена на западе Алжирской Сахары и возглавлявшимся марабутом Мохаммедом-аль-Тиджини.
Религиозная общность сознания членов марабутских братств, выражавшаяся в бараке, подобно племенной асабийе, была сильней, чем общность сознания алжирцев, основанная на единстве общенародных целей и интересов. Власть эмира поддерживали те марабуты, владениям которых грозила непосредственная опасность французского вторжения. Мохаммед-аль-Тиджини такой опасности не видел и поэтому отвергал все призывы эмира к воссоединению в единое государство.
Долгое время Абд-аль-Кадир не решался напасть на непокорного феодала. У марабута было сильное войско. Его поддерживали многочисленные и воинственные племена бедуинов. Его владения защищали мощные крепости. Сам марабут пребывал в укрепленном городе Айн Махди, окруженном глубоким рвом и высокими каменными стенами. Этот город не раз тщетно осаждали янычары, а в 1826 году Тиджини сам напал на турок и дошел со своим войском до Маскары. С тех пор он считал себя независимым государем. Религиозное влияние марабута простиралось далеко за пределы алжирской Сахары, охватывая многие племена в Марокко, Судане, Сенегале.
В начале 1838 года в Медею к Абд-аль-Кадиру прибыло посольство от племен, обитавших во владениях марабута. Его возглавлял некий Хадж Аисса, который передал эмиру богатые дары и заявил о признании племенами его власти. Абд-аль-Кадир поверил посланцу и, назначив его халифом, отправил обратно. В июне 1838 года эмир во главе своего войска направился вслед за ним, чтобы на месте утвердить свою власть. Когда он подошел к городу Айн Махди, ни одно из окрестных племен не выразило готовности покориться ему. Хадж Аисса оказался самозванцем и авантюристом. Эмир был вынужден начать осаду города, которая затянулась на несколько месяцев. Отступить он не мог, так как это подорвало бы его авторитет во всем Алжире.
Абд-аль-Кадир вызвал Тиджини на поединок, но тот отказался от единоборства, надеясь отсидеться за крепостными стенами. Штурм, предпринятый эмиром, был отбит. Крепость казалась неприступной. Эмир приказал доставить сюда почти всю имевшуюся у него артиллерию, которая непрерывно бомбардировала город. Европейские техники, состоявшие у него на службе, сделали подкоп и взорвали часть городской стены. Но взять крепость приступом не удалось.
Положение эмира становилось критическим. По стране поползли слухи о том, что он не в; состоянии справиться с марабутом. Начали поднимать головы крупные феодалы. Обо всем этом сообщили прибывшие в ноябре 1838 года из Орании Сиди Мохаммед Сайд, старший брат эмира, и Мустафа Бен Тами, халиф Маскары. Они предложили Абд-аль-Кадиру свое посредничество в переговорах с Тиджини, на что эмир ответил согласием. .
К тому времени в осажденном городе начался голод. Боевые припасы были на исходе. Поэтому марабут принял условия почетной капитуляции: он обязался возместить стоимость расходов эмира на осаду Айн Махди и покинуть крепость вместе со своими сподвижниками; ему гарантировались сохранность имущества и безопасность его подданных. Старший сын Тиджини остался у эмира заложником. Вскоре после этого почти все племена Сахары признали власть эмира и согласились выплачивать ему подати.
В ознаменование сдачи города Абд-аль-Кадир созвал свое войско в оазисе Таджмут на общую утреннюю молитву. На нее прибыли шейхи тридцати племен Сахары, сопровождаемые многолюдной свитой. Эмира окружало несколько сит его вождей. Перед ним ровными рядами стояли 12 тысяч воинов, выведенных на песчаную равнину близ оазиса. Присутствовавший на молитве француз Леон Рош так описывает это торжество:
«Как только первые лучи солнца осветили верхушки пальм Таджмута, Абд-аль-Кадир спешился, воздел руки к небу и воскликнул: «Аллах превелик!» 12 тысяч воинов подняли руки и повторили за ним: «Аллах превелик!» Это оглушительное восклицание посреди молчания пустыни, при коленопреклонении многотысячной массы людей в библейских одеждах, людей, которые в общем движении простираются наземь, встают, воздевают руки, повторяя символ веры мусульманства, наконец, величественный эмир, который отчетливо произносит стихи корана, обратившись к поднимающемуся на горизонте солнцу — все это представляет неописуемую картину, которую можно увидеть лишь один раз в жизни».
В начале января 1839 года Тиджини покинул город Айн Махди. Эмир приказал сровнять крепость с землей.
Примерно в это же время на востоке страны против эмира выступил Ахмед-бей, который попытался восстановить свое господство в провинции Константина. Абд-аль-Кадир направил ему послание, в котором предлагал заключить союз на равноправных условиях, которые обеспечивали бею полную самостоятельность во внутренних делах. Но Ахмед, питавший личную ненависть к эмиру, отказался от переговоров. Вновь в восточном Алжире вспыхнула междоусобная война. В сражении у Вискры войско Ахмед-бея было разгромлено, его остатки укрылись в горах.
В алжирском государстве на короткое время воцарился мир. Тридцатилетний эмир в этот период был на вершине своего могущества. Ему повиновались сотни племен во всех частях Алжира. Феодалы не осмеливались открыто выступать против его власти. Основанное им государство доказало свою устойчивость и жизнеспособность. Признавая действенность государственной организации, созданной эмиром, генерал Бю-жо впоследствии рекомендовал французскому правительству сохранить ее, поскольку она основана «на превосходном знании местности, доходов проживающих там племен, различных интересов, одним словом, на большом знании людей и вещей».
Абд-аль-Кадир
стал широко известен во всем
арабском мире. От Марокко до Аравии
он славился как герой «священной
войны» и защитник ислама. Но
мусульманские правители довольно
сдержанно относились к призывам
эмира о помощи. Между тем алжирское
государство при всех своих успехах
и достижениях оставалось
неизмеримо слабее своего главного
врага, который отнюдь не отказался
от завоевательных посягательств.
Абд-аль-Кадир нисколько не
заблуждался на этот счет. Добившись
признания французами своей независимости,
он попытался засучиться поддержкой
могущественного покровителя.
В мусульманском мире единственным монархом, который подходил для этой роли, был султан Марокко. К нему и обратился эмир с посланием, в котором писал: «Мы добивались самостоятельного управления не из честолюбивых устремлений или жажды власти, но — и Аллах тому свидетель — единственно в целях борьбы за дело веры, за то, чтобы предотвратить братоубийственную войну среди мусульман, защитить их имущество и установить мир в стране».
Абд-аль-Кадиру действительно было чуждо тщеславие. Он принял роль вождя не столько по зову сердца и складу ума, сколько по религиозному долгу. Он тяготился властью и, как свидетельствуют его современники, не раз пытался сложить ее с себя. Не сделал он это лишь по настоянию своих соратников, не видевших среди других вождей равного ему преемника. Эмир часто говорил, что самое сокровенное его желание состоит в том, чтобы уйти от мирской суеты в занятия наукой, религией, поэзией. Однако он до конца следовал своему патриотическому и религиозному долгу.
Абд-аль-Кадир просил султана принять верховную власть в алжирском государстве и защитить его от возможного нападения французов. Эмир согласился остаться наместником султана, либо, если тот пожелает, и вовсе отступиться от всякой государственной власти. Абдаррахман ответил письмом, полным восхищения достижениями Абд-аль-Кадира, но принять власть отказался, убеждая эмира именем аллаха самостоятельно продолжить начатое дело. Султан опасался Франции, которая грозила ему войной в случае заключения алжиро-марокканского союза.
Абд-аль-Кадир пытался заручиться поддержкой Англии, которая, как ему было известно, являлась главным соперником Франции на Ближнем Востоке. Но английское правительство в этот период не было настолько заинтересовано в Северной Африке, чтобы пойти на обострение отношений с Францией, согласившись оказать покровительство алжирскому государству. Эмиру не удалось установить с Англией даже консульских связей.
Молодое и неокрепшее еще государство, лишенное внешней поддержки, остается лицом к лицу со своим могущественным противником. Абд-аль-Кадир стремится получить от Франции заверения в том, что она будет соблюдать условия Тафнского договора. Он направляет письма Луи-Филиппу, королеве, герцогу Орлеанскому, французским министрам. Он уверяет их в своем уважении к Франции и, взывая к справедливости, просит одного: сохранить мир на основе признания независимости алжирского государства. Эту просьбу вместе с богатыми подарками передает французскому королю алжирское посольство, направленное эмиром в конце 1838 года во Францию. Послов хорошо принимают. Их водят в парижские магазины, театры, музеи. Они становятся героями дня для бульварных газет. Но в деловых переговорах им вежливо отказывают.
Впрочем, французские власти не скрывают своих вожделений. Пусть Абд-аль-Кадир признает сюзеренитет французского короля в Алжире. Пусть он отречется от власти, данной ему алжирским народом, и перейдет на службу Франции. Тогда Алжир получит прочный мир и всяческие блага. Абд-аль-Кадир отвергает такое решение вопроса. Обращаясь к чести и разуму просвещенного монарха Франции, он пишет:
«Ты знаешь об обязанностях, возложенных Кораном на всех мусульманских принцев. Ты должен быть мне признателен за то, что я отступил для тебя от строгих предписаний Корана... Но та жертва, которой ты от меня требуешь, находится в вопиющем противоречии с моей религией, которой я обязан подчиняться. Ты слишком справедлив, чтобы хотеть от меня бесповоротных решений. Ты требуешь, чтобы я покинул племена, подчинение которых я принял, которые сами хотели мне платить подать, предписанную Кораном.
Если война вспыхнет снова, не будет больше торговли, которая сулит большие выгоды в этой стране, не будет более безопасности для колонистов, увеличатся расходы, польется кровь... Если же ты хочешь мира, наши две страны будут как бы одной: самый ничтожный из твоих подданных получит абсолютную безопасность на территории всех наших племен; торговля станет действительно свободной».
Это письмо, как и все другие, осталось без ответа.
Цена чести
Французскому правительству нечего было ответить. Оно не хотело такого мира, о каком говорил Абд-аль-Кадир. Но оно не хотело и бросать открытый вызов эмиру, потому что в палате депутатов была все еще сильна оппозиция самой колонизации Алжира. Правительство спешило использовать мирную передышку для подготовки новых завоевательных походов. Главное — успешное начало, потом, как это случалось и прежде, можно поставить оппозицию перед свершившимся фактом. Обличая закулисную игру правительства в алжирском вопросе, депутат Ларошфуко спрашивал:
«Какую роль заставляют играть членов этой палаты, которые наивно обсуждают вопрос о сохранении страны, в то время как по приказу правительства там начинают производить работы, рассчитанные на длительный срок, в то время как представитель министерства в Алжире, командующие там генералы, да и члены королевской фамилии основывают в Алжире предприятия, рассчитанные на будущее?»
Колонизация Алжира и в самом деле набирает все более быстрые темпы. С каждым годом увеличивается число поселенцев в Алжире. В 1838 году оно достигло уже 25 тысяч. На землях, отнятых у арабов, основываются плантации и фермы. Возникают акционерные компании. Французская буржуазия входит во вкус владения колонией. Она тоже за свободную торговлю и за экономические связи между Алжиром и Францией. Но совсем не в том виде, о котором пишет Абд-аль-Кадир в своем письме королю. По мнению генерала Бюжо, эти экономические отношения должны выглядеть так:
«В силу счастливого совпадения, которое, быть может, пока не оценили, Алжир еще в течение длительного времени будет нуждаться в готовой продукции, производимой во Франции, и в то же время в изобилии поставлять необходимое для промышленности метрополии сырье. Но прежде чем колонисты смогут производить в этой стране масло, шелк, табак, хлопок, пробку и т. д., прежде чем арабы смогут поставлять нам находящие широкий спрос масло, кожи, семена, скот, воск, шерсть и другие продукты, поступающие из внутренних районов Алжира, необходимо силой установить наше господство и поддерживать его путем проведения соответствующей политики».
Готовясь к расширению своих владений, французские власти убеждают Абд-аль-Кадира в том, что согласно Тафнскому договору они имеют право на обладание обширной территорией, расположенной в сопредельных районах провинций Алжир и Константина. Начинается спор об истолковании статьи договора, ограничивающей французские владения на востоке страны: идет ли в ней речь о землях «дальше» ручья Кадар — французский вариант — или, как утверждает эмир, «выше» его. Колонизаторам спор этот нужен лишь для того, чтобы попытаться принудить эмира к важной уступке, либо, если это не удастся, обвинить его в нарушении мирного договора и под этим предлогом возобновить войну. Абд-аль-Кадир относится к спору о словах серьезно и искренне. Видимо, ожидая того же от противной стороны, он простодушно предлагает решить его таким образом:
«Выберите по своему усмотрению двадцать арабов, и пусть они объяснят значение арабского слова «фаук». Если хоть один из них скажет, что это слово может означать «дальше», я приму ваше истолкование договора. Владейте тогда всей территорией между вади Кадар и провинцией Константина. Если же все они решат, что слово, которое вы переводите «дальше», в действительности означает «выше», примите мое предложение: пусть граница ваших владений проходит по гребню нагорья, которое вздымается над вади Кадар».
Никто, конечно, этого предложения всерьез не принял. Французские власти начинают намеренно нарушать Тафнский договор, чтобы спровоцировать эмира на войну. Вопреки условиям договора арабам запрещают покупать оружие в портовых городах. Арабские племена, желающие переселиться на земли алжирского государства, насильно задерживаются. Представитель эмира, посланный в город Алжир для вербовки европейских механиков, берется под арест и высылается во Францию. Наконец генерал-губернатор Вале предлагает консулу эмира итальянцу Гаварини отказаться от выполнения своих обязанностей и требует, чтобы Абд-аль-Кадир назначил консулом араба. Эмир со сдержанным достоинством отвечает:
«Во-первых, мы не можем найти араба, который выполнил бы обязанности консула так, чтобы удовлетворить обе стороны, отстаивая взаимные их интересы. Гаварини — умный и скромный человек, который и нам и вам приносит только пользу. Во-вторых, Франция не имеет никакого права требовать от нас назначения консула против нашего желания. Нам судить, что лучше для нас. Если вы пожелаете послать к нам консулом араба, пусть будет так. Мы не будем возражать. Почему же вы вмешиваетесь в выбор нашего консула? Разве мы позволяем себе это? Ваш образ действия нарушает простые принципы чести, которые должны лежать в основе наших отношений».
Французская сторона была с этим не согласна. Она основывала свои отношения с алжирским государством на иных принципах, вытекающих из потребностей колонизации и не принятых в отношениях между цивилизованными странами. Поборник «быстрой колонизации» Бодишон пишет в книге «Размышления об Алжире»:
«Не важно, если в своем политическом поведении Франция выйдет иногда за рамки общепринятой морали. Главное, чтобы она создала прочную колонию и в дальнейшем приобщила варварские страны к европейской колонизации. Когда какое-нибудь начинание должно принести пользу человечеству, то самый короткий путь к нему является лучшим путем. Совершенно бесспорно, что путь террора — самый короткий».
В другой книге Бодишон продолжает свои размышления:
«Не нарушая законов морали и международной юриспруденции, мы можем бороться против наших африканских врагов порохом и железом, а также голодом, внутренними распрями, войнами между арабами и кабилами, между племенами побережья и племенами, живущими в Сахаре. Мы можем для этой цели использовать алкоголь, подкуп и дезорганизацию. А ведь нет ничего легче этого».
И впрямь, что может быть легче этого? Богатой и могущественной Франции это ничего не стоит. Даже утраты чести, следовать которой здесь просто неуместно. У буржуазии свое классовое понятие о чести. Главный нравственный вопрос «что такое хорошо и что такое плохо?» решается для нее всегда однозначно: хорошо то, что приносит доход, плохо то, что дохода не приносит. Колонизация выгодна, значит, она хороша, и любые средства для ее осуществления оправданны.
Тут уж Абд-аль-Кадир ничего не мог поделать. Он мог с малыми силами и в необычайно короткие сроки добиться поразительных успехов на поле битвы и в государственном строительстве. Он мог, хотя и с большим трудом и только до известных пределов, преодолевать дремучую косность и замшелую патриархальность своих соотечественников. Но он был совершенно бессилен побудить колонизаторов поступать в Алжире согласно простейшим нормам человеческой нравственности. Здесь перед ним была стена, облицованная прописными истинами буржуазной морали, которые не имели никаких дочек соприкосновения с народными представлениями о добре и зле, воспринятыми Абд-аль-Кадиром. Об эту стену разбивались все его попытки склонить французское правительство к осознанию своей ответственности за судьбу алжирского народа.
«Великий король Франции! — тщетно взывал эмир. — Господь определил нам управлять частью его созданий. Ты высоко возвышаешься надо мной числом и богатством твоих подданных, но на каждого из нас возложена обязанность заботиться о счастье наших народов. Оцени же соотношение наших сил, и ты признаешь, что от тебя одного зависит счастье обоих народов».
Луи-Филипп, король-буржуа, конечно, прикидывал соотношение сил, но только лишь для того, чтобы оценить выгоды, которые может извлечь класс, посадивший его на престол. Этот же класс понимает общественное благо только через собственный интерес. И если Франция, говоря словами одного из его представителей, «всерьез хочет цивилизовать Алжир и на пользу всем народам извлечь из него различные богатства, пребывающие там без движения, ей необходимо ради общественного блага захватить все земли, которыми владеют туземцы. Сейчас нам некогда обсуждать вопросы права и открещиваться от чуждой нам идеи уничтожения и выселений, которую мы так яростно отметаем. Экспроприация туземцев является главным и неизбежным условием устройства французов на этой земле».
Итак, дух завоевателей не ослаблен сомнениями и угрызениями совести. Грехи заранее отпущены. Бог за все в ответе. Не тот всеблагой и всемилостивый бог, который живет в душе благородного эмира. А то новое божество, которое еще Шекспир называл «золотым болваном», способным «сделать все чернейшее белейшим, все гнусное — прекрасным, всякий грех — правдивостью, все низкое — высоким».
Колонизация была тем родом буржуазной деятельности, где эти нравственные превращения происходили в наиболее чистом и обнаженном виде. Все, что делали колонизаторы, было для них свято, истинно, оправданно. Все противное этому оценивалось в мерах зла и заблуждения и подлежало осуждению и наказанию.
Стремление Абд-аль-Кадира отстоять независимость алжирского государства было названо религиозным фанатизмом. Его защита арабской культуры от уничтожения европейскими «цивилизаторами» объявлялась варварством. Сами его попытки добиться у французских правителей справедливости историк М. Валь брюзгливо именует «назойливостью».
Колониальные власти упрекают эмира в упрямстве, воинственности, лукавстве, словоотступничестве. Генерал-губернатор, движимый праведным негодованием, в ультимативной форме требует от Абд-аль-Кадира подписать новое соглашение, ставящее его в положение послушного вассала Франции. Эмир отвергает требование. Это объясняют его личным капризом. Тогда эмир собирает большой совет шейхов и улемов и приглашает на него французского представителя, который излагает условия нового договора. Совет единодушно отказывается их принять. Эмира по-прежнему продолжают осыпать обвинениями в нарушении его обязательств перед Францией. «С момента моего отказа подписать новый договор, — пишет Абд-аль-Кадир французскому правительству, — ваши представители в Алжире несправедливо и постоянно чинят мне препятствия. Моих солдат арестовывают и заключают в тюрьму без всякого законного на то основания; издан приказ о запрещении ввоза в мою страну железа, меди и свинца; французские власти не признают моих представителей в Алжире; на важнейшие мои послания я не получаю ответа; письма, направленные мне из Алжира, перехватываются.
И после всего этого вам сообщают, что я являюсь врагом Франции. Говорят, что я любой ценой добиваюсь войны — и это о человеке, который всеми силами стремится направить свое государство по пути, указуемому вашей цивилизованной страной, который, несмотря на все эти враждебные действия, обеспечивает доставку товаров на ваши рынки, который окружает себя европейцами, чтобы развивать промышленность в своей стране, и который издает строгие приказы о том, чтобы ваши торговцы и ваши ученые свободно и безопасно могли путешествовать по всей стране».
Разве не ясно из писем эмира, что он добивается лишь одного: справедливого мира? Можно ли усомниться в искренности его стремления к равноправному сотрудничеству? И разве не убедительно выражено его желание учиться у европейцев и заимствовать достижения их прогресса? Не открывает ли все это путь для действительно благотворного и взаимовыгодного осуществления Францией ее «цивилизаторской миссии»? Почему же не стать на этот мирный, разумный и честный путь?
Потому что он попросту немыслим, невозможен для буржуазии. Совсем иные пути прельщают ее поводырей:
«События, по всей видимости, свидетельствуют, что в отношении мусульманского эмира, которого не сумели понять и с которым не сумели договориться, существует лишь два пути: либо оставить Алжир, либо полностью его покорить».
Первый путь заведомо исключается. Остается второй. Но ступить на него небезопасно. Завоеватели хорошо знают это по прошлому опыту. Поэтому для начала решено прибегнуть к тому, что впоследствии станут обычно называть «демонстрацией силы». Сын короля, герцог Орлеанский, возглавляет колонну французских войск и в открытое нарушение Тафнского договора ведет ее из Константины в Алжир через горное ущелье, называемое Железными воротами, — узкую извилистую теснину длиной в несколько километров. Даже небольшой отряд, разместившись на вершинах скал, мог бы легко уничтожить пробиравшуюся по ее дну французскую колонну.
Опасность была тем более велика, что кабильское население этого района признавало власть Абд-аль-Кадира и управлялось одним из испытаннейших его сторонников, Бен Салемом. Но доблестный герцог действует наверняка. Он оповещает представителей Абд-аль-Кадира, что направляется не в Алжир, а в морской порт Бужи. По дороге он внезапно поворачивает свое войско в сторону и вступает в Железные ворота. Встретившим его здесь кабилам герцог предъявляет подложные документы, «подписанные» эмиром и «разрешающие» проход через Кабилию. Ему верят и даже дают проводников. Обман раскрывается слишком поздно, когда герцог уже оставил позади Железные ворота. Французы отбивают запоздалую атаку кабилов и 1 ноября 1839 года с триумфом вступают в Алжир. В течение четырех дней французское население города празднует удачное завершение похода. Принц получает за него рыцарские шпоры, его увенчивают пальмовыми ветвями. Генерал-губернатор Вале принимает правительственное поздравление с тем, что он «ввел французов в этот край такими дорогами, которыми не осмеливались идти древние властители мира».
Известие о вероломстве французов застает Абд-аль-Кадира в Текедемпте. Он немедленно отправляется в Медею. Во время четырехдневного пути эмир делает краткие остановки лишь для того, чтобы сменить лошадей. Прибыв в Медею, он посылает маршалу Вале письмо, в котором требует объяснений по поводу грубого нарушения договора. Ему издевательски сообщают, что проход через Железные ворота был всего лишь «увеселительной прогулкой» французского принца.
Абд-аль-Кадир понимает, что миру пришел конец. Он рассылает своим халифам послание, которое повелевает им готовиться к «священной войне»:
«Христиане первыми нарушили мир. Ваш враг перед вами. Собирайте ваших воинов и будьте готовы к битве... Пусть ничто не застанет вас врасплох. Будьте выше течения событий. Прежде всего научитесь терпению. Стойко встречайте превратности судьбы... Аллах увенчает победой ваше упорство».
Абд-аль-Кадир созывает большой военный совет и предлагает решить вопрос о возобновлении войны. Совет высказывается за войну. «Пусть будет так, — говорит эмир, — но клянитесь мне на священной книге Аллаха, что до тех пор, пока я буду возглавлять джихад, вы не покинете меня». Шейхи и вожди приносят торжественную клятву. 18 ноября 1839 года Абд-аль-Кадир оповещает маршала Вале о начале военных действий, предлагая ему во избежание гибели мирных французских переселенцев укрыть их в городах. Письмо заканчивалось словами: «Готовьтесь. Все мусульмане поднялись на священную войну. Что бы ни случилось, вы не можете обвинять меня в вероломстве. Мое сердце чисто, и вы никогда не увидите меня поступающим противно справедливости». ^
Генерал-губернатор уверен в своих силах. В Алжире сосредоточено 60 тысяч французских солдат. За годы перемирия было улучшено военное снаряжение армии применительно к алжирским условиям: облегчена солдатская амуниция, артиллерия усилена легкими полевыми орудиями, кремневые ружья заменены ударными, входит в употребление нарезной карабин. В городах были созданы крупные склады продовольствия и фуража. Еще до начала войны французы тайком договорились о союзе с некоторыми племенами махзен.
Но всех этих преимуществ оказывается недостаточным для «молниеносной победы», на которую рассчитывал маршал Вале. В первые месяцы войны арабы почти все время сохраняют военное превосходство. В конце 1839 года племя хаджутрв вторгается в провинцию Алжир с запада, а кабилы во главе с Бен Салемом — с востока. Равнина Митиджа, откуда портовые города получают продовольствие, полностью освобождена от колонистов. За несколько недель войска Абд-аль-Кадира занимают почти всю Оранию и провинцию Титтери. Французские отряды безуспешно пытаются восстановить связь между городами, которые блокированы арабами.
Весной 1840 года в Алжир прибывают новые войсковые подкрепления из Франции. Положение эмира ухудшается. Маршал Вале собирает все свои воинские силы у Блиды и направляется с ними к Медее. В ущелье Музаиа и в лесу Мулай-Исмаил происходит крупное сражение, которое приносит победу французам. Вале захватывает города Медею и Милиану, население которых бежит к Абд-аль-Кадиру.
Незадолго до этого войско его халифа Бу Азуза попадает в засаду, устроенную у Бискры шейхом Бен Ганой, который был подкуплен французами. Бен Гана приказывает отрезать у пленных и убитых арабов пятьсот ушей и посылает эти трофеи французскому генералу. Шейх получает в награду 25 тысяч франков и орден Почетного легиона. Так поощряется предательство. Так зверство выдается за доблесть.
Абд-аль-Кадир все еще пытается побудить французов вести честную игру. Он предлагает маршалу Вале вступить в сражение, исход которого решит судьбу страны. Пусть только французы разрешат ему закупить оружие, и он поведет на битву лишь половину своего войска. Рыцарский вызов эмира остается, конечно, без ответа.
Тогда Абд-аль-Кадир рассредоточивает свою армию на небольшие отряды и окончательно переходит к тактике партизанской войны. Боевой опыт убедил эмира в том, что его войску, вооруженному устаревшими ружьями и почти лишенному артиллерии, недоступна победа в крупных сражениях с противником, оснащенным самой передовой для того времени военной техникой. Он направляет своим халифам приказы с изложением тактических приемов, которым нужно следовать в войне с французами — засады, фланговые атаки, нападение на арьергардные отряды и обозы. То есть те же самые приемы, которые с таким успехом применяли испанские и русские партизаны в период наполеоновских войн.
Французское командование не может противопоставить ничего равноценного этой тактике. Отряды эмира остаются неуязвимыми для колониальной армии. Французский офицер сокрушается по этому поводу: «С немногочисленными всадниками, благодаря отличному знанию страны и влиянию на арабов он, несмотря на имеющиеся у нас крупные силы, всегда ускользает от ударов. Мы заняты лишь тем, что стараемся помешать уйти к Абд-аль-Кадиру».
К середине 1840 года Абд-аль-Кадир вновь становится хозяином положения в большинстве районов Алжира. Города, занятые французами, отрезаны отрядами эмира от сельской местности, которая до этого снабжала их продовольствием. Связь между ними возможна только при помощи крупных войсковых колонн, которые в пути теряют до половины своего состава. Французы вымирают от голода и болезней. По свидетельству современника, в октябре 1840 года из полуторатысячного гарнизона Милианы 750 человек умерли от истощения и болезней, 500 содержались в госпитале, а «оставшиеся превратились в едва передвигающиеся скелеты, которые с большим трудом удерживали свои ружья».
Абд-аль-Кадир
создал для колонизаторов
невыносимую обстановку. Как и
накануне заключения Тафнского
договора, господство Франции в
Алжире оказалось под серьезной
угрозой. «Но тут, — пишет
французский историк М. Вале, — со
вступлением в министерство Гизо
генерал-губернатором был назначен
Бюжо. Он первый вносит в
африканскую войну правильный
метод».
ПТИЦА
НА ШЕЕ
Правильный метод Бюжо
«Приятно находиться на корабле во время бури, когда знаешь, что не погибнешь!» Франсуа Гизо избрал эти слова французского мыслителя XVII века Блеза Паскаля эпиграфом для своего памфлета «О правительстве Франции», изданном в 1820 году. Знаменитый буржуазный историк, который одним из первых в Европе взял за исходный пункт своих научных изысканий борьбу классов, тогда бодро смотрел в будущее. Дворянство, главный в то время враг буржуазии, было обречено. Молодой и напористый капитализм повсюду вытеснял прежние общественные связи и традиции. Случавшиеся все еще бури лишь взбадривали его капитанов. Они были уверены в том, что корабль неуязвим и идет правильным курсом. Последние феодальные препоны будут преодолены, разлагающиеся остатки старого общества уничтожены. «Сильный поглощает слабого, и это справедливо», — писал Гизо.
Такова была «логика истории», вытекавшая из буржуазного понимания классовой борьбы и — в пределах борьбы буржуазии против дворянства — совпадавшая с действительным направлением исторического развития. За этими пределами совпадение кончалось. За ними начинали действовать иные законы классовой борьбы, вызванные к жизни ростом пролетариата и не укладывавшиеся в буржуазную «логику истории». Здесь буржуа из воинственного оптимиста превращался в трусливого миротворца. Напуганный революцией 1848 года. Гизо восклицает: «Внутренний мир, мир между различными классами граждан, социальный мир! Это — самая важная потребность Франции, это — крик о спасении!»
Оптимизм и воинственность возвращались к буржуазии на том поле битвы, которое простиралось за границами капиталистического мира. Там, где ее противником выступали социальные силы — феодалы и крестьянство, — над которыми во Франции капитал уже утвердил свое господство. Противник маломощный и подтачиваемый внутренними раздорами. Победа над ним обеспечена. Она исторически логична и законосообразна. На этот счет у буржуа нет никаких сомнений. Если внутри буржуазного общества в середине XIX века уже произошли социальные потрясения, показавшие возможность его гибели, то вне его для капитала ничто еще не предвещало крушения. Впереди был всемирный триумф колониализма. Буржуазия тем настойчивей рвалась к нему, что надеялась с его помощью ослабить атаки своего «домашнего врага» — пролетариата. Колонии были призваны обеспечить «социальный мир» метрополиям.
Гизо, который с 1840 по 1848 год руководил французской политикой, всемерно пытался установить «классовый мир» во Франции и всячески поощрял захватническую войну в Алжире. В этот период на алжирскую войну были выделены сотни миллионов франков; численность оккупационной армии была доведена до 120 тысяч человек. В Алжир были направлены самые способные французские офицеры. Приобретенный здесь опыт «умиротворения» алжирцев они затем с успехом используют — в, этом еще одно достоинство колониализма для буржуазии — в водворении «социального мира» в метрополии, подавляя революцию 1848 года и громя Парижскую коммуну в 1871 году. Генерал Бюжо, назначенный губернатором Алжира, впоследствии похваляется, что он «не знал поражений ни на поле сражений, ни во время восстаний».
Итак, период колебаний и сомнений остался позади. С государством Абд-аль-Кадира решено покончить раз и навсегда. «Нужно, чтобы французский флаг развевался над этой землей,— заявил Бюжо, вступая в должность алжирского генерал-губернатора, — я буду пламенным колонизатором».
Колониальным рвением отличались и предшественники генерала. Но у них не было ни системы колонизации, ни продуманной тактики колониальной войны. Бюжо первым стал проводить планомерную оккупацию. Он ввел в систему беспорядочные в прошлом набеги на племена. Он внес в войну метод «выжженной земли», применяемый последовательно и неуклонно. Бюжо направил главный удар в самое уязвимое место: «Единственные интересы, которые можно у них затронуть, — это земледельческие. Поэтому нужно постоянно пользоваться этим обстоятельством».
Напутствуя перед очередным набегом своих офицеров, Бюжо, произведенный в ходе войны в маршалы, внушал: «Войну, которую мы начинаем, мы будем вести не с помощью ружей; лишив арабов плодов, которые им приносит земля, мы сможем покончить с ними. Итак, выступайте в поход на пшеницу и ячмень».
О том, как завершается каждый такой поход, рассказывает капитан Леблонк де Пребоа:
«Представьте себе колонну войск, которая обрушивается на племя, не оказывающее ни малейшего сопротивления. Колонна захватывает несколько сот спрятавшихся в кустах женщин, стариков и голых детей... Их собирают в стадо, как скот, а некоторых женщин даже убивают, принимая их по сходству костюмов за мужчин. Дополните себе эту картину оглушительным мычанием и блеянием сгоняемого скота и видом солдат, варящих себе пищу среди окровавленных остатков массы перебитых ими животных. Все это оканчивается отступлением колонны, влекущей за собой несчастных женщин, обремененных двумя-тремя детьми — маленькие из них несутся на руках, а более взрослые идут пешком, еле передвигая ноги и испуская раздирающие душу крики».
И так повсюду. Опустошаются огромные области. Истребляются целые племена. Даже те, которые изъявляют готовность подчиниться. Никому нет пощады. Жестокой экзекуции подвергается вся страна, весь народ. Это — война на уничтожение.
Участник алжирской кампании, маршал Сент-Арно подробно описал эту войну в письмах своей семье, изданных затем книгой. В апреле 1842 года он сообщает:
«Край, где живет племя бени-менасер, великолепен, один из богатейших краев, виденных мной в Африке. Кучно теснятся деревни и дома. Мы все сожгли, все разрушили. О война, война! Сколько женщин и детей, скрывавшихся среди Атласских гор, умерли там от холода и лишений...»
В октябре того же года Сент-Арно «умиротворяет» уже другой край:
«В то время как пламя и дым бушуют вокруг меня среди пейзажа, напоминающего мне миниатюрный Пфальц, я думаю о вас всех и пишу тебе. Ты оставил меня среди бразов, я сжег их и разорил. Теперь я у сингадов, та же картина, но в еще больших масштабах — здесь богатейшая житница... Ко мне привели коня в знак покорности. Я не принял посланцев, требуя полного подчинения, я принялся все жечь».
Это не было уничтожение ради уничтожения, а колонизаторы не были некими «демонами разрушения», одним из которых, — это заметно по тону писем, — хотел бы выглядеть доблестный маршал. Завоеватели истребляли лишь то, что не могли или не хотели унести с собой. Низменная корысть двигала ими, жажда добычи заставляла их совершать новые набеги. Другой участник войны, Д'Эриссон, свидетельствует:
«Наш самый удачный набег на племя улед-наил принес нам 25 тысяч баранов и 600 верблюдов, навьюченных добычей. Каждый солдат должен был получить только лишь в счет причитающейся ему части добычи примерно 25 или 30 франков. Но генерал предпочел забрать почти все себе».
Никакого сожаления о содеянном. Никаких угрызений совести. Только жестокость, тщеславие, алчность. Различия в политических взглядах не имеют ни малейшего значения. «Они совершенно открыто выжигали страну и уничтожали противника без каких-либо тирад о человечности, — пишет современный французский историк Ш. А. Жюльен. — Все они гордились этим независимо от того, были ли они роялистами, республиканцами или бонапартистами».
Сам Бюжо задает тон всей алжирской кампании. По словам одного из его подчиненных, «нашим хозяином был маршал Бюжо; он стоил всех других, вместе взятых». Бюжо отнюдь не действовал на свой страх и риск. Его деятельность поддерживалась правящими кругами Франции. Его метод был одобрен правительством. Маршал не только не скрывал от начальства того, что происходило в Алжире, но даже и сетовал на недостаточность своих усилий, ограниченных, по его мнению, недостатком средств. В докладе военному министру он пишет об одном из карательных рейдов:
«Более 50 прекрасных деревень, дома которых построены из камня и крыты черепицей, было разгромлено и разрушено. Наши солдаты захватили там значительные трофеи. В разгар боя мы не могли заниматься вырубкой деревьев. К тому же это превышало наши силы. Даже двадцать тысяч человек, вооруженных хорошими топорами, не смогли бы вырубить за полгода оливковые и фиговые деревья, покрывавшие все пространство, расстилавшееся перед нами».
Уже в первые месяцы 1841 года благодаря новой тактике колонизаторы добиваются крупных успехов в покорении страны. Население опустошенных набегами районов прекращает сопротивление. Племена, обескровленные колониальным террором, заявляют о своем признании французской власти. Государство Абд-аль-Кадира распадается. Французская армия, разделенная Бюжо на несколько колонн, сокрушает оборонительные линии, созданные эмиром. Французы без особого труда захватывают арабские крепости, не защищенные артиллерией. 26 мая 1841 года колонизаторы вступают в Текедемпт и подвергают его полному разрушению. После их ухода от крепости остаются лишь развалины, усыпанные листами рукописей из библиотеки эмира, разгромленной французами. 30 мая колонна, возглавляемая генералом Ламорисьером, занимает Маскару. Генерал устраивает здесь свою штаб-квартиру и разоряет родное племя Абд-аль-Кадира хашим, обитающее в окрестностях города. Завийя, в которой обучался эмир, сровнена с землей. Его родовое поместье разграблено.
За несколько месяцев французы уничтожили почти все, что с таким трудом было создано Абд-аль-Кадиром: крепости, склады, мастерские, школы. Бюжо утверждает в своих донесениях правительству, что в ближайшем будущем завоевание будет успешно завершено. Казалось, новый метод оправдал все расчеты его творца. Казалось, с сопротивлением эмира покончено.
Но это только казалось. Как не раз бывало в прошлом, очень скоро обнаружилось, что новые захваты лишь осложнили положение оккупационной армии. Французы продолжают оставаться во враждебном окружении, с той только разницей, что теперь им приходится затрачивать больше сил на содержание дополнительных гарнизонов во вновь захваченных городах. В сельской местности почти повсюду господствуют отряды Абд-аль-Кадира. Большинство населения явно или тайно помогает ему. Генерал Ламорисьер жалуется, что он вынужден снова и снова завоевывать, казалось бы, уже покоренные районы.
Абд-аль-Кадир не дает ни дня покоя колонизаторам. Он появляется со своими отрядами в самых неожиданных местах, изматывая французскую армию внезапными нападениями. Боевой дух Абд-аль-Кадира не сломлен поражениями. Он уверен в своих силах и твердо надеется на конечную победу. В письме Бюжо эмир так рисует исход войны:
«Когда твоя армия будет наступать, мы отступим. Затем она будет вынуждена отступить, и мы вернемся. Мы будем сражаться, когда это будет нужно нам. Ты знаешь, мы не трусы. Но мы и не безумцы, чтобы подставлять себя под удары твоей армии. Мы будем ее утомлять, терзать, уничтожать по частям, а климат довершит остальное».
Бюжо пытается перенять партизанскую тактику арабов. Он организует «летучие колонны», лишенные обоза и действующие самостоятельно, в зависимости от местных условий. Увеличивается число постоянных постов в арабских селениях, укрепляются заградительные кордоны близ городов и поселков французских колонистов. Для того чтобы вовлечь больше арабов в войну против Абд-аль-Кадира, повышается жалованье спаги — «туземной кавалерии».
Все эти меры усиливают французскую армию, но коренного перелома в войне не происходит. Партизанская тактика тогда лишь бывает вполне успешной, когда она опирается на поддержку местного населения. Французы такой поддержки не имели. Завербованные во французскую армию арабы были ненадежны: многие из них, получив оружие, бежали к Абд-аль-Кадиру. Изнурительные марши быстро выводили из строя солдат «летучих колонн», не привычных к местному климату. Лишения и болезни постоянно подтачивали боеспособность французской армии. В конце 1841 года Бюжо доносил в Париж, что едва ли и половина его войска годна к активным боевым действиям.
Генерал-губернатор пробует склонить Абд-аль-Кадира к капитуляции, обещая отправить его в Мекку или в любой другой аравийский город и предоставить ему крупную пожизненную пенсию. При этом Бюжо толкует о бесчеловечности войны и ссылается на постановление Совета улемов тунисского города Кайруана, крупнейшего мусульманского центра в Северной Африке. Это постановление, принятое в результате интриг французской дипломатии, гласило, что если победа в «священной войне» становится безнадежной, то мусульмане «могут согласиться жить под христианским управлением при условии сохранения их религии и уважения к их женам и дочерям».
Абд-аль-Кадир отвечает на это.
«Ты снова убеждаешь меня прекратить войну, которую, по твоим словам, осуждает моя религия и законы человечности. Что касается религии и того, что она предписывает и запрещает, то не дело христианина толковать Коран мусульманину. Что касается человечности, то ты бы лучше побудил французов исполнять на деле то, что они проповедуют. Кто, я спрашиваю тебя, кто величайшие нарушители человеческих законов? Те, чьи армии вторглись в земли арабов и принесли разрушение и опустошение людям, которые никогда не делали им никакого вреда, или те, кто борется, чтобы изгнать этих неправедных захватчиков и освободить свою страну от иноземного ига?
Не пытайся соблазнять меня золотом, которое твой король даст мне, если я приму твое предложение... Ни страх, ни корысть не свернут меня с пути Бога, которым я следую, борясь против порабощения моей страны. Если ты хочешь окончить войну, сделай разумное предложение, и я буду готов выслушать его».
Борьба продолжается. Бюжо усиливает натиск. 1 февраля 1842 года колонна под командованием генерала Бедо захватывает Тлемсен, который становится одним из опорных пунктов французской армии в Западном Алжире. В это же время Абд-аль-Кадир появляется вдруг в центре страны и осаждает Милиану. На помощь гарнизону из города Алжира спешит «летучая колонна». Завязывается бой, который длится два дня. Измотав в нем противника, эмир со своим войском внезапно исчезает. Обессиленные французы не в состоянии его преследовать.
Через два дня Бюжо получает известие о том, что эмир вторгся в долину Митиджу и громит поселения колонистов. Арабская конница появляется у стен Алжира. Высланные против нее войска несколько дней в изнурительном марше преследуют ее, но оказывается, что это лишь обманный маневр эмира, который тем временем со своими главными силами перевалил Атлас и ушел в Сахару.
Бюжо все шире применяет свой метод палача. Везде льется кровь мирных жителей. Вся страна в зареве пожарищ. «Повсюду невиданная жестокость, казни, — пишет очевидец, — которые по хладнокровно отданному приказу хладнокровно приводятся в исполнение: людей расстреливают, крошат саблями лишь за то, что они указали на пустую силосную яму».
Зверства колонизаторов не ожесточили сердце Абд-аль-Кадира. Он запрещает своим воинам следовать примеру врага. Эмир всегда оставался самим собой, сохраняя человечность в условиях, которые вынуждали быть бесчеловечным. Он не принадлежал к числу тех заскорузлых душ, которые поддаются давлению обстоятельств и изменяют самим себе.
«В худшие свои дни он выглядел так же, как в дни процветания,"— писал Барест, — поэтому в глазах арабов он всегда был на высоте и после поражения легко мог восстанавливать свое положение».
Абд-аль-Кадир отпускает всех фрунцузских специалистов, служивших у него, сопроводив их охраной и выплатив им сполна по контракту, хотя они успели выполнить меньше половины договорных работ. В мае 1842 года эмир освобождает всех французских пленных. Маршал Сент-Арно пишет: «Абд-аль-Кадир передал нам без всяких условий и без обмена всех наших пленных. Он заявил им: «Мне нечем вас кормить, я не хочу вас убивать и отпускаю на свободу». Для варвара это прекрасный жест».
Сам просвещенный маршал прославился жестами совсем иного свойства. Вот один из них, засвидетельствованный очевидцем Э. Готье в книге «Расследование событий в пещерах Дахра». В августе 1845 года Сент-Арно замуровал в этих пещерах 1500 местных жителей, среди которых было много женщин и детей. «Он сделал все возможное для того, — пишет Готье, — чтобы не ускользнула ни одна из его жертв. Никто не спускался в пещеры, никто... кроме меня. В секретном донесении я все изложил маршалу просто, без зловещей поэзии или красочных описаний».
Массовые избиения алжирцев не приносят желанного успеха. Народ остается непокоренным. Чтобы поставить колонизацию на прочную основу, террор сопровождается социально-экономическими мерами. Бюжо проводит колониальную политику под девизом «мечом и плугом». Всеми возможными способами он поощряет европейскую иммиграцию. За время его губернаторства число европейцев в Алжире увеличилось до 110 тысяч. В ноябре 1840 года объявляется о конфискации земель, принадлежащих арабам, которые ведут вооруженную борьбу против Франции. Затем издаются постановления, отчуждающие «незастроенные земли», владение которыми не удостоверено купчими бумагами. У племен же никогда таких бумаг не было, они владели землей по обычному праву. У арабов отнимают плодородные долины Митиджу, Бон и Оран, которые передаются европейским колонистам.
Маршал Бюжо заводит военные поселения. Чтобы закрепить солдат в Алжире, он предлагает выдать за них замуж проституток, вывезенных из Франции и наделенных приданым. В колонию направляются большие партии уголовников и безработных. Хозяйственное освоение Алжира происходит очень медленно. Земледелием занимается менее четверти европейских поселенцев. Большинство едет сюда в поисках легкой жизни, Европейцы живут замкнутой общиной, которая все еще не может служить колониальной власти для установления социального контроля над коренным населением страны.
Бюжо заимствует в своей «туземной политике» методы управления, принятые в государстве Абд-аль-Кадира. Он предлагает французским офицерам и чиновникам использовать местные обычаи и опираться на племенных шейхов, «надлежащим образом подкупленных». Бюжо расширяет власть Арабских бюро, образованных еще губернатором Клозелем и составляющих основу колониальной администрации. Современные французские авторы Коллет и Франсис Жансон пишут в книге «Алжир вне закона»: «Эти бюро прежде всего должны докладывать о жизни и настроениях племен; офицеры их обязаны контролировать вождей, вмешиваться во взаимоотношения между европейцами и мусульманами, заниматься пошлинами, руководить экспедициями, восстанавливать и развивать класс крестьянства, пытаться, наконец, заменить личной собственностью общинное землевладение племен, наиболее распространенное на равнинах. От офицеров Арабских бюро требовалось, следовательно, чтобы они были военными, администраторами, судья*! ми, техническими советниками и сверх того психологами».
Требования, заведомо не осуществимые. Офицеры Арабских бюро исправно выполняли лишь две задачи: личное обогащение и продвижение по службе. «Место начальника даже самого маленького Арабского бюро, — говорит участник алжирской кампании Эркман-Шатриан, — это отличное место, особенно в отношении налогов. Любой младший лейтенант, которого вконец разорили карты, роскошь и дурные привычки, быстро покроет свои долги, если ему посчастливится получить назначение в одно из Арабских бюро».
Но даже если офицер одержим благими намерениями, ему не под силу претворить их в жизнь. У него нет ни опыта, ни знаний для того, чтобы стать хотя бы толковым администратором. Единственное, что остается ему, — это тешить свое тщеславие теми возможностями, которые дает абсолютная власть над «туземцами».
«Этому юноше, — пишет историк Эскер, — не имеющему никакого опыта, доверяют сразу же, без всякой подготовки судьбу многих тысяч арабов, людей ему чуждых, язык которых ему незнаком, чьи нравы ему неизвестны, о которых он ничего, кроме их имени, не знает... Я король, — говорит один из них, — я пользуюсь безграничной свободой, большие племена не признают никакой власти, кроме моей».
Сеть Арабских бюро, организованная Бюжо, и в последующие годы не вросла в социально-экономическую структуру Алжира, как то мыслилось маршалом. Это была скорей военно-политическая система контроля и подавления. Дело не менялось от того, что Бюжо, перенимая административное устройство государства Абд-аль-Кадира, стремился включить в него племенную знать: баш-ага, ага, каиды, шейхи были поставлены в положение колониальных чиновников, оплачиваемых французскими властями. Выбираемые обычно из вождей махзен, они просто продолжали выполнять ту службу, которую несли еще в период янычарского господства. Так же, как и в тот период, власть завоевателей не имела никаких социальных спаек с покоренным населением. Как и тогда, она проявлялась в отношениях с народом лишь через насилие и произвол, принявших теперь несравненно более жестокие и массовые формы.
«Пусть знают, — писал в середине XIX века один французский автор, — что в стране, принадлежащей Франции, проживает 2500 тысяч человек, которых судят без судов, которыми правят лейтенанты и капитаны, вершащие суд, не зная закона, руководящие земледелием, ничего в нем не понимая, управляющие финансами без моральной или материальной общественности, люди, которых взяли из полков и назначили на административную работу с тем, чтобы вернуть их в полк, как только они приобретут какой-то опыт».
Арабские бюро образовывали административный остов системы колониального грабежа и карательного террора, оформившейся благодаря методу Бюжо. Хотя эта система не «умиротворила» алжирский народ, она явилась действенной основой для расширения военной оккупации страны. Опираясь на нее, Бюжо удваивает свои усилия в борьбе против Абд-аль-Кадира. Маршал преисполнен решимости добиться «окончательного и бесповоротного подчинения Алжира». В мае 1843 года колониальные войска захватывают посты вдоль горной цепи Уарсе-ниса, чтобы блокировать там берберские племена, поддерживающие эмира. Бюжо сажает своих солдат на верблюдов и преследует отряды Абд-аль-Кадира в Сахаре, недоступной в прошлом для французских войск. Колонизаторы пытаются установить контроль над кочевыми племенами бедуинов:
«Следует незаметно, но постоянно и неумолимо сжимать территории их кочевий и с помощью налогов сделать постепенно их существование столь мучительным, чтобы они, если хотят жить, оказались в один прекрасный день перед выбором: взбунтоваться или стать солдатами Франции».
К началу 1843 года, за исключением горной страны Кабилии и некоторых районов Сахары, в Алжире не осталось места, где не ступала бы нога французского солдата. Десятки племен добровольно или по принуждению выразили свою покорность. Тысячи алжирцев, устрашенные карательными экспедициями французов, бежали в соседние страны. Бюжо полагает, что алжирский народ, наконец, утратил способность к активному сопротивлению. На одном из банкетов он заявляет: «Я смело могу вас уверить, что всякая серьезная война закончена».
Оптимизм фаталиста
Абд-аль-Кадир думает совсем по-другому. Для него война продолжается. И очень скоро он дает французам почувствовать, что это вполне серьезная война. В начале 1843 года эмир подымает восстание в Уарсенисе. На равнину Митиджу выступает ополчение племени бени-мнад. В Даре против французов ведет боевые действия крупное племя бени-менасер. В центре Кабилии восстают племена себау. Весь Алжир к востоку от Милианы охвачен народной войной. Абд-аль-Кадир осаждает захваченный французами город Шершель. В течение нескольких недель эмир лишает колонизаторов почти всех плодов их завоеваний во внутренних районах страны.
Французам опять приходится начинать сначала. Бюжо делит свою армию на 18 колонн и направляет их против восставших племен. Абд-аль-Кадир, уклоняясь от крупных сражений, уходит на юго-запад Алжира. В мае 1843 года он появляется под Ораном, громит здесь французские посты и поселения колонистов и затем уводит свое войско в Сахару.
В Алжире складывается очень своеобразная обстановка. Все города и почти все крупные селения захвачены французами. В плодородных долинах множатся фермы колонистов. Основываются акционерные общества для эксплуатации природных богатств. Колониальные власти пытаются раскинуть по всей стране административную сеть Арабских бюро, подчинив ей племенных шейхов. Из одной области в другую беспрерывно курсируют колонны оккупационных войск. По всем признакам страна превращена в колонию. Но внутри нее и независимо от нее продолжает действовать государственная власть Абд-аль-Кадира. Его каиды собирают налоги, хотя и не так регулярно, как прежде. Его кади вершат суд, хотя далеко не везде. А главное, сохраняется военная организация эмира, которая остается жизнеспособной и массовой благодаря опоре на племенные ополчения, возникающие всюду, где появляются регулярные отряды его армии. В итоге большинство сельского населения поддерживает власть Абд-аль-Кадира, которая действует, не считаясь с колониальными властями.
Существует также центр военно-политической и религиозной власти эмира, преобразовавшийся применительно к новым условиям в кочевую столицу, которая вся целиком — вместе с населением, жилищами, учреждениями верховной власти и веем-прочим — постоянно перемещается с места на место. Это палаточный город — смала с населением примерно в 20 тысяч человек, жители состояли в основном из семей воинов регулярной армии и тех шейхов, которые вели партизанскую войну в различных районах страны. Вместе со смалой кочевали мастерские, лазареты, оружейные и провиантские склады. В тайниках хранились казна эмира и ценности, переданные на хранение племенами, земли которых были оккупированы французами. В походах за смалой тянулся огромный обоз и стада лошадей, верблюдов, овец.
Тайные зарнохранилища, заготовленные эмиром в прошлые годы, обеспечивали по дороге жителей хлебом. В тех местностях, где склады были обнаружены и разграблены французами, хлеб в счет податей поставляли окрестные племена.
Смала была хорошо организована. Она делилась на четыре дейры — кочевья, возглавляемые шейхами. В случае необходимости она быстро снималась с места и столь же быстро могла раскинуться лагерем после похода. «Порядок размещения палаток подчинялся строгим правилам, — рассказывает Абд-аль-Кадир. — Когда я устанавливал свой шатер, каждый знал, где ему следует расположиться».
Эмир со своим войском не был привязан к смале. Оставляя ее на попечение своих помощников, он возглавляет военные рейды по всей стране, совершая нападения на колонизаторов и поднимая народ на восстание. Отлично осведомленный о передвижениях вражеских войск, он наносит неожиданные удары и исчезает, не давая врагу возможности организовать преследование. Французские генералы тщетно стараются напасть на след его кочующей столицы. Искусно маневрируя, возникая со смалой то в долинах Центрального Алжира, то в отдаленных районах Сахары, эмир в течение долгого времени сохраняет свои силы и благодаря этому продолжает господствовать в сельской местности.
«Истинная его сила, — писал историк Габриэль Эскер, — заключалась в той быстроте, с которой он всегда, иной раз, правда, и с трудом, ускользал от наших отрядов. Она также заключалась в твердости его характера. Он никогда не склонялся перед неудачей и на самые тяжелые поражения всегда находил ответ. Он всегда был выше собственной судьбы».
Именно в этот период Абд-аль-Кадир достигает вершины своего жизненного пути. Именно в это время с наибольшей полнотой обнаруживается сила и цельность его личности — подлинно народного героя. Борьба фактически утрачивает оболочку «священной войны», а ее герой — лик религиозного мессии. Картина упрощается. Перед нами народ, порабощенный завоевателями, и его избранник — народный вождь, отстаивающий свободу и независимость своих соотечественников, побуждаемых к борьбе чисто земным инстинктом самосохранения.
Участвуя в этой неравной и, по всей видимости, безнадежной борьбе, Абд-аль-Кадир никогда не терял веры в успех своего дела. Он сохранял эту веру в любых положениях, как бы тяжелы и безысходны они ни были. Даже после того, как французские войска захватили или уничтожили все арабские крепости и война приобрела вид загонной охоты на эмира, он упорно и неутомимо продолжал борьбу. В этом не было слепой ярости обреченного или отчаянного неистовства человека, которому нечего терять. В этом был оптимизм уверенного и неукротимость правого.
Духовные истоки неистребимой уверенности эмира в своему деле следует искать в особенностях его жизневосприятия, в его взглядах на земное назначение человека.
У всякого истинного правоверного эти взгляды определяются фатализмом, который К. Маркс называл «стержнем мусульманства». Ислам отнимает у человека свободу воли. Нет ничего, что не происходило бы по воле всевышнего, даже «лист падает только с Его ведома» (6:59). Человек и шага не делает, не предусмотренного богом: «Кого желает Аллах, того сбивает 1 с пути, а кого желает, того помещает на прямой дороге» (6:39). Жизнь человека заранее расписана, поступки предопределены, желание и мысли предугаданы. Высшая сила устанавливает все, что происходит и что должно произойти. Человек не властен свернуть с предуготованного ему пути.
Что же, фаталист, выходит, обречен на пассивное ожидание того, что с ним должно случиться? Выходит, для него бессмысленно пытаться что-либо изменить? Однозначного ответа на эти вопросы нет. Тут все зависит от человека и обстоятельств. Г. В. Плеханов писал, что «фатализм не только не всегда мешает энергическому действию на практике, но, напротив, в известные эпохи был п с и х о л о г и ч е с к и н е о б х о д и м о й о с н о в о й т а к о г о д е й с т в и я (разрядка автора. — Ю. О.). В доказательстве сошлемся на пуритан, далеко превзошедших своей энергией все другие партии в Англии XVII века, и на последователей Магомета, в короткое время покоривших своей власти огромную полосу земли от Индии до Испании».
Фатализм порождает бездействие, покорность перед суетной повседневностью и страх перед неожиданным у человека, не уверенного в собственных силах и не знающего, чего он хочет. Целеустремленный же фаталист неукротимо деятелен и непоколебимо убежден в оправданности своих поступков. Отсутствие свободы воли означает для него лишь безусловную необходимость выполнения поставленной цели.
Важно в каждом данном случае установить и разновидность фатализма, который может принимать всевозможные формы — от неосознанной житейской веры в обязательность всего происходящего до мудреных философских теорий, трактующих в провиденциальном духе свободу воли, необходимость, причинность и иные отвлеченные вещи. В зависимости от принимаемой формы фаталист может исповедовать различные жизненные установки — от безропотного смирения до оголтелого культа силы. В самом коране легко отыскать места, близкие по содержанию к аристократическому язычеству античного рока. Или к строгому фанатизму учения тех же пуритан о предопределении. Или, наконец, к простонародной вере в судьбу, личную долю, назначенную свыше: «И всякому человеку Мы прикрепили птицу к его шее...» (17 : 14).
Вот эта птица-судьба точней всего символизирует фатализм нашего героя. Символ этот появился у арабов еще в доисламский период. Птица олицетворяла у них судьбу, ее изображение обычно вписывалось в орнамент на ожерельях. Знак, очень мирской и конкретный; судьба в нем не отделена от человека — она всегда с тобою, рядом, на твоей шее; она не подчиняется своему носителю, но и не подчиняет его; она всегда вместе с ним и заодно с ним. Символ, соединяющий в себе стоицизм смирения и оптимизм надежды. Он возник из практичного народного представления о действительном течении жизни, безвозвратном и неповторимом, — значит, все, что случилось, должно, было случиться, и чему быть, того не миновать, — но неистребимом и неумирающем — значит, что бы ни случилось, надежда всегда с тобой, и нет худа без добра.
Этот крестьянский, пастушеский фатализм, исполненный здравого смысла и жизнестойкости, находится в очень отдаленном родстве с богословским или философским фатализмом, который отрывает судьбу от человека и превращает ее в чуждую ему и господствующую над ним силу, извращающе воздействующую на его помыслы и поступки. В сознании труженика, каким бы религиозным он ни был, это превращение обычно изменяет лишь форму жизневосприятия. Сущность не меняется от того, что неотвратимость происходящего облекается теперь в божественную оболочку: «так пожелал Аллах», а надежда обретает условную зависимость от высшей силы: «что бог дает — все к, лучшему». Трудовая деятельность — материальная особенно — прочно удерживает на земле и человека и его судьбу. В какие бы религиозные одежды его ни обряжали — будь то ортодоксальный ислам или полуязыческая барака — птица всегда остается у него на шее.
Вот откуда происходит неизбывная уверенность Абд-аль-Кадира в торжестве своего дела. Вот почему из самых тяжелых испытаний выходит он несломленным и смело глядящим вперед. Конечно же, оптимизм свой он черпал не только в собственной душе; главный его источник находился в единосущем с ней духе народном, в стихийном стремлении народа отстоять свою свободу и независимость. До тех пор, пока надежда на победу жила в сердцах феллахов и бедуинов, пока птица эмира олицетворяла судьбу народа; она — и он вместе с ней — была в полете.
Абд-аль-Кадир со стоическим упорством продолжал бороться против того гибельного удела, который ему готовили враги, тоже оптимистичные фаталисты, но по-своему. Их фатализм исходил из той самой «логики истории», которая возводила всеобщее торжество капитала в объективный закон мирового развития, неумолимый и не имеющий обратной силы. Им тогда не были страшны бури, их судьба сияла путеводной звездой, которая по их глубочайшему убеждению — и стихийному и научному — никогда не затухнет. «Надо довериться будущему», — говорил Гизо.
Будущее давало о себе знать Абд-аль-Кадиру все более страшными ударами в настоящем. В мае 1843 года герцог Орлеанский, возглавлявший одну из французских колонн на юго-западе Алжира, был извещен шейхом Омаром-бен-Ферхадом, изменившим эмиру, о местонахождении смалы. Кочевой город был почти беззащитен: в нем оставалось всего лишь несколько сот воинов, в основном больных и раненых. Эмир со своим войском находился в другом районе. 16 мая герцог внезапно напал на смалу, разместившуюся в урочище Тагин на юге провинции Оран. Началась дикая резня. Озверевшие от алчности солдаты рубили у женщин кисти рук, чтобы без помех снимать кольца. Смала была совершенно разгромлена. Французы захватили оружейные склады и всю казну Абд-аль-Кадира. Семье эмира удалось спастись лишь благодаря счастливому случаю. Около трех тысяч жителей, в том числе много родственников арабских вождей, было взято в плен, остальные разбежались по пустыне. Смала навсегда прекратила свое существование.
Захват смалы резко ухудшил положение Абд-аль-Кадира. Многие племена откололись от него. Отмечая этот факт, д'Эстейер-Шантерен с ироническим злорадством просвещенного спрашивает в книге, изданной в 1950 году: «Сохраняет ли все еще эмир свою «бараку»?». Современный французский историк не хочет воспринимать эмира иначе как религиозного фанатика, полудикого и наивного, по младенчеству мысли вообразившего, что фатальная сила бараки позволит ему повести за собой народ. В этом подходе кроется все то же высокомерие «цивилизатора», непреложно уверенного в собственном превосходстве и усматривающего в любом вожде национально-освободительного движения неотесанного «туземца». Что же касается бараки, то как религиозная оболочка фатализма она, по существу, ничем не отличается от всякой подобной формы, хотя бы и от наукообразной теории исторического прогресса Гизо, пропитанной бодрым фатализмом.
Доподлинно неизвестно, пытался ли испытать Абд-аль-Кадир мистическую силу бараки в радениях или как-нибудь еще после того, как узнал о катастрофе. Но документально подтверждено, что немедленно после этого он направляет своим халифам послание, которое как нельзя лучше характеризует действительное его отношение к превратностям судьбы. «Французы совершили набег на мою смалу, — писал эмир, — но пусть это не лишит нас мужества; отныне наше время облегчилось, нам будет лучше воевать».
Падение смалы очень тягостно подействовало на шейхов, особенно на тех, чьи семьи оказались в руках противника. Призывы эмира не могли значительно ослабить этого впечатления. Все больше шейхов начало изъявлять свою покорность колонизаторам. Абд-аль-Кадиру нужны были военные успехи, чтобы восстановить свое влияние в стране. Но единственным военным достижением эмира в это время явился разгром войска старейшего его врага — шейха махзен Мустафы бен Исмаила, который стал главным союзником французов в Алжире. Шейх был убит в бою, а его казна была захвачена воинами эмира.
Французские войска все дальше оттесняют армию Абд-аль-Кадира от густонаселенных районов. Оценивая военную обстановку в 1843 году, капитан Куропаткин пишет в своей книге о французском завоевании Алжира:
«В общем завоевание приморской полосы было окончено и обеспечено второю линией укрепленных пунктов, выдвинутых в горы. Первую линию укреплений составляли приморские порты: Оран, Мостаганем, Тенес, Шершель, Алжир, Филиппвиль и Бон; вторая, внутренняя, линия, расположенная в горной полосе, состояла из семи городов: Тлемсена, Маскары, Милианы, Медеи, Сетифа, Константины и Гюльемы.
Занятие означенных пунктов второй линии, обеспечивая отчасти французам спокойствие в приморской полосе, нисколько еще не обеспечивало им владение горной полосой Алжирии. Эти пункты еще не имели сообщения между собою и находились в постоянной блокаде».
Опираясь на племена, населяющие горные и пустынные районы, Абд-аль-Кадир стремится разрушить французскую систему обороны. Но силы слишком неравны. Эмир затевает несколько крупных сражений. Все они кончаются для него поражением. В июне 1843 года его войско терпит неудачу у Джедды. В начале июля он безуспешно пытается внезапным нападением захватить Маскару. В сентябре французы обращают в бегство его войско у Сиди-Юсуфа. В сражении при Сиди-Иаия 11 ноября 1843 года регулярная армия Абд-аль-Кадира была окончательно разбита, эмир с небольшим отрядом бежал в пустыню.
Примерно в это же время французские войска уничтожают отряды халифов эмира и независимых вождей. Близ Маскары: в бою погибает Бен Аллаль, известный всему народу вождь и близкий сподвижник Абд-аль-Кадира. Его голову доставляют в город Алжир и выставляют на шесте в Арабском бюро. На юго-востоке французы изгоняют из района Бискры бывшего бея Константины Ахмеда. На юго-западе генерал Маре захватывает район Лагуата и посылает отряд к крепости Айн-Махди, куда вернулся Тиджини, изгнанный в свое время Абд-аль-Кадиром. Крепость взять не удается, и французы довольствуются тем, что снимают ее топографический план.
Лишь немногие племена, обитающие в труднодоступных районах, сохраняют верность Абд-аль-Кадиру. Почти вся страна находится под контролем французских войск и отрядов предавшихся им шейхов. Бюжо, уверенный в окончательном разгроме эмира, заявляет: «Абд-аль-Кадир потерял пять шестых своих владений, все свои крепости и продовольственные склады, свое постоянное войско и, что для него всего хуже, престиж, которым он еще пользовался в 1840 году».
Но эмир не отказывается от борьбы. Он столь же деятелен и неутомим, как и в прошлые годы. Абд-аль-Кадир собирает остатки своего войска в дейру и перебирается на марокканскую границу, где готовится к новым схваткам с врагом. Он знает, что племена уступили силе, но не покорились, что в Алжире у него осталось много верных сторонников.
Французам все еще не удается подчинить племена кабилов, которые больше жизни дорожат свободой. В 1844 году кабильские вожди отвечают Бюжо на предложение о признании верховной власти Франции:
«Если вы определенно замышляете завладеть всем Алжиром, если ваше властолюбие будет направлено на подчинение людей, для которых, укрытием служат горы и скалы, заявляем вам: рука Бога могущественнее, чем ваша. И знайте же, что нажива и убыток не имеют для нас значения; мы привыкли никогда не бояться ни изгнания, ни смерти... Наши горы обширны, они простираются отсюда до Туниса. Если мы не сможем устоять против вас, то мы будем шаг за шагом отступать до этой страны».
В Кабилии, в горном краю Джурджуре, находится верный халиф эмира Бен Салем, готовый по первому повелению своего вождя начать войну против колонизаторов. Но от эмира нет никаких вестей. По стране ходят слухи о его смерти. Бен Салем направляет гонцов к марокканской границе, приказывая им отыскать Абд-аль-Кадира и вручить ему письмо, в котором он призывает эмира прибыть в Кабилию, чтобы возглавить восстание. Гонцы доставляют письмо по адресу и везут ответное послание, в котором эмир пишет:
«Я получил твое письмо, извещающее меня о том, что на Востоке распространились слухи о моей гибели. Никто не может избежать смерти; такова воля Всевышнего. Однако — хвала Аллаху — мой час еще не пробил. Я все еще полон сил и энергии и надеюсь сокрушить врагов нашей веры. Именно по этим способностям познаются мужчины. Будь всегда самим собой, спокойным, уверенным, непоколебимым, и Бог вознаградит тебя. Я прибуду к тебе, как только завершу устройство своих дел на западе».
Здесь, на западе, Абд-аль-Кадир стремится найти союзников для продолжения войны. Он вновь направляет послов в Англию, Тунис, к турецкому султану, испрашивая у них покровительства и помощи. Отовсюду, как и прежде, приходят отказы, Более всего эмир рассчитывает на поддержку правителя Марокко Мулай Абдаррахмана. Султан не хочет вступать в войну с французами, но и не запрещает Абд-аль-Кадиру находиться на территории Марокко. Эмир собирает новое войско, к которому присоединилось немало марокканцев, и начинает совершать рейды в Оранию.
Бюжо предъявляет султану ультиматум, в котором требует выдачи Абд-аль-Кадира, уничтожения его войска и принесения извинений за нарушение границы. Абдаррахман отклоняет эти требования. Франция начинает войну против Марокко. 6 августа 1884 года французская эскадра бомбардирует Танжер. Через неделю Бюжо со своей армией переходит марокканскую границу и направляется на правый берег реки Исли, где его ожидает войско султана. Невдалеке находится и лагерь Абд-аль-Кадира. Эмир предлагает Абдаррахману помощь своих отрядов и представляет план сражения, но султан отклоняет и то и другое. Абд-аль-Кадир должен довольствоваться ролью стороннего наблюдателя.
14
августа французы наголову
разбивают марокканское войско, за
что Бюжо получает титул герцога
Исли. Франция готова развить успех
и приступить к захвату Марокко. Но
британское правительство твердо
дает понять, что оно не потерпит
расширения французских владений в
Северной Африке.
Бюжо вынужден отвести свои войска из Марокко. 10 сентября 1844 года в Танжере заключается договор, по которому султан объявляет Абд-аль-Кадира вне закона на территории Марокко, обязуется разоружить его войско и прекратить всякую помощь алжирскому восстанию.
Эмир оказывается между двух огней. Но для него все еще не существует безвыходных положений. Он не соглашается выполнить приказ Абдаррахмана о роспуске войска и добровольной сдаче в плен. Эмир посылает гонцов в Алжир с воззванием, призывающим к восстанию. Осенью 1845 года он с войском уходит из Марокко, чтобы на родине еще раз испытать свою судьбу,
Ветры дуют не так
И вновь — который уже раз! — Абд-аль-Кадир начинает сначала. Вновь бросается он в неравную схватку. Эмир все еще надеется на победу.
иго призывы к восстанию были услышаны в Алжире. В марте 1845 года восстали племена в горах Дахра. Их возглавил марабут Бу-Маза, которого Абд-аль-Кадир признал своим халифом. В Западной Орании несколько восставших племен объединились вокруг марабута Мухаммеда-аль-Фиделя, который выдавал себя за воскресшего Иисуса Христа (в исламе Иисус под именем Иса является одним из шести главных пророков). В Кабилии во главе народного движения встал Бен Салем. К осени 1845 года восстание охватило около половины территории страны.
Возобновление войны вначале для алжирцев было успешным. 11 сентября Абд-аль-Кадир разгромил отряды французских стрелков близ Сидн-Брагима. В этом бою эмир получает единственную в его ратной жизни рану: пуля отсекает ему нижнюю часть уха. 21 сентября он добился победы у Джемаа-Газауата. Тогда же отряды Бу-Мазы нанесли поражение крупной колонне французских войск в горах Дахры. В конце сентября эмир захватил крепости Себду и Сайда и блокировал французские гарнизоны в Маскаре и Тазе. 2 октября 1845 года секретарь Абд-аль-Кадира рассылает по племенам Орании прокламацию: «Благодарение Богу, наш эмир снова среди нас. Все население провинции — бедуины, крестьяне, жители городов — поднимается на борьбу против тех, кто не следует истинным путем».
Восстание принимает угрожающие размеры. «В течение пятнадцати дней эмир овладел горной страной, расположенной между восточной границей и верхней Тафной», — пишет генерал Кавиньяк. Племена горцев одно за другим присоединяются к Абд-аль-Кадиру. Среди европейских колонистов в долинах Орана и Митиджи начинается паника. Маршал Бюжо просит подкреплений из метрополии. Усилив оккупационную армию, он выделяет ударные отряды и направляет их против повстанцев. Маршал побуждает своих офицеров к зверским расправам над населением непокорных районов. Во Франции получают скандальную известность «выкуривания», которые применяются в горах Дахра для уничтожения алжирцев, укрепившихся в пещерах. Первым этот способ использовал Кавиньяк, прославившийся впоследствии подавлением восстания рабочих в Париже в июне 1848 года. За три года до этого генерал удушил дымом в пещерах Некмария племена збеа. Маршал Бюжо призывает следовать его примеру, направляя полковнику Пелиссье приказ: «Если эти мерзавцы укроются в пещерах, поступайте так, как поступил Кавиньяк. Выкуривайте их, как лис».
Полковник подчиняется приказу, лично распоряжаясь подготовкой «выкуривания». Очевидец рассказывает о том, как проходила эта операция:
«Где найти перо, способное описать эту картину? Глухой ночью французский отряд поддерживал дьявольский костер. Слышались глухие стоны мужчин, женщин, детей и животных. Треск скал, раскалывающихся от жара, непрестанные выстрелы. В эту ночь шла страшная борьба людей и животных.
Утром, когда захотели расчистить вход в пещеру, взору нападающих открылось ужасное зрелище. Я осмотрел три пещеры и вот что увидел: у входа лежали волы, ослы и бараны. Инстинкт привел их сюда в поисках воздуха: его не хватало в глубине грота. Среди этих животных или под ними грудами лежали мужчины, женщины, дети. Я видел одного человека. Он был мертв. Стоя на коленях, он рукой вцепился в рог вола. Перед ним лежала женщина, сжимая в объятиях ребенка. Было нетрудно угадать, что этот человек, также как и женщина и вол, задохнулся в то время, когда мужчина пытался защитить своих близких от обезумевшего животного.
Пещеры огромны. В них нашли семьсот шестьдесят трупов. Еле живыми выбралось лишь человек шестьдесят. Сорок из них не выжили, десять в тяжелом состоянии находятся в лазарете, десять кое-как способных двигаться отпущены на свободу. Пусть вернутся к своим племенам. Им останется лишь рыдать на развалинах».
Вновь Бюжо пытается поймать войско Абд-аль-Кадира в сеть «летучих колонн». Вновь эмир носится по стране, избегая крупных столкновений с французами. Он отсылает в Марокко свою дейру и остается с конным отрядом в несколько сот человек. В феврале 1846 года эмир уходит от преследования в горы Уарсениса. Здесь к нему присоединяется Бу-Маза со своим войском. Абд-аль-Кадир пытается пробиться к Джурджуре, где его ожидает Бен Салем со своими кабильскими отрядами. Но его настигает одна из французских колонн, которая навязывает войску эмира сражение. Под Абд-аль-Кадиром убивают двух коней, он бьется в рукопашной схватке, лишь чудом удается ему спастись.
С остатками войска эмир уходит в Сахару, надеясь поднять на восстание племена бедуинов. Здесь его почтительно принимают, снабжают продовольствием и лошадьми, но в военной помощи решительно отказывают. Племена устали от войны. Шейхи изверились в возможности победы над французами. Они начинают сторониться Абд-аль-Кадира. Эмир стал теперь в их глазах вестником смерти и разрушения: за ним по пятам идут французские войска, которые дотла разоряют все племена, оказавшие хоть малейшую помощь эмиру.
В начале 1847 года в Алжире остаются лишь отдельные, не связанные между собой очаги восстания. Но и они вскоре подавляются. В феврале был вынужден сдаться французам Бен Салем, халиф Абд-аль-Кадира в Кабилии. Тогда же сложили оружие братья эмира Сиди Мустафа и Сиди Сайд. В апреле 1847 года был взят в плен Бу-Маза.
Несколько месяцев эмир скитается по пустыне, все еще надеясь прорваться в густонаселенные районы и поднять народ на «священную войну». Но ему не по силам преодолеть французские кордоны, и, главное, нет никаких обнадеживающих признаков того, что племена поддержат восстание. Летом 1847 года Абд-аль-Кадир со своим отрядом уходит в Марокко и, присоединившись к дейре, становится лагерем в одной из речных долин в области Риф.
В жизни эмира начинается тягостный период. Он не может смириться с поражением, но и не хочет возобновлять войну, заведомо обреченную на неудачу. Обстоятельства оказались сильней его. Но Абд-аль-Кадир все еще стремится найти выход. Он вновь посылает послов в различные государства, тщетно пытаясь получить иностранную поддержку. Он обдумывает возможность вывода всех алжирских мусульман в Аравию, но отбрасывает ее как явно неосуществимую. Одно время эмира захватывает идея о восстановлении древнего королевства со столицей в Тлемсене, некогда объединявшего сопредельные области Алжира и Марокко. Идея очень заманчива: племена в Восточном Марокко столь же глубоко почитают Абд-аль-Кадира, как и население Орании. Но для ее выполнения пришлось бы бороться и с французами и с марокканским султаном. Эмир, всегда трезво оценивающий обстановку, не решается на это.
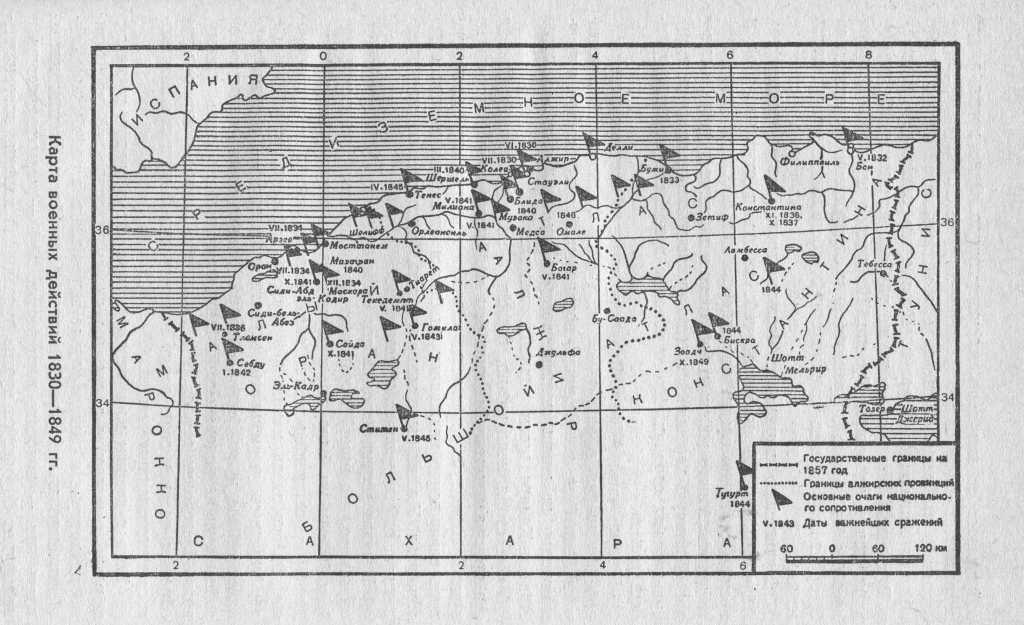
Карта
военных действий 1830—1849 гг.
Мучительно переживая безысходность своего положения, Абд-аль-Кадир не позволяет себе впасть в отчаяние. Как и прежде, он лично следит за поддержанием боеспособности своего двухтысячного войска и заботится о порядке в дейре. Он ведет обширную переписку с государственными деятелями в мусульманских странах. К его советам прибегают шейхи окрестных племен.
Многие часы Абд-аль-Кадир проводит в истовых молитвах, нередко впадая в экстатический транс. Французский авантюрист Леон Рош, долгое время подвизавшийся при эмире, описывает одну из таких молитв, которую он наблюдал в палатке Абд-аль-Кадира, притворившись спящим.
«Он стоял неподвижно, подняв руки над головой. Взгляд его прекрасных голубых глаз был направлен ввысь, его слегка приоткрытые губы, казалось, шептали молитву, но они оставались совершенно недвижны; он был в состоянии полной отрешенности. У меня было такое чувство, будто он в своем устремлении к небу отделился от земли...»
В каких мирах витает в эти часы дух эмира? И находит ли он там то, что ищет? Прозревает ли назначенный ему жребий? Как бы там ни было, но, возвращаясь из потусторонних блужданий, он вынужден в этом мире искать ответы на все вопросы. Только здесь можно действительно восстановить свои силы, укрепить уверенность, оживить надежду — все то, чего алчет сейчас душа Абд-аль-Кадира. Только здесь открываются тайны судьбы человеческой. Небо благосклонно лишь к тому, кому благоволит земля. В нескончаемой суете земного мира обретает человек свою долю. В Книгу судеб доля эта вписывается всегда задним числом.
Если духовным воспарениям эмира нет пределов, то на его мирские стремления наложены оковы исторической необходимости, которая в данном случае выражалась в неизбежном осуществлении колониальной миссии европейцев. Долгих пятнадцать лет — поистине героических лет! — самоотверженно и неотступно боролся он против чудовищной машины колониализма, с неотвратимостью стихийной силы, надвигавшейся на его родину. В такой борьбе рано или поздно наступает переломный момент, когда народ, обескровленный войной и лишенный внешней поддержки, истощает свои силы в борьбе с колонизаторами настолько, что оказывается не в состоянии продолжать битву за свободу. Тогда он на время смиряется со своей недоброй участью, чтобы уберечь свои жизненные основы от полного уничтожения, а затем, восстановив способность к сопротивлению, продолжить борьбу.
«Чаще всего речь здесь идет о драме, — пишет алжирский социолог Лашраф, — действие которой развивается непрерывно; о неустанной борьбе, которую нужно довести до конца не из-за показного героизма, а потому, что народ наделен такой энергией и такой большой жизнеспособностью, что он должен исчерпать все свои физические и моральные силы прежде чем покориться».
Абд-аль-Кадир не хотел верить, что роковой момент наступил. Слишком много жертв было принесено, чтобы смириться с поражением. Слишком пагубными, несправедливыми и унизительными были итоги войны, чтобы согласиться с их непреложностью. Сердце и разум эмира восставали против смирения перед участью побежденного. Птица на его шее рвалась вперед, к новым битвам, к победе. Вопреки всем обстоятельствам; наперекор течению событий, несмотря на все неудачи и злоключения.
«Я защищал свою веру, свою родину, свой очаг, — говорил эмир, — и я намеревался бороться до последних сил; мне всегда казалось, что я делаю слишком мало для торжества своего дела».
Между тем надо было на что-то решаться. Султан Абдаррахман предлагает эмиру простое и безопасное решение: распустить войско, отдаться в руки марокканских властей, с тем, чтобы впоследствии с их помощью перебраться в какой-либо из городов Аравии. Такой выход неприемлем для Абд-аль-Кадира. В нем не угасла еще надежда продолжить борьбу. Он убежден, что не все еще потеряно, что развитие событий еще изменится в желанном направлении.
«Ветры дуют не так, как хотят корабли», — философично утверждает старая арабская поговорка.
Султан Абдаррахман, опасавшийся Франции и встревоженный ростом влияния эмира в Марокко, повелевает своему войску уничтожить дейру Абд-аль-Кадира. В октябре 1847 года два крупных марокканских отряда, возглавляемых Эль-Ахмарой, каидом области Риф, и двоюродным братом султана Мулай-Хасаном, направляются к дейре. Эмир решает принять бой, хотя его войско намного уступает силе противника. Помогает военная хитрость. В одну из ночей Абд-аль-Кадир приказывает навьючить сухим хворостом несколько десятков верблюдов и быков. Невдалеке от марокканского лагеря Хворост поджигают и обезумевшее стадо гонят на палатки врага. Вслед за ним на переполошенный лагерь обрушивается конница эмира.
Марокканское войско было разгромлено. Захватив богатые трофеи, алжирцы вернулись в дейру.
Но эта победа лишь усилила опасность, нависшую над эмиром. Ему донесли, что разгневанный султан намерен двинуть на дейру всю свою армию. Абд-аль-Кадир попытался восстановить мирные отношения с султаном. Они ведь в конце концов единоверцы, которым угрожает один и тот же враг. Эмир ведь многие годы считал султана своим сюзереном. Давно ли Абдаррахман выражал свое восхищение борьбой эмира в защиту веры?
Абд-аль-Кадир пишет обо всем этом в послании марокканскому султану. Но кто возьмется доставить его по назначению? Риск велик: султан злопамятен и в гневе скор на расправу. Выполнить опасную миссию вызывается Бу Хамиди, ближайший соратник и личный друг Абд-аль-Кадира. Эмир долго не решается отправить посольство. Но дни бегут, огромная армия султана все ближе продвигается к дейре. Медлить больше нельзя. Абд-аль-Кадир, наконец, дает послам разрешение на отъезд. Возвратившись в дейру после проводов, эмир записывает стихи, навеянные мрачными предчувствиями:
В
день расставания, прощаясь, я надел
на моих
соратников
жемчужные ожерелья из моих слез.
Когда
под звуки песни погонщиков
верблюдов
их
караван тронулся в путь,
все
обрушилось во мне: надежда, сила,
уверенность...
—
Прощайте! — воскликнул я, стеная и
окидывая
взором
свой лагерь, обратившийся в пустыню.
Не
помня себя, возвращался я дорогой,
ускользающей из-под ног.
И
врагам своим не пожелал бы я такого
возвращения...
Предчувствия не обманули эмира. По прибытии в столицу Марокко Бу Хамиди был схвачен стражей султана, закован в цепи и брошен в темницу. Впоследствии, по свидетельству современников, его отравили тюремщики.
Тем временем марокканское войско оттеснило алжирскую дейру к пограничной реке Мулуйе. 50-тысячной армии султана Абд-аль-Кадир мог противопоставить лишь две тысячи своих воинов, которые должны были охранять еще и несколько тысяч женщин и детей дейры. Но и при этом соотношении сил Абд-аль-Кадир предпринимает попытку одолеть противника. Во главе марокканского войска стоят два сына султана. Эмир пытается внезапным нападением захватить их в плен, чтобы затем принудить султана к заключению мира под угрозой лишения принцев жизни.
Этот замысел не удался. Нападение было отбито. 21 декабря 1847 года Абд-аль-Кадир был вынужден переправить дейру на алжирский берег, где его подстерегали французы. Прикрывая переправу, эмир несколько часов со своими воинами отбивался от наседавших марокканских войск.
«Его бурнус был изрешечен пулями, под ним пали три коня», — свидетельствует французский автор.
Абд-аль-Кадир последним перешел Мулуйю. Он хотел увести дейру и остатки своего отряда в пустыню и попытаться еще раз начать восстание. Но единственный проход на юг — ущелье Кербус — был заперт французскими войсками. Пробиться через него не удалось. Эмир отвел дейру в безопасное место и созвал военный совет; нужно было решить, что делать дальше.
Совет начался глубокой ночью, когда дейра спала. В стороне от лагеря, вокруг большого костра собрались халифы Абд-аль-Кадира, шейхи, воины. Шел холодный мелкий дождь. Вдали изредка постреливали французские часовые. Долго царило тягостное молчание. Рядом с эмиром остались люди, безоговорочно преданные ему и готовые следовать за ним до конца, Мустафа-бен-Тами и Каддур-бен-Аллах, давние соратники Абд-аль-Кадира, предложили еще раз попытать удачи в войне. Воины могли бы прорваться в пустыню по горным тропам, в обход французских постов. Пришлось бы только бросить дейру вместе с семьями и обозом. Но Абд-аль-Кадир принял иное решение. Он уже утратил надежду на успех. Он не верит в то, что племена поддержат его. Эмир не хочет продолжать бессмысленное кровопролитие. Выслушав своих сподвижников, он говорит:
«Поверьте мне, война окончена. Давайте же признаем это. Бог — свидетель, что мы боролись так долго, как могли. Если он не даровал нам победу, то только потому, что считал это необходимым. Останусь ли я в этой стране, нет ли — это очень мало значит. Что еще могу я сделать для того дела, за которое мы так упорно боролись? Могу ли возобновить войну? Да. Но я буду сокрушен, и арабы будут обречены на новые страдания.
Кроме того, племена устали от войны и не станут больше повиноваться мне. Мы должны смириться. Остается единственный вопрос: отдадимся ли мы в руки христиан или в руки султана Абдаррахмана. В этом отношении вы вольны поступать так, как сочтете нужным. Что же касается меня, то я тысячу раз предпочту довериться тому, с кем я воевал, чем тому, который предал меня. Мы находимся в трудном положении, поэтому можем выставить лишь скромные условия сдачи. Сам я ограничусь просьбой об обеспечении безопасности моей семье и тем из вас, кто пожелает следовать за мной в другую мусульманскую страну».
Итак, Абд-аль-Кадир примирился со своей долей — той, которую предуготовило не зависящее от него стечение обстоятельств. Народу стало не по силам продолжать войну. Колонизаторы навязали ему колониальную судьбу, которая более столетия жестокой и бездушной силой будет тяготеть над страной. Отныне крылья птицы на шее эмира были подрезаны. Она больше не могла сопротивляться противным ветрам.
Военный совет согласился с мнением Абд-аль-Кадира. Никто не стал оспаривать доводы вождя, в мужество, честность и мудрость которого все безгранично уверовали за долгие годы совместной борьбы. Мустафа-бен-Тами составляет письмо генералу Ламорисьеру, который командовал французскими войсками в Западном Алжире. «Мы хотим, — пишет он, — чтобы вы дали нам слово, которое не будет ни изменено, ни нарушено, в том, что вы гарантируете нам переезд в Мекку или Александрию...» Кроме этого, Абд-аль-Кадир взамен своей сдачи просит лишь одного: чтобы французское правительство помогло освободить из марокканской тюрьмы его друга Бу Хамиди, о смерти которого эмир еще не знает.
22 декабря алжирские посланцы доставляют это письмо Ламорисьеру. Обрадованный неожиданным согласием эмира на капитуляцию, генерал принимает его условия и дает слово в их соблюдении от имени сына короля, герцога Омальского, заменившего к тому времени маршала Бюжо на посту генерал-губернатора Алжира. В тот же день гонцы передают Абд-аль-Кадиру письмо Ламорисьера, которое официально подтверждает обещания Франции: гарантировать свободный отъезд в Мекку или Александрию эмиру, его семье и тем его соратникам, которые того пожелают; предоставить пенсию, соответствующую его положению; обеспечить сохранение жизни и имущества всех его подданных, которые останутся в Алжире.
Утром 23 декабря 1847 года Абд-аль-Кадир со своими родными и близкими сподвижниками сдался французам у Сиди Брагима.
Обещания, сделанные Ламорисьером от лица Франции, были оценены в метрополии как излишние и стеснительные для правительства уступки Абд-аль-Кадиру, без которых вполне можно было бы обойтись. Эмир, дескать, принял бы и безоговорочную капитуляцию, поскольку его дейра была намертво зажата между французскими и марокканскими войсками. Но генерал Ламорисьер очень хорошо знал по собственному опыту необычайную способность Абд-аль-Кадира уходить от преследования в самой безысходной обстановке. Возобновление же эмиром партизанской войны даже в неблагоприятных для него условиях сулило французам еще немало бед. Поэтому генерал справедливо счел условия капитуляции очень умеренными.
Оправдываясь два месяца спустя в палате депутатов, Ламорисьер говорил: «Марокканцы находились на, севере в пяти лье от дейры, я был в двух лье от нее на юге. Знаете ли вы, что было беззащитно? Только лагерь эмира. Но его конница и он сам могли бы свободно уйти от нас, если бы захотели... Говорят, нужно было нападать, вместо того чтобы вести переговоры. Если бы я это сделал, то разгромил бы лагерь и сейчас докладывал бы вам о том, что захватил палатку Абд-аль-Кадира, его ковры, одну из его жен, может, быть, одного из его халифов, но сам эмир вместе со своими всадниками ушел бы в пустыню...»
Не преходящая безысходность момента вынудила Абд-аль-Кадира сложить оружие, а трагическая обреченность всей его многолетней борьбы. Не перед случаем склонился он, но перед судьбой. И выносить окончательный приговор деятельности эмира было дано не его современникам, но только суду истории.
Французские современники расценивали капитуляцию Абд-аль-Кадира как событие, бесповоротно покончившее с независимым существованием алжирского народа, открывающее эпоху «французского Алжира». Предшествующая деятельность эмира рассматривалась лишь как досадная помеха, задержавшая наступление этой эпохи и не оставившая никаких глубоких следов, которые могли бы в будущем повлиять на развитие страны. Несмотря на некоторое сожаление по поводу «уступок», сделанных эмиру, в целом французская печать в ликующем тоне комментировала его пленение. Парижский «Монитор» писал 3 января 1848 года:
«Покорение
Абд-аль-Кадира является для Франции
событием огромного значения. Оно
закрепляет результаты нашего
завоевания. Оно позволяет намного
сократить количество денег и
солдат, которые мы столь многие
годы посылали в Африку. Оно само по
себе увеличивает силу Франции в
Европе.
Теперь Франция может в случае необходимости посылать в другие части света сотни тысяч человек для подчинения народов ее господству».
В эту эпоху дули попутные ветры для колониализма. Кто мог тогда предположить, что ветры эти могут перемениться? Кто мог подумать, что из семян, посеянных Абд-аль-Кадиром, взрастет в будущем буря, которая сметет колониализм в Алжире?
Но все это будет потом, много десятилетий спустя. А пока завоеватели упивались победой. Пока они пожинали плоды собственного колониального посева. В их распоряжении была богатейшая страна, населенная трудолюбивым народом. Страна, расположенная рядом с Францией и потому чрезвычайно удобная для колонизации. Страна, географическое положение которой делало ее отличной базой для расширения колониальных захватов в Африке-и на Ближнем Востоке.
Правда, за это приобретение пришлось заплатить немалую цену. По мнению одного французского историка, «для того, чтобы одержать победу над Абд-аль-Кадиром, Франция пожертвовала 40 тысячами французов». С 1832 по 1847 год метрополия истратила на войну в Алжире огромную по тому времени сумму — миллиард франков.
Но уже в ходе войны эта плата была возмещена сторицей. По осторожным подсчетам историков только в долине Шели-фа — самом густонаселенном районе страны — была уничтожена шестая часть местного населения. У алжирцев отняли плодородные земли. К моменту капитуляции Абд-аль-Кадира французы захватили примерно 20 миллионов баранов, около 4 миллионов голов крупного рогатого скота, почти миллион верблюдов.
Но завоеватели тогда не склонны были заниматься сведением колониальных балансов. Они предвкушали доходы, по сравнению с которыми выгода от военных грабежей и реквизиций выглядела жалкой и ничтожной. Им не хотелось оглядываться в прошлое, их манило будущее. В этом будущем не было места их знаменитому пленнику. Он был все еще опасен для колонизаторов. Он был все еще олицетворением надежды для алжирцев. Именно поэтому колониальная буржуазия выражала недовольство условиями капитуляции. Она предпочла бы вовсе отделаться от эмира.
Но слово есть слово. Оно было дано от имени державы-победительницы. Оно было дано человеку, который добровольно сложил оружие. Об условиях капитуляции стало известно оппозиции в метрополии и европейской либеральной печати. Так или иначе слово надо было сдержать, чтобы не потерять лицо.
Абд-аль-Кадир, отдавшись в руки врага, ожидал от победителей честного выполнения принятых ими обязательств. Сам он дал обещание навсегда отказаться от участия в войне против Франции — эмир был человеком окончательных решений и прямых поступков, всякая двусмысленность претила ему. Для него просто невозможно было не сдержать своего слова. И когда на этот счет французы выражали сомнение, он только отвечал: «Я был на могиле пророка, поэтому мое слово свято». (По древней традиции, мусульманин, посетивший гробницу Мухаммеда, должен соблюдать ряд ограничений, в том числе никогда не лгать.)
Характер эмира не изменился в несчастье. И в плену, даже в первые, самые тягостные дни, он неизменно оставался самим собой. И в роли побежденного Абд-аль-Кадир сохранял невозмутимость духа и спокойное достоинство уверенного в себе человека. Это больше всего поражало пленивших его французских генералов. Герцог Омальский писал военному министру Франции:
«Я не могу скрыть от Вас то большое впечатление, которое проязвели на меня достоинство и простота этого человека, игравшего такую большую роль и претерпевшего столь тяжкое крушение. Ни одной жалобы, ни одного слова сожаления! Единственная просьба, высказанная им, касалась участи людей, которые ему служили... Я заверил его в том, что прошлое будет совершенно забыто».
А вместе с тем герцог заверил Абд-аль-Кадира в том, что Франция неукоснительно выполнит свои обещания. Пусть эмир не беспокоится на этот счет. Пусть он готовится к отъезду к святым землям Аравии. «Необходимо только, — рассказывал впоследствии об этой беседе сам эмир, — чтобы пароход, на котором меня отправят, задержался на некоторое время в Тулоне. Я на это охотно согласился, ничего не подозревая и полагая, что это нужно для подготовки к продолжению путешествия на Восток».
25
декабря 1847 года Абд-аль-Кадир
вместе со своей семьей и
последователями, пожелавшими
разделить его судьбу, отплыл из
Алжира во Францию. Стоя на палубе
французского парохода, он
всматривался в подернутые голубой
дымкой горы Алжира. Он видел их
последний раз. Ему не суждено было
вернуться на родину.
ИТОГИ
Почетный узник
Слово сдержано не было. Заверения оказались лживыми, обещания — невыполненными. Тулон стал не перевалочным пунктом для продолжения пути на Восток, а первым местом тюремного заключения Абд-аль-Кадира. Сразу же по прибытии он со всем своим окружением был водворен в тулонский форт Ламальг. Эмир был лишен свободы передвижения и переписки. Ему дозволялись лишь кратковременные прогулки под наблюдением стражи на тюремном дворе. Его протесты отказались выслушать. Его письменные жалобы лежали без движения в канцелярских столах. Тюремные власти предложили ему ждать правительственного решения о его дальнейшей участи.
Правительство же не собиралось выпускать Абд-аль-Кадира из Франции. Но ему не хотелось также давать оппозиции повод для нападок и терять лицо в глазах европейского общественного мнения. Надо было найти хотя бы по видимости достойный выход. И такой выход был найден. «Королевское правительство, — заявил Гизо в палате депутатов, — знает, как примирить то, что связано с нашей честью в отношении побежденного врага, с тем, чего требуют государственные интересы Франции».
Когда правительственный посланец полковник Дома изложил узнику эту позицию Франции, эмир никак не мог взять в толк, что это за государство, которому надо примирять свои интересы с собственной честью. Здравый смысл говорил ему, что здесь речь идет либо о бесчестных интересах, либо о чести, которая не представляет интереса для государства. Поэтому исходящее из этого подхода предложение правительства поселиться во Франции и жить в полном довольстве на государственном обеспечении эмир, естественно, нашел оскорбительным для себя. Принять его — значило изменить самому себе. Ибо выполнение обязательства, взятого Францией, было его собственным условием сдачи в плен.
Взяв в руки полу своего бурнуса и подойдя к окну, которое выходило на море, Абд-аль-Кадир сказал полковнику Дома:
«Если бы по поручению Вашего короля Вы принесли мне сюда все богатства Франции, заключенные в золоте и драгоценностях, и если бы их можно было поместить в мой бурнус, я бы скорее выбросил их в море, которое омывает стены моей тюрьмы, чем вернул вам слово, которое вы столь торжественно дали мне. Это слово я унесу с собой в могилу. Я ваш гость. Сделайте меня вашим узником, если хотите, но позор и бесчестие будут лежать на вас, а не на мне».
Эмиру непонятно, почему представители великой державы пускаются на низкий обман и мелкие увертки по отношению к беззащитным пленникам. Он пытается найти объяснение во французских книгах и газетах. Но они ввергают его еще в большее недоумение. Аллах только может разобраться в том, что творится во Франции. Министры и высшие сановники предаются суду за взяточничество и подлоги. Депутаты устраивают банкеты, на которых обличают существующие порядки. На площади Парижа выходит народ, который самого короля называет грабителем и мошенником. В конце февраля 1848 года на парижских улицах возникают баррикады. На сцене появляется старый знакомый эмира — маршал Бюжо, который назначается главнокомандующим вооруженными силами Парижа, Но покоритель Алжира оказывается бессильным перед безоружными толпами парижского люда. Король Луи-Филипп отрекается от престола и тайком бежит в Англию. 25 февраля Франция провозглашается республикой.
Действительный смысл бурных февральских событий скрыт от эмира. Но он видит, что они проходят под высокими лозунгами борьбы против тирании. На знаменах восставших начертаны благородные слова: «свобода, равенство, братство». Абд-аль-Кадир полагает, что эти слова станут выражением истинной сути новой государственной власти. Он обращается к республиканскому правительству с письмом:
«...Меня уведомили, что французы по общему согласию устранили монархию и провозгласили свою страну республикой. Эта весть вселила в меня надежду, ибо из книг я знаю, что республиканская форма правления имеет своей целью искоренение несправедливости и защиту слабых от угнетения сильными. Поэтому вы должны быть великодушны. Ведь вы желаете добра для всех, и ваши действия должны быть проникнуты духом справедливости...
Я
рассматриваю вас как моих
естественных покровителей,
устраните же покров горя,
наброшенный на меня. Я ожидаю
справедливости из ваших рук. Никто
из вас не может осудить меня за то,
что я сделал. Я только защищал свою
родину и свою религию и убежден, что,
как благородные люди, вы можете
лишь приветствовать это...»
Письмо передается по назначению. 13 марта к Абд-аль-Кадиру является официальный представитель, который интересуется, в чем эмир испытывает нужду.
— В свободе, — отвечает он, — я не должен находиться в тюрьме.
Через месяц Абд-аль-Кадиру вручают послание правительства. В нем говорится: «Французский народ великодушен. Он никогда не карает побежденного. Ты, твоя семья, твои близкие убедитесь в том, что Франция достойно относится к поверженным врагам».
Эмиру предлагают дать письменное обязательство никогда не возвращаться в Алжир. Абд-аль-Кадир дает такое обязательство, надеясь, что теперь-то уж ему позволят отправиться на Восток. Но изменение, формы государственной власти ничуть не изменило колониальной, политики французской буржуазии. Ее отношение к Абд-аль-Кадиру осталось прежним. Чтобы успокоить эмира, ему сообщают о переговорах, которые якобы ведутся с турецкими и египетскими властями относительно его поселения в каком-либо из мусульманских городов, и надо ждать их завершения. На самом деле же французское правительство просто оттягивает своё решение.
Вместо того чтобы выполнить условия соглашения о капитуляции, эмира отправляют в новое место заключения. 23 апреля 1848 года узников переводят в Шато де По. Замок круглосуточно охраняется часовыми. Окна второго этажа, где разместили алжирцев, зарешечены. Положение пленников ухудшилось. Им заявили, что в близком будущем ни о каком выезде за пределы Франции не может быть и речи. Республиканское правительство сняло с себя всякую моральную ответственность за те обязательства, которые взяло на себя перед эмиром правительство короля. Новые власти унаследовали Абд-аль-Кадира в качестве узника, которому они ничего определенного не обещали. Так в чем же дело? Эмир, мол, не имеет теперь никакого основания требовать выполнения старого соглашения.
Абд-аль-Кадир больше не обманывается иллюзиями насчет республики. Он пишет с горечью правительству: «Есть ли во Франции суд, на который возложена обязанность выслушивать жалобы несправедливо наказанных? Соберите всех ваших улемов, и я докажу им свои права. Нет, Республика далеко не подобна тому султану, который, оглохнув, горестно зарыдал и который, когда его спросили о причине его стенаний, ответил: «Я плачу оттого, что больше не могу слышать жалобы бедствующих и страдающих».
Надежда на освобождение снова возникает у эмира, когда он узнает, что у кормила верховной власти во Франции стали генералы, с которыми он воевал в Алжире. В прошлом они не раз уверяли его в своей солдатской верности данному слову. В июне 1848 года генерал Кавиньяк получил полномочия диктатора. Генерал Ламорисьер — тот самый, которому сдался Абд-аль-Кадир, — стал военным министром. Генерал Бедо возглавия министерство иностранных дел. Но когда Абд-аль-Кадир увидел, как эти генералы обращаются со своим собственным народом, его надежды на выполнение генеральских обещаний поумерились. В конце июня Кавиньяк потопил в крови восстание парижских рабочих. В течение двух дней было убито 11 тысяч человек. Устраивая массовое побоище в пролетарских районах Парижа, эта генералы подчинялись тем же силам, которые заставляли их устраивать «выкуривания» в горах Алжира.
Военный министр Франции Ламорисьер даже не удосужился ответить на письмо Абд-аль-Кадира, в котором эмир писал: «Все мне теперь говорят, что я вправе считать себя уже свободным, потому что тот, кто дал мне слово, достиг такого высокого положения, что с ним никто не может сравниться в могуществе...»
Наконец эмиру прямо сказали о действительной причине отказа Франции выполнить свои обязательства. Представитель правительства Араго заявил Абд-аль-Кадиру: «Мы опасаемся, что вы хотите вернуться на родину. Но до тех пор, пока у нас будут основания предполагать, что ваше присутствие в Алжире может вызвать беспорядки, вы туда не попадете».
Это фактически означало, что Абд-аль-Кадиру предложили примириться с бессрочным проживанием во Франции. Ему не хотели верить. Его все еще боялись. В ноябре 1849 года эмира и его спутников переводят в замок Амбуаз, который становится постоянным местом их заключения. Алжирцы, впитавшие с материнским молоком любовь к вольным просторам своей родины и оторванные от взрастившей их среды, тяжело переносят заточение в стране, где все чуждо им. «Мы никогда не привыкнем здесь жить, — пишет эмир, — один только климат сведет нас в могилу».
Во Франции умерли сын, дочь и племянник Абд-аль-Кадира. В тюрьме он потерял нескольких своих соратников, скончавшихся от болезней. Сознание ответственности за участь своих спутников, добровольно последовавших за ним в изгнание, особенно мучительно для эмира. Доведенные до отчаяния, узники предлагают ему самоубийственный выход: напасть на вооруженную стражу и погибнуть в бою. Об этом заговоре узнают тюремные власти и доносят о нем в Париж. Во избежание скандала правительство предоставляет всем спутникам Абд-аль-Кадира право уехать из Франции в любую мусульманскую страну. Эмир просит их воспользоваться этим правом. Но они отказываются, оставаясь и в несчастье до конца преданными своему вождю.
История знает немало разного значения деятелей, которые в расцвете сил волею судьбы или случая были сброшены с высот могущества и славы. Редко кто из них не воспринял крах своей карьеры как крушение жизни потому, видно, что, говоря словами Абд-аль-Кадира, «честолюбие слишком часто ослепляет сердца людей». Только очень сильные духом люди сохранили цельность своей личности и способность жить не прошлым, а настоящим.
Абд-аль-Кадир принадлежал к числу таких людей. «Ом сохранил ощущение живой связи времен в «собственной жизни. Прошлое для него было только прожитым. Настоящее не стало бесконечно переживаемым минувшим. Эмир не посыпал себе голову пеплом. Глубоко сожалея о неудавшемся деле, он не стенал о неудавшейся жизни. Конец одного пути был для него началом другого, одинаково достойного и даже более желанного, чем прошлый. «Я не был рожден для того, чтоб стать воином, — говорил Абд-адь-Кадир, — мне кажется, я не должен был бы быть солдатом и одного дня. И тем не менее всю свою жизнь я провел с оружием в руках. Неисповедимы шути провидения! Только благодаря непредвидимому стечению обстоятельств я вдруг оказался сбитым в сторону от пути, указуемого моими наклонностями и образованием, пути, на который я теперь хочу ступить…»
Относясь с философским спокойствием к тяготам тюремной жизни, эмир отдает почти все свое время ученым и литературным занятиям. Многие часы он проводит в одиночестве за своими книгами и рукописями. Лишь дважды в день спускается эмир из своей комнаты в большой зал, чтобы вместе со всеми узниками сотворить молитву или произнести для них проповедь. Как на свободе в былые времена, он и в заключении ничем внешне не выделяется среди своего окружения. Он отказывается от всяких привилегий, предоставляемых ему тюремными властями, ведь они не распространяются и на его товарищей по несчастью. В отношениях с людьми Абд-аль-Кадир всегда внимателен, спокоен, доброжелателен.
В заточении эмир пишет богословское сочинение «О единстве бога», в котором он излагает свое понимание сущности религии. В своих религиозных воззрениях Абд-алъ-Кадир близок к тем школам в мусульманской философии, которые пытались найти золотую средину между религией и наукой, разумом и верой, догмой и свободной мыслью. Стремясь примирить религиозную веру и разум, он сводит их к единой божественной основе. Вера стоит выше разума, но, поскольку и то и другое исходит от бога, между ними нет противоречия, они взаимно согласуются и оплодотворяют друг друга. Делая уступки рационализму, Абд-аль-Кадир в то же время признает единственной реальностью существование творца, лишь видимость которого является нам в современном мире. Чтобы приблизиться к познанию его сущности, надо отрешиться от видимости, сбросить телесную оболочку, уничтожить свою личность, слившись воедино с вездесущим божеством.
Из этого пантеистического представления о мире, существующем в боге, Абд-аль-Кадир производит понятие о единстве религии. Отсюда его веротерпимость, хотя ислам, по его убеждению, составляет вершину религии. «Начиная от Адама и Мухаммеда, среди пророков не было разногласий относительно основ и принципов религии. Закон Моисея был практичным, поскольку он предписывал верующим правила поведении; закон Иисуса был духовным: он провозглашал отречение от мирского и любовь к небесному; закон Мухаммеда соединил в себе и первое и второе...
Религия едина, именно это признавали пророки; они расходились только в частностях. Если бы мусульмане и христиане обратили ко мне свой слух, я бы устранил Их расхождения, и они стали бы братьями...»
В этих размышлениях явственно проступает гуманистическое стремление Абд-аль-Кадира к вселенскому братству людей. Облеченное в религиозный покров, — иначе эмир не мог мыслить, он оставался человеком восточного средневековья, — это стремление имело не религиозные, а мирские мотивы. В отличие от многих мусульманских мыслителей Абд-аль-Кадир видел в мирном общении с современной европейской цивилизацией благотворные возможности для восточных народов. Он сознавал научно-техническое превосходство Европы и надеялся, что настанет время, когда европейцы будут посылать на Восток не генералов и пушки, а машины и инженеров. Несмотря на все те беды, которые обрушили на его народ французские властители, он не озлобился на французов и не проклинал Францию. Он предостерегал от слепой ненависти к врагу, ибо, по его словам, «нельзя судить Францию по одному моменту».
Отношение Абд-аль-Кадира к европейской цивилизации вообще и к французской культуре в особенности стало в последующие годы традиционным для ведущих сил в национально-освободительном движении Алжира. Спустя сто лет, в самый разгар народной войны за независимость, алжирцы будут заявлять:
«Реки крови разделяют две страны, но трезво рассуждающие патриоты отдают себе отчет, что, помимо нынешних препятствий и преступной политики французских правителей, имеются высшие интересы обоих народов, к которым следует прислушиваться. Франция может помочь молодой Алжирской республике в технической, экономической и культурной областях».
Когда произносились эти слова, в мире уже возникли условия для осуществления былых надежд Абд-аль-Кадира. Однако в его время эти надежды были всего лишь прекраснодушными мечтаниями, к которым сам эмир относился довольно скептически. Он, разумеется, не мог предвидеть последующего развития событий. Эмир не верил в то, что иностранное господство в Алжире будет вечным. Но он и не видел в своей эпохе реальных путей для победы над колонизаторами и создание независимого алжирского государства. Поэтому, когда французы интересовались его мнением, о колониальном управлении Алжира, он отвечал: «Мой совет легко и просто претворить в жизнь. Следуйте моему примеру: управляйте только по закону, и вы преуспеете».
В заточении Абд-аль-Кадир, как и в период алжирской войны, привлекал живое внимание общественности во Франции и в других европейских странах. Интерес к нему даже возрос. В немалой мере это было вызвано возмущением либеральных кругов недостойным обращением с эмиром французского правительства, грубо нарушившего свои обязательства. Требования об освобождении эмира особенно громко звучали в Англии, что, впрочем, объяснялось не столько любовью к справедливости, сколько старым англо-французским соперничеством в колониальном мире. В январе 1849 года лондонская «Таймс» писала: «В момент капитуляции эмиру могли бы быть предъявлены более жесткие условия; но коль скоро слово дано, честь французской нации зависит от того, будет ли оно сдержано».
Большой интерес европейцев вызывает и сама личность Абд-аль-Кадира, которая, по свидетельству современника, «привлекает своим возвышенным духом, чистотой и силой характера, благородством чувств и оригинальностью мысли». Выходят книги о жизни эмира. Его образом вдохновляются поэты и художники. Английский поэт Мэйдстоун написал о нем огромную эпическую поэму в несколько тысяч стихов, изданную в Лондоне в 1851 году. Во Франции Абд-аль-Кадир стал «модным человеком». Чуть ли не ежедневно к нему являются с визитами журналисты, офицеры, политические деятели.
Эмира навещал профессор истории Вуньяр, который подарил ему перстень с камнем, осколком от гробницы Наполеона на острове Святой Елены. Известный дипломат и делец Фердинанд Лессепс, организатор строительства Суэцкого канала, посетивший Абд-аль-Кадира, говорил с ним об экономическом развитии Африки. С бывшим епископом Алжира эмир обсуждал богословские проблемы. Французские офицеры толковали с ним о военных делах. Многие из них были обязаны эмиру своим продвижением по службе. А'бд-алъ-Кадир говорил: «Во французской армии есть немало офицеров, которые должны быть благодарны мне: если бы не война со мной, многие полковники до сих пор остались бы капитанами, а генералы — полковниками».
Вывали в гостях у эмира и любопытствующие светские дамы. Одна из них спросила у него:
«— Почему мусульмане имеют много жен, а не одну, как принято у нас во Франции?
— Потому, — ответил Абд-аль-Кадир с галантной иронией, — что мы любим одну за ее глаза, другую — за ее губы, третью — за ее тело, четвертую — за ее сердце или характер. Если бы мы нашли все это в одной женщине, примером которой можешь быть ты, то не стали бы больше искать других».
Однако не всех визитеров влек к эмиру искренний интерес к человеку большого ума и своеобычного характера. Большинство слеталось «на знаменитость». Группе посетителей, которые начали расточать ему комплименты, Абд-аль-Кадир сказал с деликатной прямотой:
«Я вижу вокруг себя добрых и благожелательных людей, любезно выражающих хвалу тем немногим хорошим качествам, которыми небо наградило меня; но боюсь, что среди вас нет истинного друга, указавшего бы мне на мои недостатки, которыми я наделен в гораздо большей мере, чем достоинствами».
В конце концов неумеренно частые визиты стали слишком докучать эмиру, и он попросил тюремное начальство ограничить их число.
В период пребывания Абд-аль-Кадира во Франции возникает новый миф о нем, искажающий его личность и до сих пор бытующий в официальной французской историографии. Если во время войны его порочили как государственного и религиозного деятеля, то во время и после заточения стали извращать истинный смысл его отношения к победителям, изображая эмира чуть ли не приверженцем французского колониализма. При этом использовался тот же прием, что и прежде, только теперь французские авторы выступали не в роли врагов, а в облике друзей или даже поклонников Абд-аль-Кадира.
Миф о туземном разбойнике уступил место мифу о просветленном туземце. Если в прошлом эмира поносили за религиозный фанатизм, то теперь стали восхищаться его веротерпимостью, возникающей, понятно, под влиянием французских покровителей. Об этом говорится, например, в «Истории Алжира», изданной в 1962 году в Париже, равно как и в десятках других книг, написанных ранее. Из врага цивилизации он вдруг превратился в ревностного ее поборника, из воинственного вождя — в благолепного миротворца.
Более того, были даже сделаны попытки вообще отлучить Абд-аль-Кадира от алжирского народа и представить его... национальным героем Франции. Полковник П. Азан в предисловии к своей книге об эмире так прямо и пишет: «В действительности он принадлежит Франции; он останется крупной фигурой в ее истории, так же как Верцингеторикс, который, подобно Абд-аль-Кадиру, боролся против латинян».
Материалом для этого мифического преображения Абд-аль-Кадира послужили мемуары общавшихся с ним французов и обширная переписка эмира с французскими военными, политическими и религиозными деятелями. Едва ли стоит стыдливо умалчивать, как это делают некоторые авторы, питающие искренние симпатии к эмиру, о тех местах в этих свидетельствах, где можно усмотреть в его отношении к бывшим врагам смирение, почтительность, даже приниженность. Но только в том случае, если навязать эмиру чуждые ему нормы нравственности. Если же исходить из конкретных исторических условий и особенностей характера Абд-аль-Кадира, то его отношение к победителям предстанет совершенно в ином виде — таким, каким оно было в действительности.
Оставим в стороне сотни раз повторенные описания того, как Абд-аль-Кадир склонялся, чтобы целовать руку Наполеону III в знак признательности за то, что французский правитель освободил его из тюрьмы. Это была для мусульманина обычная и вполне пристойная форма изъявления благодарности, и чувство неловкости вызывают здесь только те просвещенные европейцы, которые умиляются этому обычаю или смакуют его в своих описаниях. Но суть дела не в этом. И чтобы уяснить ее, надо разграничить те две разнородные системы нравственности, которые соприкоснулись во взаимоотношениях побежденного (только в войне и ни в чем другом) с победителями. Лишь после этого можно будет установить истинный смысл того неравенства, которое наличествовало в этих отношениях.
Абд-аль-Кадир был представителем общества, в котором отношения собственности еще не разрушили естественные связи между людьми. Эти связи основываются еще не на богатстве и социальном положении человека, а на его личных качествах. Человеческая связь в общении между людьми преобладает над вещной связью. Человек здесь равен или не равен перед человеком, а не перед законом, установленным государством и закрепляющим фактическую иерархию собственников. К. Маркс, находившийся весной 1882 года на излечении в Алжире, обращает на это внимание в своих письмах. В апреле он пишет Лауре Лафарг: «В самом деле, мусульманское население не признает никакой субординации: они не считают себя ни «подданными», ни «управляемыми», никаких авторитетов.,.» Несколько дальше К. Маркс подчеркивает: «У них абсолютное равенство в социальном общении — совершенно естественное...»[8]
Оттого, что Абд-аль-Кадир оказался в стране, где естественные человеческие связи были подчинены отношениям собственности, он не изменился в общении о людьми, хотя эти люди, со своей стороны, и общались с ним согласно правилам, принятым в мире вещных или денежных связей. Он жил в мире людей. Высшей мерой отношения эмира к человеку служили личные его свойства, а не общественное положение. Абд-аль-Кадир был сторонником полного социального равенства — В той его форме, которая существовала в религиозных общинах раннего средневековья. В своих идейных воззрениях он признавал лишь то неравенство, которое проистекает из естественных различий между людьми и существует не в материальной, а только в духовной области. В философском трактате «Призыв к умному, назидание невежественному», написанному уже после того, как он покинул Францию, эмир спрашивает: «Как можно отрицать неравенство людей в том, что касается духа? Если бы оно не существовало, их бы не различали по способности в постижении наук. Людей не подразделяли бы на «глупых», которым науки даются только после долгих усилий наставника, «умных», постигающих их с меньшим трудом, и «совершенных», которые схватывают суть вещей без наставлений учителя».
Абд-аль-Кадир был аристократом духа. Только в пределах духовного признавал он иерархию. Только там, по его убеждению, оправдано неравенство, предвечно установленное самой природой или всевышним. Неравенство же, сотворенное обществом, несправедливо и бесчеловечно.
А вот как понимали равенство те, кто пытался направить эмира на путь истинный. Маршал Бюжо, пытаясь склонить его к отказу от стремления покинуть Францию, писал ему: «Я хотел бы, чтобы Вы решили принять Францию как свою вторую родину и попросить правительство пожаловать Вам собственность с правом передачи ее Вашим наследникам. Вы бы, таким образом, заняли положение, равное тому, которым пользуются самые влиятельные люди в нашей стране, и могли бы свободно исповедовать свою религию и воспитывать своих детей в соответствии с Вашими желаниями».
Слова маршала обнаруживают систему нравственности, противоположную той, о которой речь шла выше. Это — плебейская система, это — нравственность собственника и эгоиста, чуждая эмиру и совершенно неприемлемая для него. «Даже все сокровища мира я не променял бы на свободу, — ответил он Бюжо. — Я не требую ни милости, ни покровительства. Я требую одного: выполнения данных мне обязательств».
Здесь перед нами диалог между плебеем и аристократом духа. И если последний соглашался вступать в этот диалог и даже называл в письмах своего собеседника «другом» и «великим деятелем», то это проистекает, как и в других подобных случаях, из личных свойств эмира, а никак не из почтения перед высоким общественным положением его корреспондента. Он видел в человеке прежде всего человека. Он мог вступать в общение с людьми — кем бы они ни были — только на основе равенства. С соотечественниками это получалось, естественно, само собой. Чтобы уравняться в общении с победителями, ему приходилось либо возвышать их, либо снисходить до их уровня. Именно эмир снисходил до них, а не наоборот, как это представляется во множестве французских книг.
Абд-аль-Кадир был великодушен. Его характер был свободен от мстительности, злобливости, обидчивости. Он не страдал ни высокомерием, ни тщеславием. Ему было жаль людей, которые ради корысти идут на низость. Он даже сочувствовал тем, которые поступали с ним несправедливо и вероломно. По словам современника, в общении с ними «он пытался освободить их от бремени предательства и позора».
Сострадая им, он не становился в позу праведника и моралиста, соизмеряющего человеческие поступки с некими отвлеченными принципами добра и зла. Он жалел их так, как жалеют от природы неполноценных людей. Это сострадание естественно излучалось из самого характера Абд-аль-Кадира, а отнюдь не из его религиозности, как можно было бы предположить, если бы он был христианином. Идеи жертвенности, искупления, всепрощения, образующие христианские нормы нравственности, чужды исламу, в котором эти нормы основываются на патриархальных нравах племенных общин.
Был в подходе эмира к общению с бывшими врагами и элемент той глубокой скептической иронии, которая бывает свойственна философски устроенным умам и которая проистекает из осознания бренности мирской суеты.
«Дом строится для того, чтобы разрушиться, человек рождается для того, чтобы умереть», — говорил Абд-аль-Кадир.
Склоняясь перед победителями, эмир не унижался и не хотел унизить их. Он просто пытался общаться с ними «на равных». Эмир не мог знать, — кто упрекнет его в этом?! — что представители нового для него мира обрели бы способность к естественному человеческому общению только тогда, когда весь этот мир был бы опрокинут.
Чем ничтожней был перед ним человек, тем ниже приходилось Абд-аль-Кадиру наклоняться. Самые низкие поклоны достались на долю Наполеона III. Авантюрист, интриган, человек без чести и совести, он, как раз в силу своего ничтожества, смог оказаться на вершине государственной власти. Беспринципность методов, социальная демагогия, политическое мошенничество сделали Луи Бонапарта, натужно пародировавшего своего великого дядю, фигурой, временно подходящей для большинства мелкой и крупной буржуазии, армии и части рабочих. Благодаря этому, как писал К. Маркс, «самый недалекий человек Франции получил самое многостороннее значение. Именно потому, что он был ничем, он мог означать все, — только не самого себя»[9].
В 1848 году Луи Бонапарт был избран президентом Франции. 2 декабря 1851 года, распустив национальное собрание, он произвел государственный переворот, который открыл ему дорогу к императорскому трону.
В октябре 1852 года Бонапарт отправляется в поездку по Франции. Он ищет популярности. Ему нужно подготовить французов к реставрации монархии. Он изворачивается и лавирует в своих речах, по мере надобности меняя и переиначивая их политический смысл. За ним следует целая свора советников, следящих за тем, чтобы их многоликий подопечный не сорвал игру. «Они, — пишет К. Маркс, — вкладывали в уста своей марионетки слова, которые, смотря по приему, оказанному президенту в том или другом городе, означали бы — в качестве девиза политики президента — или республиканское смирение, или выдержку и настойчивость»[10].
В этой-то поездке Бонапарт наряду с другими демагогическими жестами объявляет и об освобождении Абд-аль-Кадира. По настоянию своих советников он даже прибывает 16 октября в замок Амбуаз, чтобы лично известить эмира о своем благодеянии. Представление было тщательно подготовлено, выгоды учтены, последствия предусмотрены. Восстанавливая справедливость, президент, увеличивает свою популярность, опорочив заодно предыдущее правительство; связывает благодарностью эмира, что важно для колониальной политики; повышает свой престиж в Европе. А речь-то идет веего-навсего о перемене места ссылки Абд-аль-Кадира.
«В течение долгого времени, — читает Бонапарт заранее заготовленную речь, — Ваше заточение вызывало во мне подлинную боль, ибо оно» беспрестанно напоминало мне о том, что предшествующее: мне правительство не выполнило обязательств, взятых на себя перед поверженным врагом: в моих же глазах нет ничего более унизительного для правительства великой наци», чем злоупотребление силой в целях нарушения своих обещаний. Великодушие — всегда лучший советчик, и я убежден, что Ваше пребывание в Турции не вызовет нарушения спокойствия в наших владениях в Африке.
Ваша религия, как и наша, признает покорность перед указаниями Провидения. Если Франция господствует над Алжиром, то только потому, что этого хотел Бог, и наша нация никогда не откажется от этого завоевания».
Расчеты советников президента оправдались. От Абд-аль-Кадира скрыт истинный смысл происходящего. Он не видит ни обмана, ни лицемерия, заключенных в словах Бонапарта. Он видит перед собой первого облеченного высокой властью француза, который поверил ему, признал несправедливость, выполнил данное ему некогда обещание. Растроганный узник целует руку своего освободителя, выросшего, наверное, в этот момент в собственных глазах до высоты подмышек своего великого дяди, но в действительности оставшегося тем, чем он был, — ничтожеством, с которым Абд-аль-Кадиру не удалось бы уравняться, даже если бы эмир пал перед ним ниц. Но эмир видит в нем иного человека, которому он и пишет спустя некоторое время:
«Вы поверили в меня, Вы не вняли словам тех, кто сомневался во мне, Вы предоставили мне свободу, и я Вам торжественно клянусь именем Бога и его Пророков — это наивысшая клятва, которую только может дать мусульманин, — в том, что я не сделаю ничего такого, что подорвало бы проявленное Вами ко мне доверие, в том, что я не забуду Ваших благодеяний, и что я никогда не ступлю на землю Алжира. Когда Бог хотел, чтобы я воевал с французами, я делал это в меру своих сил, но когда Он пожелал, чтобы я прекратил борьбу, я покорился Его повелениям. Моя религия и мое высокое происхождение вменяют мне в закон держаться своих клятв и гнушаться обмана... Для человека с сердцем сделанные ему благодеяния — это цепи на шее».
Бонапартисты стремятся извлечь из фанта освобождения Абд-аль-Кадира как можно больше выгод для своего кумира. Приближался день плебисцита, который должен был решить судьбу республики во Франции. Использовалась любая возможность для возвеличивания Бонапарта. Изобретались всяческие трюки для подготовки его триумфа. В конце октября 1852 года алжирского эмира приглашают в Париж. Его возят по музеям и театрам, он наносит визиты министрам и высшим сановникам Франции. Бонапартистская давать бьет в литавры по этому случаю, превознося великодушие президента и его любовь к справедливости. На улицах Парижа за Абд-аль-Кадиром следуют толпы бонапартистов, выкрикивающих здравицы в честь своего вождя.
Луи Бонапарт дает в замке Сен-Клу помпезную аудиенцию эмиру. Пока Абд-аль-Кадир ожидал выхода президента, пришел час дневной молитвы. Невзирая на окружающую его толпу министров, генералов, чиновников, эмир становится на колени И совершает молитвенный обряд. После этого Абд-аль-Кадир вручает Бонапарту письменную клятву в том, что он никогда не попытается вернуться в Алжир.
Наибольшее впечатление в Париже на эмира произвела Национальная типография, в которой он побывал после посещения Дома инвалидов. Он сказал ее директору: «Вчера я видел пушки, которыми можно разрушать крепости и города, сейчас я вижу буквы, с помощью которых можно бороться с королями и свергать правительства».
По возвращении в Амбуаэ Абд-аль-Кадиру дают понять, что ему может быть предоставлена возможность принять участие в плебисците и что президент был бы этим доволен. У эмира нет никаких оснований для того, чтобы оплакивать конец республики, державшей его четыре года в тюрьме. Он обращается к властям с письмом, в котором просит разрешить ему участвовать в плебисците. Ему, конечно, идут навстречу и присылают в замок урну для голосования и 14 бюллетеней, которые распределяются среди его окружения. Абд-аль-Кадир отдает голос за своего освободителя, о чем в подобающем духе сообщает официальная печать. Ноябрьский плебисцит хоронит республику и возводит Бонапарта на трон. Эмира вновь привозят в Париж, и в день провозглашения империи, 2 декабря 1652 года, он одним из первых поздравляет Наполеона III, который ему отвечает: «Как видите, Ваш голос принес мне счастье».
Через
несколько дней Абд-аль-Кадир вместе
со своими родными и близкими
покидает Амбуаз и направляется в
Марсель, откуда 21 декабря 1852 года
он отплывает на фрегате «Лабрадор»
в Турцию, к новому месту изгнания.
Золотой
песок его дел
В Алжире Абд-аль-Кадир остался жить в сердцах и в сознании народа. Образ национального героя как бы отделился от своего носителя и обрел самостоятельное существование и независимую судьбу, питаемую не жизнью одного человека, а историей всего народа. Колонизаторы могли клятвенно обязать своего узника отказаться от попыток выступать впредь в роли алжирского вождя. Но они были совершенно бессильны добиться подобного обязательства от того, кто продолжал жить в памяти народной, оставаясь в течение многих десятилетий на передовых фронтах освободительной борьбы. Уже через год после пленения эмира его имя стало знаменем восстания на юго-востоке страны, в районе Бискры. Выступление племен возглавил Бу Зиан, который в юности был водоносом в городе Алжире, а затем служил в армии Абд-аль-Кадира. Еще в ходе войны он стал марабутом в оазисе Зааджа. После того как в Бискре :было создано Арабское бюро, Бу Зиан отказался повиноваться его приказам и призвал племена подчиняться только власти своих шейхов. Французы арестовали непокорного марабута. Население Зааджи взбунтовалось и освободило своего вождя.
В июле 1849 года повстанцы разгромили отряд полковника Карбучьи, который был послан на подавление восстания. В октябре к оазису подошла крупная колонна французских войск во главе с генералом Жобильоном. Захватить Зааджу с ходу не удалось. Оазис представлял собой городок в пустыне, окруженный садами и пальмовыми рощами. Он был защищен глубоким рвом и крепостными стенами. Более месяца длилась осада Зааджи, во время которой алжирцы отбили несколько попыток штурма. Только в конце ноября 1849 года осаждавшим удалось ворваться в крепость. Участник сражения описывает то, что произошло за этим:
«Резня была страшная. Дома, палатки туземцев, поставленные на площадях, дворы были завалены трупами. Сделанные потом в спокойной обстановке подсчеты были основаны на верных сведениях, полученных после захвата. Они дали цифру 2300 убитых женщин и детей; число же раненых было, понятно, незначительным...
Солдаты рассвирепели, так как в них стреляли с чердаков, из подворотен и с балконов, и, врываясь в дома, безжалостно резали всех, кто попадался им под руку. Вы сами понимаете, что во всей этой неразберихе, часто в темноте, им было не до различий пола и возраста. Они без предупреждения крошили налево и направо».
Во время осады и штурма крепости французское войско потеряло полторы тысячи человек убитыми и ранеными. Для восставших же захват Зааджи. окончился всеобщим истреблением: все защитники были перебиты, оазис уничтожен, все дома разрушены.
Но
вскоре восстание в Алжирской
Сахаре вспыхивает с новой силой.
Его возглавляет шейх Мухаммед-бен-Абдалла,
который использует имя Абд-аль-Кадира
для того, чтобы подвигнуть на «священную
войну» кочевые племена. В 1852 году
французы занимают главный центр
восстания оазис Лагуат, осада
которого была столь же
кровопролитной, как и штурм Зааджи.
Вождю повстанцев удается спастись,
и в 1854 году он вновь поднимает
кочевников Сахары на войну против
колонизаторов. Это восстание
закончилось захватом французами
оазиса Туггурта, где были
уничтожены основные силы
повстанцев.
С пленением Абд-аль-Кадира не прекратилось сопротивление колонизаторам горных племен кабилов. В 1851 году во главе народного движения оказался вождь Бу Вагла, который в течение нескольких лет успешно отражал натиск французов. В этой войне прославилась кабильская девушка Лелла Фатима, которая командовала муссеблинами — молодыми воинами, готовыми идти в бой, сулящий им верную смерть. В 1853 и в 1854 годах французы предпринимают две крупные экспедиции в Кабилию, которым, однако, не удается подчинить восставшие племена. В 1857 году алжирский губернатор маршал Рандон направляет против них 25-тысячную армию. Кампания длится два месяца. Колонизаторы одно за другим берут приступом укрепленные селения кабилов и в июле 1857 года завершают покорение этой горной страны.
Алжир, наконец, «умиротворен». Настало время для осуществления широких колониальных замыслов. Дорога для «цивилизаторов» была открыта. Вступая на эту дорогу, Наполеон III объявляет себя «императором арабов». «Алжир, — говорит он, — не колония в собственном смысле этого слова, а арабское государство». Он пытается превратить Алжир в нечто вроде вице-королевства, отменив в 1858 году военный режим управления и учредив министерство по делам Алжира и колоний. Министром назначается его двоюродный брат Жером. Императору не дают покоя лавры его дяди, делавшего некогда мировую политику. Племянник тщится повторить его в своей колониальной политике. Но из этого ничего, кроме жалкого фарса, не получается. Затея с вице-королевством сгнивает на корню. Уже в 1860 году император вынужден восстановить в Алжире генерал-губернаторство и прежний колониальный режим.
Наполеон III возвращается к двусмысленной и не имеющей четкого лица политике, вообще характерной для бонапартизма.
В 1865 году он пишет губернатору Мак-Магону: «Алжир — это арабское королевство, европейская колония и французский военный лагерь». В развитие этой установки издается закон, по которому алжирцы объявляются «французами». Однако им при этом не дано пользоваться правами французских граждан, которые мусульманин может получить только в том случае, если он обратится и властям с личной просьбой об этом.
«Этот закон, — пишет М. Эгрето, — отнюдь не означавший освобождения мусульманского населения Алжира от притеснений, ставил его в унизительное положение. Алжирские мусульмане провозглашались французами, но оставались подданными, т. е. людьми, лишенными всяческих политических прав. Чтобы получить французское гражданство (натурализоваться), они должны были отказаться от своего личного статута (мусульманства), иначе говоря, оторваться от естественного сообщества, к которому принадлежали. В этом свете понятно, почему мусульмане в своей массе никогда не соглашались на подобную сделку. В 1936 году на более чем 6 млн. алжирских мусульман приходилось только 7817 натурализовавшихся».
В период Второй империи число европейских поселенцев в Алжире удваивается и к 1870 году составляет почти 300 тысяч. Быстро плодятся колониальные компании и банки. Для них эта страна представляет интерес лишь как источник обогащения. Ограбление алжирского народа принимает невиданный в прошлом размах. Прежде всего колонизаторы накладывают руку на главное богатство страны — землю, чему находят подходящее юридическое обоснование. Аргументы? Вот они, изложенные в виде риторических вопросов историком М. Валем.
«Существовало ли в действительности право собственности в мусульманской стране? Не сказано ли в коране, что «вся земля принадлежит богу и его земному наместнику — султану»? Разве племенам не принадлежало только право пользования этими обширными пространствами земля, которыми они владели коллективно, без права передачи и отчуждения и из которых они эксплуатировали лишь ничтожную часть? И не являлось ли это право всюду, где туземное население не пользовалось ям, выморочным? Поэтому не законна ли оставить туземцам лишь ту землю, которую они в состоянии использовать, а остальную, бесплодную в их руках, отнять у них и передать людям, которые смогут извлечь из нее пользу?»
Захват земель, беспрестанные реквизиции, вымогательства я произвол офицеров Арабских бюро ставит коренное население на грань вымирания. Страшный голод и сопутствующие ему эпидемии, охватившие в 1867—1870 годах страну, уносят в могилу 500 тысяч человек — пятую часть населения. Алжирская деревня разорена. Феллахи пытаются найти спасение в городах. Но и здесь положение алжирцев не лучше. Капитан Куропаткин, путешествовавший по Алжиру в 1870 году, пишет:
«В общем туземный город производит тяжелое впечатление, очевидно, что коренные его обитатели — мавры обречены на вымирание. Некогда они были богаты своей торговлей и ручным производством предметов роскоши. Целые генерации, от отца к сыну и внуку, занимались одной какой-нибудь специальностью, например, отделкой золотом седел, золотошвейством, отделкой оружия и пр. С занятием Алжира французами торговля перешла в их руки, а медленный ручной труд туземца убивается мало-помалу машинным производством европейцев».
Подданные не хотели погибать. Подданные бунтовали. Восстания стихийные и не связанные друг с другом следовали одно за другим.
Самым крупным в 60-х годах было восстание племен улед-сид-шейх в юго-западной части Алжирской Сахары. В период существования государства Абд-аль-Кадира правитель этих племен Си-Хамза был союзником французов, которые назначили его халифом — звание, равноценное чину генерал-лейтенанта. Но после смерти шейха его молодой и честолюбивый сын Си-Слнман, вдохновленный примером знаменитого эмира, объявил французам «священную войну». В апреле 1864 года алжирцы уничтожили французский лагерь у Аин-бу-Бекра. Но победа досталась тяжелой ценой: в сражении погиб вождь восстания.,
Место Си-Слимана занял его брат Си-Мухаммед, призвавший бедуинов Сахары к войне против французов. К кочевникам присоединились племена, обитавшие в горной местности Джебель-Амур. Восстание быстро разрасталось и вскоре охватило часть Орании. Оно, было неожиданным для колонизаторов, которые к тому же располагали ограниченными силами: значительная .часть алжирской армии была отправлена в Мексику и Кохинхину для осуществления колониальных авантюр Наполеона III. Почти целый год французские генералы были озабочены лишь тем, чтобы оградить от восставших густонаселенные районы страны. Только в начале 1865 года колониальные войска двинулись в Сахару. После гибели Си-Мухаммеда в бою с французами в феврале этого года восстание начало затухать. Но окончательно оно было подавлено только в 1870 году.
Колониальные власти пытаются искоренить в народе представление об Абд-аль-Кадире как о борце за свободу и заменить его колониальным мифом об эмире. Офицеры Арабских бюро внушают племенам, что эмир стал приверженцем французского господства и чуть ли не ближайшим советником императора в алжирских делах. Но в Алжире в этот миф не верят. Слишком чужд он тому образу Абд-аль-Кадира, который живет в памяти народа. Слишком он неправдоподобен. Если такое превращение случилось с эмиром, то почему его не пускают в Алжир? Если он и впрямь подружился с Наполеоном III, то почему император держит своего друга вдали от родины?
Колониальный миф остался в ходу лишь в воображении официальных французских, историков, которые до сих пор обыгрывают его в своих трудах, а действительное влияние имени Абд-аль-Кадира на освободительную борьбу объясняют либо недоразумением, либо происками врагов Франции. Д'Эстейер-Шантерен пишет о событиях 1870 года в Алжире: «Используя славное имя Абд-аль-Кадира, немецкие эмиссары старались спровоцировать мятежи на алжирской территории».
В тот год имя Абд-аль-Кадира действительно все чаще звучало в Алжире, где назревало крупное восстание против колонизаторов. Но германские агенты были здесь ни при чем, хотя внешние силы и оказали большое влияние на развитие событий в стране.
В
сентябре 1870 года в Алжире стало
известно о Сёданской катастрофе, о
взятии немцами в плен Наполеона III и
о провозглашении во Франции
республики. Эта весть вызвала
энтузиазм в колонии среди
европейских рабочих, мелких и
средних колонистов, недовольных
Второй империей, которая в своей
колониальной политике всегда
отдавала предпочтение крупному
капиталу метрополии. В алжирских
городах происходили манифестации
европейцев в поддержку республики,
создавались демократические
организации, изгонялись со своих
постов чиновники-монархисты.
Позднее возникла Алжирская коммуна,
которая заявила, что «коммуналистическое
устройство является исконной
основой всякой демократии».
Алжирские коммунары были довольно далеки по своим взглядам от революционеров, основавших Парижскую коммуну. И когда в Алжире началось народное восстание, они отказались от борьбы против контрреволюции и поддержали кара тельные операции военщины. Советский историк В. Б. Луцкий писал:
«Французские мелкобуржуазные демократы и даже пролетарии в Алжире не понимали революционного значения национально-освободительной борьбы арабских народных масс. Основная ошибка французских революционеров заключалась в том, что они игнорировали национальный вопрос. Они забывали о том, что победа над контрреволюционной буржуазией в Алжире возможна только в союзе с массами коренного населения».
Военный крах Второй империи, революция в метрополии, брожение среди европейских колонистов ускорили взрыв национально-освободительной борьбы в Алжире. Восстание вспыхнуло в начале 1871 года и охватило обширные районы Кабилии и Сахары. Его возглавил крупный кабильский феодал Мухаммед аль-Мукрани, под властью которого находилось около 30 племен. В апреле 1871 года он заключил союз с Эль-Хададом, главой крупного религиозного братства Рахмания, объединившего более 200 племен. Под знамена «священной войны» встало свыше 100 тысяч вооруженных кабилов и арабов.
К лету 1871 года восстание распространилось почти на все восточные районы Алжира и значительную часть Сахары. От колонизаторов была освобождена территория с населением, составлявшим почти треть всех коренных жителей Алжира. В период восстания алжирцы выдержали более 300 сражений, большинство которых на первых порах приносило им победу. В одном из них в мае 1871 года был убит Мукрани. Во главе повстанцев встал брат убитого Ахмед Бу Мезраг, который успешно продолжал борьбу.
Французские оккупационные войска не могли подавить восстание собственными силами. Губернатор Алжира адмирал Гейдон посылал в метрополию панические депеши с просьбами о подкреплениях. Но правительство Тьера бросило все верные ему войска на разгром Парижской коммуны, которым, кстати, руководил бывший алжирский губернатор Мак-Магон. Перелом в ходе восстания наступил только после подавления революции во Франции. Летом 1871 года численность карательных войск была доведена до 85 тысяч. В июле французы в нескольких сражениях разбили главные силы повстанцев и взяли в плен вождей братства Рахмания. Бу Мезрат с остатками повстанческого войска ушел в Сахару. Он продолжал партизанскую войну до января 1872 года, когда французами были захвачены последние опорные пункты восстания — оазисы Туггурт и Уаргла.
Колониальные власти жестоко расправились с населением восставших областей Алжира. Десятки алжирских селений были сровнены с землей, тысячи повстанцев расстреляны или сосланы в Новую Каледонию, где они отбывали каторгу вместе с парижскими коммунарами. У племен, участвовавших в восстании, было отнято полмиллиона гектаров земли. Их заставили выплатить огромную контрибуцию в 36 миллионов франков... Племена были вконец разорены. От голода страдали огромные районы страны. Обличая колониальную политику правящих кругов Франции, Виктор Гюго писал:
Мы
сжали Африку железными тисками,
Там
весь народ кричит и стонет: «Дайте
есть!»
Вопят
Оран, Алжир — измученных не счесть.
«Вот,
— говорят они, — вся щедрость, на
какую
Способна
Франция: едим траву сухую»,
О,
как тут не сойдет с ума араб-бедняк?
С бонапартистской политикой заигрывания с арабами было покончено. Всякие разговоры об «арабском государстве» прекратились. Был отменен также и военный режим управления в районах с оседлым населением. Теперь Алжир стал только колонией, и ничем больше. Теперь колониальная буржуазия четко и недвусмысленно заявляла о своих целях. Один из ее идейных и политических вождей, депутат Эжен Этьен, писал:
«Идея родины зиждется на понятии долга, в то время как идея колонии может и должна быть основана исключительно на выгоде, которая одна лишь заставляет нацию осуществлять экспансию. Следовательно, к любому колониальному начинанию надо подходить с единственным критерием — степень его полезности, преимущества и выгоды, которые может извлечь метрополия.
Какова наша цель? Мы создали, и мы намереваемся сохранять и развивать колониальную империю, чтобы обеспечить будущее страны на новых континентах, обеспечить нашим товарам рынки, а нашу промышленность — источниками сырья. Это бесспорно.
Я должен заявить, что если есть оправдание, затратам и человеческим жертвам, которых требует создание наших колониальных владений, то оно заключается в надежде на то, что французский промышленник, французский торговец сможет направить в колонии избытки французского производства».
Правительство Третьей республики продолжает расширять колониальные владения в Северной Африке. В 1881 году французские войска вторгаются в Тунис. В это же время на западе Алжира, в Орании, начинается последнее крупное восстание алжирцев в XIX веке. Здесь, на родине Абд-аль-Кадира, его имя особенно популярно среди арабов. Он живет в легендах и народных сказаниях, к месту его рождения совершаются паломничества. Вождь восстания 1881 года Бу-Амама не только использовал имя Абд-аль-Кадира в своих призывах к войне против французов, но и заимствовал у эмира организацию войска и тактику боевых действий. Русский дипломат Орлов писал из Парижа в одном из своих донесений: «Бу-Амама может стать новым Абд-аль-Кадиром».
Но и французы не забыли «правильный метод Бюжо». Русский журналист Горлов, совершавший во время восстания поездку по Алжиру, писал в газете «Московские ведомости»: «В то время как я пишу эти строки, французы находятся в стране амуров. Они жгут все деревни, срубают все приносящие доход деревья, угоняют скот, убивая то, что не могут увести с собою, и расстреливают всех людей, которые попадаются им в руки. Поистине — это чисто тамерлановское побоище. Те из арабов, которые успевают уйти, бросаются в пустыню, но там гибнут от недостатка пищи; другие бегут в Марокко, но их братья, и без того бедные, не знают, чем их прокормить».
В начале 1882 года французские войска разгромили Оранское восстание, которое было последним в Алжире народным выступлением, развернувшимся под знаменем «священной войны». Хотя и в последующие десятилетия ислам неизменно будет занимать важное место в идеологии национально-освободительного Движения, само это движение примет открытый социальный характер и выступит в форме национальной революции. Но пока освободительная борьба находилась еще в переходном состоянии. Религиозный период окончился, революционный еще не наступил. Это подметил К. Маркс в том своем письме из Алжира, где он пишет о равенстве алжирцев в социальном общении:
«...что касается ненависти к христианам и надежды на конечную победу над этими неверными, то их политики справедливо рассматривают это самое чувство абсолютного равенства и существование его на практике (не по богатству или положению, а в смысле личного равенства) как гарантию того, чтобы поддерживать эту ненависть и не отказываться от этой надежды. (Однако без революционного движения у них ни черта не выйдет.)»[11]
Вступление освободительного движения в революционный период прежде всего зависело от развития национального самосознания алжирцев и достижения единства народа. Борясь за эти цели, алжирские патриоты всегда рассматривали деятельность Абд-аль-Кадира как одну из исходных исторических основ.
Символичным фактом является то, что первым алжирцем, который своим выступлением против колониализма открыл эпоху организованного политического движения за освобождение Алжира, был внук Абд-аль-Кадира эмир Халед. В 1920 году он основал патриотическую организацию «Молодой алжирец» — первую национальную партию в истории страны. В дальнейшем возник целый ряд алжирских политических организаций, выступивших против иностранного господства.
Решающий этап борьбы за независимость наступил после второй мировой войны. Теперь ветры истории изменили свое направление. Теперь они были попутными национально-освободительному движению. От былого оптимизма колонизаторов не осталось и следа. Корабль, на котором они находились, терпел крушение. Одна французская газета, издававшаяся в Алжире, так писала: «Когда горит дом, когда тонет корабль, не зовут страхового агента или учителя танцев. Для дома, для корабля наступает час пожарного, час спасителя. Для Северной Африки пробил час жандарма».
Жандармы явились в Алжир. Стихийно начавшееся в мае 1945 года восстание было потоплено в крови. Но история не повторяется. 1 ноября 1954 года началась народная война за независимость. Ее цели были просто и ясно изложены в одной из листовок Фронта национального освобождения, возглавившего борьбу:
«Мы взялись за оружие, чтобы вернуть Алжиру свободу и независимость».
«Мы алжирцы, и мы желаем ими остаться, потому что мы гордимся нашей национальностью».
Война длилась почти восемь лет. В Алжир была направлена 800-тысячная армия. Она истребила более миллиона алжирцев в этой войне. Но алжирский народ был теперь не одинок в своей борьбе за свободу. На его стороне выступили страны социализма и прогрессивные силы всего мира. Мощное движение за независимость Алжира развернула в метрополии Коммунистическая партия Франции. Она распространила миллионы листовок и брошюр, провела тысячи забастовок и демонстраций в защиту Алжира.
Французское правительство было вынуждено признать право алжирского народа на самоопределение. 1 июля 1962 года 99 процентов алжирских избирателей, включая европейцев, проголосовали за независимость Алжира. 26 сентября Алжир был провозглашен Народной демократической республикой.
Ив войне за независимость и в последовавшие за ней годы мирного созидания образ Абд-аль-Кадира жил в памяти народа, вдохновляя его -на борьбу и содействуя росту его национального сознания. В начале XX века старший сын эмира Мухаммед ибн Абд-аль-Кадир писал в книге о своем отце: «Он заслуживает, чтобы был подсчитан золотой песок его дел, произведен учет фактам его жизни, годам его и славе». Посев, сделанный некогда эмиром, дал всходы. Его жизнь, деятельность, литературное творчество стали неотъемлемой частью алжирской истории и культуры. В январе 1968 года алжирский еженедельник «Революсьон африкэн», оценивая историческое значение Абд-аль-Кадира, писал: «Наследие эмира Абд-аль-Кадира, славного героя нашего прошлого, охватывает самые различные области культуры — от военного искусства и исторической науки до поэзии и философии». Усваивая и развивая это наследие, алжирцы обогащают свою культуру и укрепляют свою независимость.
Такова историческая судьба Абд-аль-Кадира, слитая с судьбой народа и продолжающая полет в бессмертие. Она обрела независимое от воли эмира существование еще задолго до завершения его жизненного пути, поэтому и представлена здесь в отвлечении от его жизнеописания, главным предметом которого остается его личный удел, слагающийся из прижизненных поступков и помыслов нашего героя и имеющий свой естественный конец.
«Нет бога, кроме бога...»
Этот удел Абд-аль-Кадир наметил себе еще во французской тюрьме. Постижение учения пророка, занятия науками и поэзией — вот то, что призвано определить жизненный путь эмира после освобождения. Ничто теперь не мешает ему ступить на этот путь. С него снята миссия религиозного вождя — «так было угодно Аллаху», — и отныне он волен избирать для себя тот удел, к которому тяготеет его личность. Ислам не запрещает такой выбор: «Всякий поступает по своему подобию...» (17 : 86). Но нет ли тут противоречия с теми установками корана, которые наотрез отказывают человеку в свободе выбора своего жизненного пути? Для неверующих, конечно, есть. Для правоверных сам вопрос не имеет смысла: «Разве ж они не размыслят о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий» (4:84).
Итак, когда в январе 1853 года Абд-аль-Кадир прибыл в Константинополь, он твердо знал, чему будет посвящена его дальнейшая жизнь. Для осуществления его стремлений требовалось теперь немногое: личная независимость, мир, покой.
В Константинополе эмира принимают с должным почтением — как воитель за ислам он прославился по всему мусульманскому Востоку, — но довольно холодно: еще со времен османского завоевания арабских стран турки относятся к арабам свысока. Поэтому Абд-аль-Кадир отказывается от пенсиона, предложенного ему турецкими властями, и предпочитает воспользоваться ежегодной пенсией в 100 тысяч франков, предоставленной ему Францией. На эти деньги он может содержать свою многочисленную семью и несколько десятков алжирских изгнанников, которые последовали за ним. Небольшой доход дает ему ферма, которую он купил в окрестностях Бруссы.
Абд-аль-Кадир ведет спокойную и размеренную жизнь ученого и отца семейства. Молитвы, чтение, работа над рукописями, воспитание детей, ежедневный труд на ферме заполняют все его время. Он воздерживается от общения с турецкими властями и держится в стороне от местных жителей.
В 1855 году эмир заканчивает свой трактат «Призыв к умному, назидание невежественному», который представляет собой сочинение энциклопедического характера, выдержанное в канонах средневековой арабской науки, В первой части трактата автор рассуждает о пользе учения, вторая посвящена религии и морали, в третьей идет речь о науках и литературе.
Абд-аль-Кадир пользуется весьма своеобразным методом исследования. Для выяснения загадок, мироздания, человеческого духа, бога он обращается к самым различным, нередко чуждым друг другу философским и религиозным идеям, сплетая их в единое целое. Догмы ортодоксального ислама соседствуют с вольными идеями, вытекающими из здравого смысла и близкими по духу к рационализму Декарта. Аристотелевская философия логического рассуждения, опирающегося на опыт, совмещается с платоновским идеализмом, проникнутым восточной мистикой. Всякая идея или мысль находит место в его философии. Его не смущают противоречия. Эмир принимает их как должное. Мир бесконечно многообразен, так стоит ли удивляться тому, что в идеях он является столь разнолико? Бог все объединяет и все примиряет. Все в нем, и все от него. Бог для эмира — истина, и истина — это бог. Постичь ее можно только путем самоотречения. Но немногие способны на это. «Люди, — пишет эмир, — всегда судят об истине через людей же и никогда не судят людей через истину. Именно в этом заключается самое худшее из того, что исходит от невежества и зла».
Предаваясь молитвам и размышлениям, Абд-аль-Кадир не забывает об окружающем мире. Жизнь в Бруссе становится все более тягостной для него. Полковник Черчилль, встречавшийся с эмиром в 1853 и 1855 годах, пишет: «Он чувствовал себя иноземцем. Его язык понимали лишь немногие. Между ним и турками не было и не могло быть взаимной симпатии. Турецкие улемы завидовали эмиру и недолюбливали его за то, что он превосходит их в учености. Чиновные лица открыли вдруг для себя, что знаменитый арабский герой ведет себя как обычный «дервиш».
Абд-аль-Кадир не мог самовольно переменить место изгнания. Таково было обязательство, взятое им на себя перед Францией. 6н просит французское правительство разрешить переселиться в какую-нибудь из арабских стран. Но его высокий «друг» Бонапарт очень сдержанно относится к этим просьбам. Абсолютная верность Абд-аль-Кадира своему слову так никогда и не была вознаграждена доверием к нему французских властей. Эмиру помог случай. В 1855 году Брусса была разрушена землетрясением, и он получил разрешение на поездку во Францию. Эмир прибыл в Париж, когда там праздновалась победа под Севастополем. Император на радостях согласился исполнить его просьбу о замене места изгнания Дамаском.
Через несколько месяцев Абд-аль-Кадир вместе со всеми своими домочадцами отправился через Ливан в Дамаск. Во время путешествия его повсюду приветствовали огромные толпы арабов. Тысячи жителей Дамаска встречали эмира в миле от городских ворот. Он вошел в город как победитель. По словам Черчилля, «подобной встречи Дамаск не помнил со времен Саладина». Здесь к эмиру присоединилась большая группа алжирцев во главе с его бывшим халифом Кабилии Бен Салемом. Алжирская колония, состоявшая из окружения Абд-аль-Кадира, стала насчитывать около тысячи человек.
В Дамаске эмир продолжает свои научные и литературные занятия. Местные улемы признают его высшим авторитетом в богословских вопросах. По их просьбе Абд-аль-Кадир преподает калам — мусульманское богословие нескольким десяткам учеников в одной из мечетей города. Преподавание это, как всюду в подобных школах, заключается в чтении и толковании сунны и стихов корана. Но в отличие от обычных улемов Абд-аль-Кадир сопровождает свои наставления чтением отрывков из философских работ античных авторов и будит мысль послушников рассуждениями о тогдашней обстановке в мусульманском мире.
В то время на арабском Востоке, подвластном турецкому султану, назревали драматические события. Население Сирии и Ливана распалось на несколько религиозных сект, среди которых не было согласия не только в вопросах веры, но и в сугубо мирских делах. Особенно острой была борьба между друзами, составлявшими одну из мусульманских сект, и маронитами, последователями восточной христианской церкви. Эта борьба в 1845 году вылилась в религиозную резню, в которой погибли многие тысячи сторонников обеих сект.
В мае 1860 года в Ливане вновь началась друзо-маронитская резня, слухи о которой вскоре дошли до Дамаска. Сирийские друзы готовились последовать примеру своих ливанских единоверцев. Жизнь тысяч христиан, живших в Дамаске, оказалась под угрозой. Абд-аль-Кадиру всегда внушала отвращение вражда, в которой люди в доказательство своей веры перерезают друг другу глотки. Узнав о приготовлениях друзов, он направляется к ним, чтобы убедить их шейхов не допускать кровопролития. Друзы приходят в изумление. «Почему, — спрашивают друзские вожди, — ты, который, уничтожил так много христиан, хочешь удержать теперь нас от этого благого дела?»
— Если я и убивал христиан, — отвечает эмир, — то это было в согласии с нашим законом: они пошли войной на меня и обратили оружие против нашей веры. Здешние же христиане ничего вам не сделали.
Абд-аль-Кадиру удалось убедить некоторые окрестные племена друзов не пускать в ход оружия. Одновременно он потребовал от турецкого губернатора Ахмет-паши обеспечить безопасность христианских жителей Дамаска. Но паша ответил, что серьезных причин для опасений нет, и отказался послать турецких солдат для охраны христианских кварталов, как того требовал Абд-аль-Кадир.
9 июля 1860 года эмиру доносят, что резня началась. Возбужденные толпы мусульман врываются в городской район, населенный христианами. Турецкие власти не препятствуют им расправляться с иноверцами. Абд-аль-Кадир собирает своих людей и бросается с ними на место побоища. В первый же день резни алжирцы спасают сотни христиан и укрывают их во дворе дома эмира. Там же прячутся семьи европейских консулов. В течение десяти суток Абд-аль-Кадир продолжает борьбу против кровавого фанатизма. Турецкий паша приказывает алжирцам сдать оружие. Но эмир отвечает ему: «Я подчинюсь этому приказу лишь в том случае, если будет доказано, что я и мои люди нашли своему оружию дурное применение».
Абд-аль-Кадир спас от верной смерти свыше десяти тысяч восточных христиан. Правительства многих стран отметили его высокими наградами. Из Франции Абд-аль-Кадиру прислали большую ленту Почетного легиона, из России — орден Белого орла, из Греции — большой крест Спасителя. Награды пришли также из Англии, Пруссии, Соединенных Штатов Америки.
Благородный поступок Абд-аль-Кадира повышает его престиж и среди богословских кругов ислама. Из Калуги ему выражает свое восхищение Шамиль, который так же, как и эмир, потерпел поражение в «священной войне» и после этого находился в ссылке. Между ними завязывается переписка, посвященная в основном богословским темам и продолжавшаяся в течение нескольких лет.
Вновь об эмире заговорила европейская печать. Его оценивают как самого крупного деятеля в арабском мире. Некоторые журналисты всерьез обсуждают проект создания «арабской империи», которую возглавил бы Абд-аль-Кадир.
Но эмир бесстрастно внимает похвалам и равнодушно относится к предложениям о возобновлении политической деятельности. Он невозмутимо продолжает тот путь, который определил себе.
Дни Абд-аль-Кадира по-прежнему заполнены чтением, молитвами, учеными занятиями. Он встает за два часа до восхода солнца, совершает молитву и затем погружается в религиозное самосозерцание, из которого его пробуждает крик муэдзина, сзывающего правоверных к утренней молитве. Эмир отправляется в мечеть и после молитвы несколько часов занимается с учениками. Вернувшись домой, он проводит час со своими восемью сыновьями, которые рассказывают ему об успехах в учебных занятиях. Затем до глубокой ночи эмир сидит за книгами и рукописями в своей библиотеке.
Каждую пятницу улица, ведущая к дому Абд-аль-Кадира, бывает заполнена нищими. В этот день эмир раздает милостыню. Он также оплачивает расходы на похороны бедняков Дамаска.
Эмир, сам уже седобородый шейх, нежно ухаживает за своей старой и больной матерью. Вечерами он ежедневно выносит обессиленную Лаллу Зоргу на террасу дома и долгие часы проводит вместе с ней на свежем воздухе. В 1861 году она умирает на его руках.
В 1863 году Абд-аль-Кадир предпринимает второе паломничество к святым местам. Целый год он проводит в Мекке в полном отрешении от всего мирского. Эмир питается лишь раз в день ячменной лепешкой и горстью олив и уделяет сну всего четыре часа в сутки. Все остальное время отдано молитвам и размышлениям о боге.
Очистившись от мирской скверны и продвинувшись в постижении всемогущего, Абд-аль-Кадир проявляет интерес к светским делам. Находясь в изгнании, он внимательно следил за развитием событий на родине. Эмир тяжело переживает поражения алжирских повстанцев. Его удручает безнадежность их борьбы. Но, быть может, слова Наполеона об «арабском государстве» в Алжире выражают действительные намерения императора? Быть может, Франция и впрямь облагодетельствует алжирский народ?
Абд-аль-Кадир пытается получить ответы на эти вопросы у самого императора. В 1864 году он отправляется в Париж. Но на этот раз его принимают очень сдержанно и дают понять, что о возрождении алжирского государства не может быть и речи. Из Франции эмир едет в Великобританию. Он надеется, что здесь найдет более сочувственный отклик: именно английские газеты выдвинули идею о создании «арабской империи». Но в то время между Францией и Англией установилось временное согласие по колониальным вопросам, и в Лондоне эмир на свои вопросы получает те же ответы, что и в Париже.
Утратив все свои иллюзии насчет добрых намерений Наполеона, Абд-аль-Кадир возвращается в Дамаск. Перед ним стоит старый вопрос: почему правитель великой державы дает обещание и не выполняет его? И вновь здравый смысл говорит ему, что здесь кроется либо преднамеренный обман — но разве не может могущественная страна обойтись без него, добиваясь своих целей? — либо ошибка — тогда почему не признать ее? Что ж, «тот, кто не признает своих ошибок, — либо обманщик, либо глупец».
Разве можно положиться на слово таких правителей? Разве заслуживают они доверия? Остается уповать на волю аллаха. Обманутый в своих ожиданиях эмир больше не ищет во Франции ответа на вопросы о будущем Алжира. Даже образование своих детей он не хочет доверить стране, правительство которой не держит слово. Абд-аль-Кадир посылает своих сыновей учиться в Англию и в Германию, а не во Францию, как можно было бы ожидать, судя по его «дружбе» с Бонапартом. Эмир хочет, чтобы его сыновья познали достижения европейской цивилизации, но остались при этом верными обычаям своей родины.
Абд-аль-Кадир высоко оценивал плоды европейского прогресса. Он пишет Лессепсу, руководителю строительства Суэцкого канала: «Ни один разумный человек не усомнится в том, что Ваше предприятие является истинным благодеянием для человека и что оно создает выгодные возможности для всех жителей земли». По приглашению Лессепса эмир прибывает на празднества по случаю открытия канала. 17 ноября 1869 года он вместе с другими почетными гостями стоит на капитанском мостике одного из кораблей, торжественно открывающих навигацию в Суэцком канале.
Но восхищаясь достижениями европейского прогресса, он ужасается их воздействию на людей. Европейцы стали рабами собственных творений. Вещь подчинила человека. В обществе восторжествовали злые силы. А вот и главный виновник всего этого: «материализм, плод тщеславного разума, приводит к разнузданности среди людей и сеет повсюду ненависть и разрушение».
Это голос из глубины средневековья, это голос человека, который может радоваться полезности вещи самой по себе, но которого пугает темная сила, скрытая в этой вещи и способная господствовать над своим творцом. Европейцы не могут воспротивиться этой силе, ибо, говоря словами эмира, «они утратили способность умозрительного постижения бога, о которой они даже не упоминают и понятие о которой тщетно искать в их книгах».
Абд-адь-Кадир возвращается в объятия своего бога. В последние годы жизни он почти совершенно отрешается от всего мирского и все время проводит в размышлениях о боге и в молитвах. С именем аллаха на устах он и был застигнут смертью на 77 году жизни. Он умер легко и тихо, в мирном окружении своих родных.
Это случилось в ночь на 19 число месяца Реджеба 1300 года хиджры.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБД-АЛЬ-КАДИР А
6 сентября 1808 — Рождение Абд-аль-Кадира.
1826—1828 — Паломничество в Мекку.
1827 — Объявление Францией блокады Алжира.
14 июня 1830 — Высадка французских войск в Сиди Фарух.
5 июля 1830 — Вступление французской армии в город Алжир.
1831 — Захват французами Орана.
25 ноября 1832 — Избрание Абд-аль-Кадира вождем восстания.
Июль 1833 — Смерть Махи ад-Дина, отца Абд-аль-Кадира.
1832—1834 — Война в Орании.
1834—1837 — Установление власти Абд-аль-Кадира в провинциях Алжир и Титтери.
Февраль 1834 — Заключение договора с Демишелем.
Июнь 1835 — Битва на Макте.
Ноябрь 1836 — Поражение французов у Константины.
30 мая 1837 — Заключение Тафнского договора.
Июль 1837 — Вступление, войск Абд-аль-Кадира в Тлёмсен.
Октябрь 1837 — Захват французами Константины.
1837—1839 — Период укрепления алжирского государства.
1838 — Осада войском Абд-аль-Кадира крепости Айн-Махди.
Октябрь 1839 — Проход французских войск через Железные ворота.
18 ноября 1839 — Абд-аль-Кадир объявляет о возобновлении войны против колонизаторов.
Декабрь 1840 — Назначение губернатором Алжира генерала Бюжо.
Май 1841 — Захват французами Текедемпта.
Февраль 1842 — Генерал Бюжо занимает Тлемсен.
Май 1842 — Абд-аль-Кадир освобождает французских пленных.
Январь 1843 — Восстание в Уарсенисе.
Май 1843 — Разгром смалы.
Июнь 1843 — Битва у Джедды.
Ноябрь 1843 — Битва у Сиди-Иаиа.
1844
— Абд-аль-Кадир отступает в
Марокко.
14 августа 1844 — Битва при Исли.
Март
1845 — Восстание Бу-Мазы.
Сентябрь 1845 — Разгром французской колонны у Сиди-Брагима.
1846 — Партизанская война в горах Кабилии и в Сахаре.
Июнь 1847 — Абд-аль-Кадир переходит в Марокко.
23 декабря 1847 — Капитуляция эмира.
Январь 1848 — декабрь 1852 — Заключение Абд-аль-Кадира во Франции.
1853—1857 — Восстание в Кабилии.
1853—1855 — Пребывание Абд-аль-Кадира в Брусее.
1856 — Переезд эмира в Дамаск.
1858 — Издание во Фршнри трактата Абд-аль-Кадира «Призыв к умному, назидание невежественному».
1880 — Выступление Абд-аль-Кадира в защиту сирийских христиан.
1869 — Абд-аль-Кадир присутствует на церемонии открытия Суэцкого канала.
1871 — Восстание в Кабилии.
1881—1882 — Восстание Бу-Амамы.
26 мая 1883 — Смерть Абд-аль-Кадира,
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Энгельс Ф., Алжир. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т, 14.
Богданович М. И., Алжирия в новейшее время. СПб, 1849.
Жансон К. и Ф., Алжир вне закона. М;, 1957, пер. с франц.
Жюльен Ш. А., История Северной Африки. М., 1961, пер. с франц.
Коковцев М., Достоверные известия об Альжире. СПб, 1787.
Куропаткин, Алжирия. СПб, 1877.
Ланда Р. Г., Национально-освободительное движение в Алжире. М., 1962.
Хмелева Н. Г., Внутренняя политика алжирского государства в период народно-освободительной борьбы против французских колонизаторов (1832—1847 гг.). «Краткие сообщения Института народов Азии», 1962, вып. 58.
Хмелева Н. Г., К вопросу о значении Алжирского государства Абд-аль-Кадира. В сб. «Арабские страны». М., 1963.
Эгрето М., Алжирская нация существует. М., 1958, пер. с франц.
Azan
P. L'Emir Abd-el-Kader, 1808—1883.
Bareste
E. Abd-el-Kader.
Bellemare
A. Abd-el-Kader. Sa vie politique et militaire.
Bugeaud.
L'Algerie, des moyens le conserver et d`utiliser cette
conquete.
Churchill
Debay
A. Biographie d'Abd-el-Kader.
Dupuch
A. Abd-el-Kader. Sa vie intime, sa lutte avec
E
merit M. L'Algecrie a 1'epjque d'Abd-el-Kader.
Estailleur
— Chanteraine Ph. de. Abd-el-Kader. L'Europe et I'lslam au XlX-e
siecle.
Estailleur
— Chanter aine Ph. de. L`Emir magnanime Abd-el-Kader croyant.
Gerndt
K. Abdelkader oder drei Jahre eines Beutschen unter den Mauren.
Оганисьян Юлий Степанович.
АБД-АЛЬ-КАДИР. М. «Молодая гвардия», 1968. 176 с., с илл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 18 (459).)
9(И)31
Редактор
М. Брухнов
Обложка
художника Ю. Арндта
Худож.
редактор А. Степанова
Техн. редактор Г. Лещинская
Сдано
в набор 2/УИ1
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.
[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 22, стр. 468.
[2] Здесь и далее первая цифра в скобках обозначает суру, вторая — стих корана.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 9. стр. 202.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд.2-е. т. 22, стр. 468.
[5] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 4, стр. 428.
[6] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 14, стр. 107.
[7] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 22, стр. 468.
[8] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е. т. 35, стр. 255, 258.
[9] К. Маркс, Классовая борьба во Франции. Соч., изд. 2-е, т. 7, стр. 43.
[10] К. Маркс, Классовая борьба во Франции, Соч., изд. 2-е, т. 7, стр. 108.
[11] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 35, стр. 258.