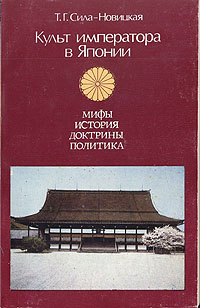
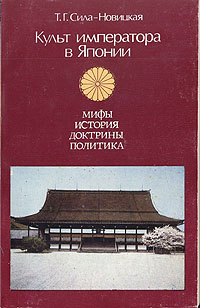
АКАДЕМИЯ
НАУК СССР
ИНСТИТУТ
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Т.Г.
Сила-Новицкая
Культ
императора в Японии
МИФЫ
ИСТОРИЯ
ДОКТРИНЫ
ПОЛИТИКА
Москва
«Наука»
Главная
редакция восточной литературы
1990
Ответственный
редактор Т.П. ГРИГОРЬЕВА
Утверждено
к печати
Институтом
востоковедения
АН
СССР
Сила-Новицкая
Т.Г.
С 36 Культ
императора в Японии: мифы, история,
доктрины, политика. — М.: Наука.
Главная редакция восточной
литературы, 1990. — 206 с.: ил.
ISBN 5-02-016839-4
В
монографии прослежена история
культа императора в Японии с
древности до наших дней,
рассматриваются догматика и
эволюция доктрины монархизма;
анализируется культ императора в
современной Японии. Книга помогает
лучше понять истоки и особенности
японского национализма, механизм
взаимодействия официальной
идеологии и массового сознания.
С |
0503030000 |
180 – 90 |
013(02)-90 |
© Главная
редакция восточной литературы
издательства "Наука", 1990
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Глава 1.
Эволюция института императорской
власти в добуржуазной Японии
Глава 2.
Идеология тэнноизма в период
господства императорской системы (1868—1945)
Основные
положения идеологии тэнноизма
Этапы
развития тэнноизма
Особенности
внедрения тэнноистских идей в
массы
Глава 3.
Идеология тэнноиэма в современной
Японии
Становление
«символической императорской
системы»
Ритуализация
общественной жизни
Возрождение
идеологии тэнноизма
Императорская
система в массовом сознании
Заключение
Примечания
Список
использованной литературы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая
читателю книга является первой
попыткой специального
исследования идеологического
аспекта культа японского
императора (по-японски «тэнно») в
советском японоведении. Хотя наши
ученые не раз обращались к проблематике,
так или иначе связанной с
институтом императорской власти в
Японии, эта тема еще не стала
предметом всестороннего и
постоянного научного изучения,
тогда как в Японии тэнноизм и
императорская система находятся в
зоне самого пристального внимания.
В Японии издается такое море книг,
статей по проблемам монархии, что в
нем легко утонуть даже специалисту.
Подобный интерес вполне обоснован,
поскольку определяется реальной
значимостью этих проблем для
истории и современности Японии.
В наши дни
в высокоразвитой индустриальной
державе Востока — Японии
наблюдается повышенный интерес правящих
кругов к политико-идеологическому
использованию императора как
символа национального единства.
Это видно даже поверхностному
наблюдателю. А вот ответить на вопрос,
почему в современной Японии столь
сильны монархические настроения,
не так-то просто. При попытках
разобраться в нем становится
совершенно очевидно, что
невозможно оценить роль императора-тэнно
в современной Японии исключительно
с точки зрения сегодняшнего дня, не
рискуя неминуемо исказить суть
проблемы или же оказаться лишь в
роли растерянного иностранца в
таинственном мире восточной
культуры. Достаточно сказать, что в
том или ином виде нынешние
положения тэнноизма оказываются
опосредованным переосмыслением
классической мифологии Японии и
традиционных представлений об
императоре, восходящих к глубокой
древности. Иными словами, если
принцип историзма должен лежать в
основе любого исследования, то при
изучении проблем японской монархии
он оказывается вдвойне необходим.
Это обязывает проследить судьбу
института императорской власти в
Японии и идей, с ним связанных, на
протяжении всей его долгой, более
чем тысячелетней истории вплоть до
наших дней.
Идеологический
аспект для исследования выбран
исходя из его ведущего характера
для данной проблематики. В течение
всей истории Японии (за редким
исключением) монарх имел не
столько политическую, сколько
культово-религиозную власть, что и
определило исключительное место
символики, связанной с верховным
правителем, в официальной
идеологии.
Читатель
вправе поинтересоваться, почему
автор пользуется в работе
непонятным для неяпонистов
термином «тэнноизм». Дело в том, что
хотя формально «тэнносюги» можно
было бы перевести как «японский
монархизм», такой перевод не
отражает в полной мере тот широкий
и взаимоувязанный круг проблем,
который ассоциируется с понятием
«тэнноизм» в истории и
современности Японии. Идеология
тэнноизма, имеющая центральное значение
для понимания содержания
довоенного государственного
национализма (1868—1945), сохраняет в
трансформированном виде свою
жизнеспособность и сегодня. Более
того, именно ценности этой
идеологической системы, представляющей
в своей основе официальное
переосмысление архаических мифов,
служат ключом к пониманию многих
черт национального характера
японцев, особенностей их
мировоззрения, социально-политических
представлений, социокультурных
ориентаций. Словом, «тэнноизм» —
это сложное многоплановое явление
жизни японского общества, имеющее
свои внутренние законы развития,
которые вовсе не просто поддаются
пониманию.
В книге
также употребляется непривычный
для советского читателя термин «императорская
система» — перевод японского слова
«тэнносэй». Этот термин впервые
появился в тезисах Исполкома
Коминтерна о положении в Японии от
15 цюля
В
довоенной культуре Японии именно
государственный культ императора,
развитый правителями Мэйдзи на
живом организме национальной
религии (синтоизме), стал тем интеграционным
началом, которое выработало у
японцев особое чувство единства с
исключительно сильной националистической
окраской, сгустившейся в 1930-е годы в
мрак агрессивного шовинизма.
Хотя в
японском послевоенном обществе
институт императорской власти уже
не является центральным звеном
политической структуры, все же при
формулировании господствующим
классом общенациональных
ценностей идеи и ритуалы,
культивирующие чувства уважения и
любви к императору — «символу
государства и единства нации»,
продолжают играть немаловажную
роль.
В работе
делается попытка показать
взаимодействие официальной
идеологии и массового сознания на
разных этапах японской истории.
Именно взаимодействие, поскольку, с
одной стороны, идеи тэнноизма
навязывались господствующими
классами простому народу, но, с
другой — культ императора вырастал
и «снизу», из национальной психологии,
мировоззрения, присущего японцам
на протяжении многих столетий, был
связан с их искусством, религией,
традиционными представлениями.
Немалое значение для поддержания
авторитета императорской власти
имело то, что мифология и искусство
играли весьма существенную роль в
повседневной жизни народа.
Автор
надеется, что эта работа поможет
наметить основные пути
дальнейшего изучения сложной
проблемы японского монархизма во
всей ее полноте и многоаспектности.
Выражаю
глубокую благодарность за
высказанные критические
замечания и ценные советы в период
работы над книгой уважаемым
коллегам А.Б. Беленькому, Т.П. Григорьевой,
Г.С. Киселеву, А.Н. Мещерякову, А.А.
Празаускасу, Ю.М. Рю, К.О. Саркисову,
Г.Е. Светлову, Н.А. Симонии, В.В.
Сумскому.
Глава I
ЭВОЛЮЦИЯ
ИНСТИТУТА ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ
В
ДОБУРЖУАЗНОЙ ЯПОНИИ
Массовое
почитание императора сознательно
культивировалось (посредством
государственного синтоизма)
правителями эпохи Мэйдзи (1868—1912),
видевшими в императорском престоле
единственно надежную опору в деле
консолидации нации в условиях
отсталости и слабости Японии,
которой угрожала потеря
национальной независимости. Но,
формируя систему тэнноистских
взглядов, официальные идеологи
искусно вплетали в нее глубоко
укоренившиеся в национальной
этико-политической мысли догмы
синтоизма, принципы конфуцианства,
даосизма, буддийской философии,
древние народные представления и
верования.
Тэнноистская
и вообще официальная
националистическая идеология в
Японии 1868—1945гг. зиждилась прежде
всего на идеях движения «за
возрождение синто древности»,
возглавлявшегося школой «национальной
науки» (кокуга-куха), а также
сторонников синто-конфуцианского
синтеза, объединявшихся вокруг
школы Мито (Мито гакуха)1 и
выдвинувших в конце XVIII — первой
половине XIX в. теоретическое
обоснование свержения сёгуната и
реставрации императорской власти.
Общественно-политическая
мысль и того и другого направления
была обращена в прошлое — к самым
истокам японской
государственности, воплощавшей, по
глубокому убеждению сторонников
упомянутых школ, «незамутненный»
последующими наслоениями духовных
культур Китая и Индии «дух Ямато» (Ямато
дамасии)2, поэтому для
понимания основополагающих
понятий тэнноизма необходимо хотя
бы кратко проследить главные этапы
развития института монархической
власти в Японии и эволюцию взглядов
на роль императора, начиная с
древности и до реставрации
монархического правления (
Согласно
официальной японской
историографии довоенного периода,
почитание императора в стране
возникло с началом
государственности, когда в
Централизованное
государство в древней Японии
создавалось в ходе борьбы за
власть между правителями зачаточно-государственных
образований, носивших характер
племенных союзов. Наиболее
влиятельным из них к II—III вв. стало
«государство» Яматай (северный
Кюсю), сумевшее к III— IV вв. подчинить
себе племенные союзы центральной
Японии и перебазироваться в район
Ямато, давший название первому
крупному государственному
объединению Японии. Источником
престижа царей Ямато (носивших
титул «ооки-ми») служило выполнение
ими функций верховных священнослужителей
во время отправления обрядов
земледельческих праздников — «мацури»3,
главными из них считались «то-сигои»
— весенний «мацури» перед началом
работ и «ниинамэсай» — праздник
преподношения богам первых плодов
урожая. Поливное рисоводство,
ставшее основой экономической
жизни страны, обусловливало
исключительное значение
кровнородственных общин и их
обрядности, носившей коллективный
характер. Выполнение функций
верховного жреца во время
магических богослужений общинных «мацури»
наиболее прочно обеспечивало
господствующее положение
правителя в среде родо-племенной
знати.
Это
положение подкреплялось также
устно передававшимися из
поколения в поколение
мифологическими сакральными
генеалогиями, отражавшими
усложнявшийся и иерар-хиизировавшийся
культ предков. Божества —
покровители той или иной местности
сливались в представлениях людей
с духами прародителей общины, что с
классовым расслоением привело к
доминированию в древней синтоистской
религии божеств правящего рода,
считавшихся в то же время
покровителями всей территории
древнего государства. Цари Ямато
стали устраивать «мацури» в масштабе
всей подвластной им территории,
выполняя роль верховных
священнослужителей; это усиливало
государственный культ
прародительницы царского рода
солнечной богини Аматэрасу и
способствовало складыванию представления
о царях как о «воплощении божества»,
а также породило концепцию «сайсэй
итти» («единство отправления
ритуала и управления государством»)
[42, с. 12—27].
Таким
образом, идеологическое
обоснование царской власти в
древней Японии опиралось прежде
всего на традиции местной религии
— синтоизма. Царский род считался
обладающим особой магической
силой, обеспечивавшей эффективное
общение с божествами, без чего не
мыслилось благополучное
функционирование всего
общественного организма. Такое
сакральное значение царской власти
обусловило сохранение царским
родом его верховенствующего
положения в иерархической
структуре общества, несмотря на то
что он был отстранен другими
знатными родами от реальных дел по
управлению консолидировавшимися в
государственный организм
общественными единицами. В первой
половине V в. царский род был
вынужден делить власть с родом
Кацураги, во второй половине V в. — с
родом Хэгури, в VI в. у власти
поочередно оказывались представители
родов Отомо, Мононобэ, Сога. А с
С VI в.
началось широкое внедрение
буддизма во все сферы общественной
жизни, что привело поначалу к
соперничеству между синтоизмом и
буддизмом за право быть духовной
основой японской
государственности. Забегая вперед,
отметим, что результатом этого
процесса явилось складывание к VIII
в. синкретических синтоистско-буддийских
форм коллективного сознания, когда
религиозные системы синтоизма и
буддизма обслуживали различные
потребности общества и индивида (см.
[32]).
Наиболее
точно функциональное «разделение
труда» между буддизмом и
синтоизмом в VI—VII вв. определил
американский ученый Р. Миллер: «Буддизм
служил духовным и эстетическим
запросам эпохи, а традиционные
мифологические представления и
представления о предках служили
опорой социальной структуры, а
также средством определения
различий статуса внутри этой
структуры» (цит. по [32. с. 29]).
Советскому
ученому А.Н. Мещерякову на
материале тщательно
проанализированных им памятников
VI—VIII вв. удалось доказать, что «политическим
орудием» буддизм был основном в
руках служилой знати и
иммигрантских родов Кореи и Китая,
не располагавших сакральными
генеалогиями местного синто, в то
время как ценностная система
синтоизма охраняла интересы родо-племенной
знати. Отношение же царского рода
к буддизму было противоречивым. С
одной стороны, буддизм привлекал
царский род как уже готовая
институциональная система,
способная в большей мере, нежели
синтоизм, органично связанный с родо-племенным
строем, противостоять центробежным
тенденциям; с другой стороны, «буддизм
фактически десакрализовывал
синтоистские основы царской власти,
превращаясь до некоторой степени
из ее опоры в соперника. Буддизм
изолировал царя от идеологической
системы сакральных генеалогий,
переводя царя в другую шкалу оценок,
где определяющей является
этическая, т.е. нефиксированная,
оценка поступков» [32, с. 79—80].
Поэтому
политика царской власти в области
идеологии в этот период не
отличалась последовательностью.
Стремясь создать систему
государственного синтоизма на базе
мифов об Аматэрасу и Дзимму, т.е.
сформировать общегосударственную
синтоистскую идеологию, усилив ее
конфуцианством, цари пытались
также подчинить своим целям и буддизм,
способствуя его распространению
под своим контролем. Только имея в
виду всю сложность идеологической
ситуации в Японии в VI—VIII вв., можно
понять мероприятия царского рода
в области религии и идеологии.
К VIII в.
относится начало применения
японскими правителями в посланиях
китайским и корейским императорам
термина «тэнно» (дословно «небесный
государь», переводится в нашей
литературе как «император») [36, с. 6—7].
В японских источниках они
титуловались «сумэра-микото» («верховный
правитель, передающий слова
небесного божества»)4.
Титулом «тэнно» обозначались
только японские верховные
правители, иностранные короли и
императоры именовались обычно в
японской литературе «котэй».
В начале VII
в. сторонники китайской идеологии,
эклектически сочетавшей элементы
буддизма, конфуцианства и в какой-то
мере даосизма, предприняли попытку
сформулировать идею абсолютной
власти монарха. В
Именно
после знакомства с институтами
китайского государства в Японии
появилось представление о том, что
в лице тэнно может совмещаться и
высший религиозный авторитет, и
реальная власть главы государства.
Переворот Тайка (
После
переворота и последовавших за ним
реформ, которые постепенно
осуществлялись в течение полувека
и получили окончательное
оформление в кодексе «Тайхорё» (
Во второй
половине VII в. из Китая также была
заимствована церемония вручения
новому императору в связи с
восшествием на престол знаков
императорской власти. Такими
знаками считались «три
божественные регалии» — зеркало,
меч и яшмовые подвески — предметы
тройного магического ритуала
племенных вождей северного Кюсю и
знаки власти царей Ямато. В
дальнейшем сформировалась
концепция «трех божественных
регалий» — одна из ключевых в
идеологической структуре мифа о «божественном»
происхождении императорской
власти (подробнее см. [42, с. 27—29; 99, с.
85—110]). С конца VII в. при восшествии
на престол нового тэнно при дворе
стал отправляться ритуал дайдзёсай,
в основу которого был положен
главный синтоистский праздник — «ниинамэсай».
После
реформ Тайка государственное
управление стало осуществляться на
основе законов, получивших потом
общее название «системы рицурё»,
согласно которой устанавливалась
строгая и довольно сложная
иерархическая структура
институтов, возглавлявшихся
императором и копировавших порядки
танского Китая. Прежде всего
для ослабления клановой системы
и централизации управления земля
была изъята из-под власти отдельных
родов и объявлена государственной
(фактически царской)
собственностью, вводилась система
«хандэн», при которой подданные
наделялись землей (подушные наделы,
жалованные земли), и одновременно
вводились три повинности —
трудовая, поземельный налог и налог
с ремесленных изделий.
Главной
идеологической основой господства
рода тэнно по-прежнему оставалась
ритуальная система синтоизма, поэтому
центральное положение среди вновь
созданных государственных
учреждений отводилось Управлению
по делам небесных и земных божеств (Дзингикан),
чиновники которого отвечали за
организацию религиозных ритуалов.
Последние были возведены в
категорию государственных праздников,
а в роли верховного священнослужителя
большинства из них выступал сам
тэнно. Крупные синтоистские храмы,
связанные с культом императорского
рода, а также посвященные божествам
— покровителям наиболее влиятельных
аристократических родов,
выделялись в особую категорию
государственных храмов (канся),
контролировавшихся
непосредственно Дзингиканом или
администрацией провинций.
Кроме того,
становление централизованного
государства сопровождалось
мероприятиями по формированию
общегосударственной идеологии
путем письменной фиксации официального
канона синтоизма. Итогом
государственных усилий в этом
направлении явилось составление
летописно-мифологических сводов «Кодзики»
(
Именно
интерпретация мифов «Кодзики» и «Нихон
секи» с явным упором на миф о «прародительнице»
императорской династии — богине
Аматэрасу, а также мифологизированное
повествование о первых императорах,
начиная с основателя государства
императора Дзимму, послужили в
дальнейшем фундаментом идеологии
тэнноизма. Официальная
историография рассматривала «Кодзики»
и «Нихон секи» как свидетельство
существования у японцев с глубокой
древности духа почитания
императоров, трактуя эти своды как
изложение народных верований и
обычаев. На самом деле, хотя в «Кодзики»
и «Нихон секи» и отражены в
значительной мере архаические
мифологические представления простых
японцев, все же костяк их
составляют более поздние,
усложненные представления,
привязанные к иерархической
структуре государства с его
своеобразной официальной мифологической
символикой, во многом использующей
заимствованные из Китая и Кореи
конфуцианские и даосские концепции.
«Вторичная»
мифология «Кодзики» и «Нихон секи»
подробно изложена и
проанализирована в работах многих
исследователей (см., например, [24, с.
15—23; 42, с. 30—37; 1, т. 1, с. 65—66, 376, 479—480,
т. 2, с. 221, с. 685—686; 99, с. 27—54]), поэтому
отметим лишь, что главная цель их
написания состояла в стремлении
царского рода усилить единый культ
Аматэрасу и ослабить таким образом
влияние знатных аристократических
родов, бывших главными носителями
децентрализаторских тенденций.
Хотя роль буддизма в жизни общества
с VII в. неуклонно возрастала, все же
идеологической базой законности
наследственного правления продолжала
служить система синтоистских
сакральных генеалогий, что, по
словам А.Н. Мещерякова, «вело... к
значительному усилению культа
предков, общей консервации верований
и мысли, основой которой неизменно
служил миф» [32, с. 53].
Считается,
что государство «древней
императорской системы» достигло
своего расцвета в VIII—X вв., или, по
японской периодизации, в эпоху Нара
(710—794)6 и ранний период Хэйан (794—1185)7,
когда общество функционировало на
основе «системы рицурё». Однако это
мнение не выдерживает
сопоставления с известными
историческими фактами. Так, в
начале IX в. император Сага
предпринял безуспешную попытку
реорганизовать систему управления
государством, чтобы усилить свою
личную власть. Вдобавок
могущественный аристократический
род Фудзивара, по традиции с VIII в.
поставлявший жен для тэнно и
принцев царской крови, с
Уже с IX в.
система государственного
землевладения приходит в упадок,
все большую роль в экономике страны
начинают играть частные поместья (сёэн),
фактическое ведение хозяйства в
которых передается в руки местных
феодалов-управляющих. Старые
аристократические роды постепенно
отходят также от политических дел.
Придворная аристократия ведет
весьма замкнутый образ жизни, бoльшую
часть времени посвящая участию во
всевозможных церемониях и ритуалах,
а также совершенствуясь в занятиях
различными видами искусства. Выше
всего при дворе начинают цениться
творческие способности, и прежде
всего в поэзии и прозе.
Период
Хэйан известен как «золотой век»
культуры Японии, отмеченный
пышным расцветом утонченных форм
искусства, создававшихся
художественными талантами преимущественно
придворной аристократии. Императоры
стали символом особого,
аристократического понимания
прекрасного, заложившего
фундамент традиционной японской
эстетики. Это естественное
соединение религиозно-ритуальной
социальной функции института
императорской власти с культивированием
утонченных форм искусства имеет
весьма важное значение для
понимания особенностей духовной
роли сакрализованного тэнно в
истории Японии, но, к сожалению, в
данной работе нет возможности
исследовать эту область, и в
дальнейшем мы почти не будем
касаться самого неразработанного
и самого увлекательного аспекта
культа императора.
Разложение
государственного землевладения
привело к ослаблению государства,
политической децентрализации, усилению
сначала экономического, а потом и
политического влияния местной
феодальной знати, опиравшейся на
воинские дружины — самураев. С XI в.
явно обозначились признаки упадка
власти дворцовой аристократии.
Система правления «сэссё — кампаку»,
установленная домом Фудзивара
сменилась правлением «инсэй» (экс-императоров-монахов).
Император Сиракава в
Структура
высшей политической власти еще
более усложнилась, когда шедшая
еще с середины XI в. борьба двух феодальных
лагерей военного дворянства (букэ)
Тайра и Минамото закончилась
победой последнего и установлением
новой системы правления — сёгуната
Камакура (1185—1333)8, Император
двора в Киото узаконил власть
Минамото, присвоив ему в
Такая
многослойная структура власти с
невообразимо большим количеством
чисто номинальных должностей и титулов
была очень непрочной. В XIII в.
императорский двор в Киото не раз
пытался восстановить свои верховные
прерогативы, используя военную
мощь то одного, то другого лагеря
влиятельных феодальных домов,
однако это не удавалось. С
Император
Годайго взошел на престол в
Наличие
двух дворов в стране дало название
целому периоду истории — «Намбокутё»,
закончившемуся в
Возвращаясь
к событиям двоецарствия,
необходимо остановиться на очень
важном для понимания процесса
развития монархических идей в
Японии документе. Речь идет о трактате
Тикафуса Китабатакэ (1293—1354) «Дзинно
сётоки» («Записи о законности
наследования божественных монархов»),
в котором этот верный приверженец «южного»
двора на основе концепции «трех
божественных регалий» доказывал
сакральные права императора
Годайго. Для нас данный документ
представляет интерес прежде всего
как первый образец теоретических
рассуждений о «божественном» праве
императоров, соединенных с четко
выраженной идеей «уникальности
Японии как страны богов»,
превосходство которой над другими
странами определяется непрерывной
линией наследования престола с
момента «разделения Неба и Земли».
Кроме того, Тикафуса Китабатакэ
заложил фундамент этноцентрической
этики синтоизма, трактуя «три
божественные регалии» как
воплощающие добродетели
императора и членов императорской
семьи: зеркало — честность, меч —
мудрость, яшмовые подвески —
милосердие. Только император, по
мысли Китабатакэ, мог управлять
страной, делая эти добродетели
главными принципами политики.
Отсюда основу нравственности
народа он видел в «соблюдении верности
верховному правителю, даже если
ради этого придется пожертвовать
жизнью» (см. [172]). В довершение всего
Китабатакэ, признавая полезность
буддизма и конфуцианства, а также
других учений, отводил им роль,
подчиненную синтоистскому
вероучению. Все эти идеи и способ их
аргументации были восприняты почти
без изменения и лишь развиты и
осовременены в значительно более
позднюю эпоху — в период
возрождения монархизма уже в новое
время, а также идеологами тэнноизма
после Мэйдзи.
Мифологическое
обоснование концепции
монархической власти и японской
истории престолонаследия
свидетельствовало о существенном
значении в общественном сознании в
XIV в. древних представлений о том,
что лишь соответствие мифу
обеспечивает нормальное
функционирование социума. Вместе с
тем, как показал советский
исследователь Г.Е. Светлов, в
период двоецарствия
предпринимались первые попытки
модифицировать догматику синто
путем заимствований из других
учений, что привело к рождению
учения «исэ синто»10,
призванного укрепить культ
императора, вводя новые понятия,
использовавшие буддийские категории.
Именно идеи «исэ синто», по словам
Светлова, воплощены в трактате «Дзинно
сётоки» [42, с. 71—75].
Таким
образом, после короткого периода «реставрации
Кэмму» политическая власть
императора, особенно при
Камакурском сёгунате, стала
откровенно номинальной. В этот
период главной социальной функцией
двора оставалось отправление
религиозного культа, в наименьшей
степени подвергшегося
буддийскому влиянию. В то время как
все синтоистские святилища были
преобразованы для отправления
смешанного синто-буддийского
культа, два главных синтоистских
святилища Исэ и Идзумо оставались
чисто синтоистскими [8, с. 519].
В условиях
падения политического влияния
императорского института двор
понимал, что единственной возможностью
для него вписаться в изменившуюся
социальную структуру было
сохранить за собой религиозный
престиж, основанный на ритуальной
роли императорского рода и
синтоистской мифологии. Поэтому в
условиях нехватки финансов, когда
экономическая база существования
двора все более истощалась, при
проведении пышных дворцовых
церемоний (особое значение
придавалось ритуалу «дайдзёсай»)
прибегали даже к продаже
придворных должностей для сбора
недостающих средств. Когда в
начале XIII в. император Тюке при
восшествии на престол смог
провести лишь церемонию «сэн-со» (главным
элементом ее являлась передача «трех
божественных регалий»), а обряды «сокуисики»
(церемония восшествия на трон) и «дайдзёсай»
не отправлялись, в народе это
вызвало насмешливое отношение к
его правлению как «полуцарствованию»
(хантэй).
Из-за
борьбы «северного» и «южного»
дворов, поражения сторонников
концепции монархической власти
Тикафуса Китабатакэ,
подчеркивавших преобладание права
«трех божественных регалий» над
силой оружия, религиозный престиж
института императорской власти
пошатнулся до такой степени, что в
период второго сёгуната — Асикага11,
императорский двор влачил
бедственное существование. С
середины XV в. прекратилось
отправление обрядов, связанных с
императорским культом, не
проводились церемонии «нии-намэсай»
и «дайдзёсай», киотоский двор
пришел в полное запустение,
оказавшись без средств к
существованию. Поскольку
прекратилось проведение церемоний
возведения в сан наследного принца
(после того, как их прошел император
Гокамэяма в
Во время
сёгуната Асикага бакуфу
размещалось в императорской
столице Киото, отношение сегуна к
императору и дворцовой
аристократии было откровенно
непочтительным. Третий сегун
Асикага — Ёсимицу особенно
известен в этом отношении. Он
присвоил своей жене титул, который
давался только императрицам. В ходе
официального визита императора в
сёгунский замок весь церемониал
был направлен на то, чтобы
подчеркнуть равное положение
сегуна и императора.
Во второй
половине XV в. вследствие ослабления
власти сёгуната в стране
развернулась междоусобная борьба
феодалов. Особенно
опустошительной была «смута годов
Онин» (1467—1477). В этот период
положение двора стало поистине
бедственным, императорский дворец
был разрушен, как и значительная
часть Киото. Тело усопшего
императора Токудзи было захоронено
только через шесть недель после его
кончины, а восшествие на престол
другого императора отсрочилось на
20 лет [7, т. 2, с. 204].
В период
междоусобных войн «система
родовитости» (ми-бун сэйдо),
существовавшая со времени законов
рицурё, пришла в упадок. Согласно
этой системе, высота положения в
социальной иерархии определялась
степенью близости к самому
родовитому — императору. В XV —
первой половине XVI в. знатность
происхождения не давала никаких
социальных привилегий и не сулила
экономических выгод, положение в
обществе завоевывалось военной
силой и экономической мощью. Это
привело к большим перемещениям во
всех сословиях и, в частности, к
коренному изменению облика военно-феодальной
аристократии, немалую часть
которой составляли теперь выходцы
из самых низов социальной лестницы.
В японской исторической литературе
этот период очень метко назван «гэкокудзё»
(«низший подавляет высшего», или, в
переводе Н.И. Конрада, — «низы
одолевают верхи»).
Постепенное
падение власти, а затем и престижа
императорского дома объясняется
социально-классовыми сдвигами,
исподволь созревавшими в японском
обществе еще с VIII в. Развитие
феодальных отношений неминуемо
подрывало основы
централизованной политической
структуры, свойственной ранней
государственности. Центробежные
силы укреплявшейся провинции к XV в.
изменили старые порядки,
базировавшиеся на родовитости
происхождения. Правда,
необходимость консолидации страны
для отражения угрозы монгольского
нашествия в XIII в. на какое-то время
оживила интерес к синто с его
огромным этноцентрическим
объединительным потенциалом, что
явилось одной из причин рецидива «прямого
императорского правления» в период
«реставрации Кэмму», но
закономерное движение феодального
общества к этапу политической
раздробленности свело на нет
ставшие ненужными старые
социальные структуры. В этой связи
хотелось бы отметить способность
указанных структур в условиях
японского общества не исчезать
безвозвратно, а, уйдя в тень даже на
длительный период, порождаться в
случае возникновения социальной
необходимости в новых формах, но
со стойким сохранением сущностного
субстрата. Именно так и случилось с
институтом императорской власти.
Возрождение
его значения связано с борьбой за
объединение японского феодального
государства во второй половине ХVI в.,
ведшейся под руководством
сменявших друг друга
военачальников Нобунага Ода (1534—1582),
Тоётоми Хидэёси (1536—1598) и Иэясу
Токугава (1542—1616).
Объединители
страны были заинтересованы в
восстановлении не реальной
политической власти императора, а
его функций главы синтоистского
культа, что должно было усилить
собственное политическое влияние в
стране. Вновь императоры стали
узаконивать власть фактических
правителей, как пишет советский
японист-культуролог Л.Д. Гришелева,
«фактически синтоизм был необъявленным
религиозным знаменем объединения
страны. Именно синтоизм сыграл в
Японии роль той одной религии,
которая является необходимым
признаком этнической общности
народности и существенным
фактором в процессе ее
консолидации и создания
централизованного государства» [15,
с. 14].
И Нобунага
Ода, и Тоётоми Хидэёси принимали
действенные меры к возрождению
религиозного престижа монархии.
Сами выказывая поклонение перед
сакральным значением двора, они
требовали того же от своих
подчиненных. Были выделены средства
для нормального выполнения
некоторых ритуальных функций
императора, позволившие двору в
какой-то мере возобновить жизнь,
соответствовавшую их номинально
верховному положению. Была также
возрождена почетная система
придворных титулов времен «системы
рицурё». И Нобунага Ода, и Тоётоми
Хидэёси удостоились высоких
придворных титулов. Фамилия Тоётоми,
принадлежавшая аристократическому
роду, была пожалована
императором безродному Хидэёси в
знак признания его заслуг перед
троном.
Таким
образом, как отмечает японский
религиовед С. Мураками, «эти
средневековые объединители
сделали основой военного
правительства покровительство
императорского двора, и поэтому
система государства рицурё
формально просуществовала до
периода бакумацу (1853—1867) [99, с. 134].
Победителем
в борьбе за власть, развернувшейся
после смерти Хидэёси (1598), оказался
Иэясу Токугава, который в
Эпоха
Токугава в истории института
императорской власти оказалась
самой сложной для изучения,
несмотря на бoльшую близость к нам
во времени по сравнению, например, с
древностью. В какой-то мере это
обусловлено своеобразным
положением двора, когда полная его
отстраненность от реальной
политической власти не означала
потери общественной значимости.
Напротив, сохранявшееся долгое
время особо почетное, номинально
самое привилегированное положение
императорского двора повлекло за
собой абсолютизацию его сакрально-символической
роли. В период вызревания
национального самосознания
японцев концепция «божественности
и непрерывности императорской
династии» (бансэй иккэй) в разных
интерпретациях становится
центральной объединительной
идеей и перерастает в знамя борьбы
всех сил, оппозиционных по
отношению к феодальному сёгунату.
Согласно Я.
Кинугаса, в японской науке
утвердились три точки зрения на
роль института императорской
власти в период Токугава. Первая (наиболее
распространенная до второй мировой
войны) трактует эту проблему тенденциозно,
в духе концепции «кокутай»12,
отводившей императору роль
верховного правителя вне
зависимости от исторических
обстоятельств. Вторая точка зрения
— теория «распределения (или
разделения) политической власти
между сегуном и императором» (сэйкэн
бунсё) — исходит из официальной
концепции дома Токугава о «препоручении
императором политической власти»
сегуну (дайсэйинин). Существует и
третья оценка, согласно которой
император формально обладал лишь
религиозной властью, а фактически
был низведен до уровня обычного
феодала, подчинявшегося власти
реального правителя Японии —
сегуна, поэтому не играл никакой
роли в политике страны [76, с. 80].
В
последнее время в Японии появились
исследования, преодолевающие
недостаточность любой из этих
точек зрения и фиксирующие
внимание на религиозной и
культурной роли императора на
основе исследования идеологии
периода Токугава, а также
подчеркивающие ритуальное
значение тэнно, опираясь на
изучение системы родовитости и
порядков сельскохозяйственной
общины [109].
Токугава,
подобно Нобунага Ода и Тоётоми
Хидэёси, поддерживали
императорский двор, используя
духовный авторитет императора для
легитимизации собственного
правления. Иэясу распорядился о
закреплении за императорским
двором фиксированного рисового
пайка, точный размер которого
неизвестен (источники дают разные
данные — от 10 тыс. до 150 тыс. коку13
в год). Некоторые исследователи
пишут о наличии небольших
земельных владений у императора [35,
с. 18] или о поступлении средств для
содержания двора с определенных
земель во владениях Токугава [7, vol. 2,
с. 204].
Однако все
ученые сходятся на том, что размеры
жалованья, получаемого двором,
существенно уступали даже уровню
доходов от владений средних
феодальных князей-даймё, не говоря
уже об их несопоставимости с богатством
дома Токугава. Это ставило
императорский двор в экономическую
зависимость от сёгуната. К тому же
была ограничена личная свобода
императоров, в первые годы
правления Токугава изредка
совершавших отдельные выезды в
Киото, а с
Несмотря
на то что регламентации сегуна
обеспечивали почти полную изоляцию
императорского двора, саму по себе
достаточную, чтобы предотвратить
какое-либо влияние императора и
придворных на ход событий за
стенами дворца, сегун осуществлял
строгий контроль над императорским
двором через своего чиновника в
Киото — «сёсидай» (представитель
сегуна), обеспечивавшего связь
между двумя правительствами, и
городского префекта (Кёто мати бугё)
[7, vol. 2, с. 205].
Императорский
двор продолжал жить по законам,
установленным еще кодексом «Тайхорё»:
в пределах двора сохранялись и
правительство (дадзёкан), и система
придворных рангов и должностей,
учрежденные еще в период
существования раннего
государства. Но эти ранги и
должности не означали приобщения к
реальным государственным делам.
Фактическую политическую власть
давали посты в правительстве
сегуна (бакуфу), распределявшиеся
среди «букэ». Таким образом,
император распоряжался лишь
придворными аристократическими
рангами и высшими должностями
знати (кугэ), которая в отличие от
военной аристократии (букэ) могла
служить при дворе. Однако даже эти
прерогативы императора, связанные
с распределением почетных рангов и
должностей, не всецело
принадлежали ему: в случае, если
придворный титул присваивался
феодалу из «букэ», пожалование
производилось по представлению
сегуна.
Считалось,
что император препоручил сегуну
всю власть в областях
административного управления,
военного строительства и внешних
сношений, а сам был занят более
возвышенными сакральными и
духовными функциями [99, с. 141 — 142].
Объяснялось это следующим образом:
«По той же причине, по которой
солнце и луна совершают свой путь,
император обязан сохранять свое
сердце нетронутым. Поэтому он
обитает во дворце, как на небе...
Сегун указывает все
государственные повинности и не
нуждается при отправлении
правительственных дел в разрешении
императора. Когда земля среди
четырех морей неспокойна, то это
вина сегуна» [17, с. 97]. Другими
словами, удаленность императорского
двора от реальной политической
власти интерпретировалась как
естественное следствие его особого
сакрального положения,
требовавшего соответствующего
почитания. Последнее выражалось в
том, что каждый новый сегун из
династии Токугава получал
утверждение этого титула от
императора, продолжая считаться
вассалом императора, а даймё
именовались по отношению к сегуну «байсин»
— «вассалы вассала» [39, с. 255].
Кроме в
значительной мере номинального
права императора жаловать титулы
и должности при дворе за ним сохранялись
также по традиции принадлежавшие
ему права по составлению календаря
и по обозначению девизов годов
правления (гэнго, или нэнго). Только
после утверждения императором
календарь считался официально
принятым. В течение длительного
времени в Японии пользовались
китайским календарем. Однако в
конце XVII в. астрономия и
математика получили в Японии
определенное развитие и был
изобретен первый отечественный
календарь. Воспользовавшись этим
обстоятельством, бакуфу фактически
захватило составление календаря в
свои руки, а император стал лишь
формально утверждать его [99, с. 138—139].
Система
"гэнго" (летосчисление по
девизам правления, устанавливавшееся
императорами) была заимствована из
Китая: первое употребление «гэнго»
относится к периоду социального
переустройства общества по
китайскому образцу, когда был взят
девиз правления «Тайка» («великие
перемены», 645—650). В Китае система
летосчисления «гэнго» имела
большое политическое значение, она
отражала представление о том, что «сын
Неба» царствует не только над
территорией (пространством), но и
над временем. В Японии
сформировалась своя особая система
«гэнго». Прерогатива перемены «гэнго»
принадлежала только императору,
при этом считалось, что таким
образом император магически
воздействует на дела земные. В
случае неурожая, эпидемии,
землетрясения и т.д. перемена «гэнго»
должна была повлечь за собой прекращение
несчастья, а при радостных событиях
служила способом передачи
благодарности Небу. Кроме того,
новое летосчисление вводилось с
вступлением на престол очереднего
императора. Эта прерогатива
императора, тесно связанная с
традиционными представлениями об
особых сакральных связях «божественных»
правителей с космическими силами, и
при сёгунате Токугава сохранялась
за императором. Однако отражением
могущества сёгуната были довольно
частые случаи смены «гэнго» в
соответствии со сменой сегунов и,
наоборот, сохранение в некоторых
случаях прежнего девиза правления,
несмотря на восшествие на престол
нового императора [99, с. 139—141].
Итак, даже
те незначительные
административные прерогативы,
которыми располагал император в
начале правления сёгуната Токугава,
в дальнейшем были окончательно
формализованы, что исключало
возможность для тэнно оказывать
какое-либо влияние на принятие
политических решений. Посмотрим
теперь, что произошло с другими
правами императорского двора,
традиционно обеспечивавшими его духовный
престиж.
Император
имел глубокие и прочные связи с
буддизмом и буддийскими храмами и
монастырями. Однако после событий,
получивших в японской литературе
название «инцидента с фиолетовыми
рясами» (сии дзикэн), эти отношения
были существенно подорваны. Дело в
том, что символом духовной власти
императора в буддийских кругах
считалось право императора
назначать настоятелями наиболее
влиятельных буддийских храмов
священнослужителей высших рангов (носивших
фиолетовые рясы). Однако Токугава,
стремившиеся ослабить
существовавшие с древности узы
между императором и буддийским
духовенством, вначале ограничили,
а затем и вовсе отменили это право
императора. В «Предписаниях о
санкции императора,
распространяющейся на
священнослужителей в фиолетовых
рясах» («Тёккё сии хатто»), изданных
в
Политика
Токугава, направленная на полное
подчинение сёгунату всех
буддийских храмов и создание
иерархической религиозной
структуры «сёгунат—буддийские
храмы—массы», полностью
исключала из этой структуры
императора и придворную
аристократию. И хотя окончательно
пресечь связи императора с
буддийским духовенством не удалось,
все же возможность поддерживать в
массах духовный авторитет
императора через буддийские храмы
была существенно подорвана.
Совсем
иную позицию заняли Токугава в
отношении религиозного престижа
императора как главы синтоистского
культа. В синтоизме сегун не мог
соперничать с положением
императорского дома, прочно
защищенным системой сакральных
генеалогий, поэтому военные
правители пошли по пути активного
использования религиозного
авторитета императора в синтоизме
для укрепления собственного престижа.
Кроме того, в начале правления
сёгуната синтоистские святилища и
духовенство не имели
самостоятельного значения и в
политическом, и в идеологическом
отношении из-за засилья буддизма.
Все это обусловило сравнительно
менее жесткий контроль сёгуната
над синтоистским религиозным
комплексом. По иронии судьбы именно
синтоизм, подкрепленный
конфуцианством, в последний век
господства Токугава явился
идеологической опорой
антисёгунского движения за
реставрацию императорской власти.
Еще
Нобунага Ода возродил
использование синтоизма для
освящения политической власти: он
объявил себя живым богом и требовал
религиозного поклонения в
масштабах всего государства [42, с. 90].
Тоётоми Хидэёси также после смерти
был возведен императором в сан
синтоистского божества Тоёкуни
даймёдзин.
Первый
сёгун Токугава — Иэясу пожелал
после смерти стать божеством—охранителем
своего дома, однако, для того чтобы
обожествление получило
общественное признание, необходимо
было получить благословение
императора. В
Но, «освятив»
дух своего прародителя, Токугава
были вынуждены пойти на
восстановление прерванной в годы
междоусобных войн посылки такого
же рода императорских представителей
на ежегодные празднества в Исэ, на
которые сёгунат выделял
специальные средства [99, с. 88—89].
Обращение к императору как к
высшему авторитету в синтоизме для
укрепления собственного духовного
престижа повлекло за собой
усложнение взаимоотношений
сёгуната и двора. Противоречивая
политика сёгуната Токугава
неминуемо вела к медленному, но
верному укреплению авторитета
императора.
Токугава
стремились превратить лрам Тосёгу
в религиозный центр страны. Во
всех княжествах по указу сёгуната
строились филиалы Тосёгу (к
середине XIX в. их насчитывалось около
200) [42, с. 91—92]. Однако, хотя
структура синтоизма, связанная с
мифологией, легко поддавалась подобным
нововведениям, Токугава не могли
возводить свою генеалогию к высшим
божествам синтоистского пантеона,
поэтому не удалось создать на
основе новых культов новую
государственную идеологию.
Необходимость в строгом контроле
и регламентации всей общественной
жизни страны в условиях
начавшегося разложения феодальных
порядков, а также возрождение
синтоизма как главной духовной
опоры формирующегося
национального самосознания
вынудили сёгунат восстановить
многие главные ритуалы
императорского двора.
Невозможность обойтись без
императора объяснялась традиционным
положением тэнно как верховного
священнослужителя синтоистского
культа. Только император, согласно
синтоистским верованиям, мог
обращаться от имени всех японцев к
верховным богам синтоистского
пантеона, происхождение от
которых позволяло императору,
получившему «три божественные
регалии», общаться (при отправлении
ритуалов) с Аматэрасу и духами
предшествовавших тэнно, делало его
высшим и незаменимым духовным
авторитетом страны, обладающим
мистическим знанием «пути богов» и
не дающим всей стране отклониться
от этого пути. Кроме того,
обрядность императорского двора
органично венчала синтоистские сельскохозяйственные
«мацури», продолжавшие играть
ведущую роль в японской деревне.
Обычно и в
японской литературе, и в советской
при определении функций института
императорской власти в токугавской
Японии прибегают к анализу
положений «Предписаний для
императорского двора и придворной
аристократии»
Статья 10,
которую также обычно цитируют,
касается круга занятий,
признаваемых сёгунатом особо
важными для придворных: «Повышение
в чинах производится так, как то
установлено обычаем для каждого
дома. Повышаются в чинах вне
очереди лица, выказавшие ученость,
способности по службе и таланты в
стихосложении» [35, с. 173].
На
основании содержания этих двух
статей кодекса во многих японских
работах делается вывод о том, что
сёгунат нуждался в императоре и
придворной аристократии как «носителях
традиционной культуры, центром
которой был Киото». Причем часто
понятие «традиционная культура»
расшифровывается как поэзия, наука
и искусство. Эта точка зрения в
несколько иной форме получила
распространение и в советской
науке. Так, Л.Д. Гришелева пишет: «Кодекс
отводил императору и придворной
аристократии роль символа
единства народа и функцию носителей
и хранителей культурных традиций,
являющихся важной составной частью
культурного наследия нации» [15, с. 23].
Правда, она отмечает, что «император
продолжал выполнять религиозный
обряд, связанный с поклонением
главному божеству синтоистского
пантеона — богине солнца Аматэрасу,
и обряды и церемонии, имевшие многовековую
традицию, например связанные с
посадкой риса и уборкой урожая» [15,
с. 97], но в ее оценке социальной
значимости ритуала императорского
двора в ряду других занятий акценты
несколько смещены. Это и приводит
исследователя к неточному, на наш
взгляд, выводу: «Придворная
аристократия... как активная
творческая сила в сфере духовной
жизни нации на этом этапе не играла
сколько-нибудь существенной роли» [15,
с. 97].
Политическая
пассивность двора не означала
полную отстраненность от всех форм
социальной деятельности. Император
и придворная аристократия
выполняли такую важную для
тогдашнего японского общества
функцию, как церемониал, имевший
многовековую традицию, и прежде
всего синтоистский ритуал
императорского двора, без которого
распадался на неуправляемые и не
связанные между собой части весь
ритуальный, а следовательно, и
мифологический комплекс
синтоизма, зиждившийся на
сакральных генеалогиях.
Нельзя не
согласиться с Я. Кинугаса:
заинтересованность Токугава в
сохранении императорского двора
определялась особой, неотъемлемой
принадлежностью последнего — дворцовым
этикетом, основанным на традициях,
восходящих к этапу древнего
монархического государства. Именно
церемониал составлял главное в
бытовой культуре императора и
придворных [76, с. 90].
Только
признав этот факт, можно понять
реальные функции киотоского
императорского двора в жизни
общества токугавской эпохи и
объяснить, почему сегуны Токугава
непременно прибегали к узаконению
своей власти специальным
придворным ритуалом. Функции
императорского двора как хранителя
и носителя традиционной культуры
можно осознать, только понимая «традиционную
культуру» в широком смысле, как
включающую в качестве главной составной
части ритуальную почетную
прерогативу, обеспечивавшую
исключительное положение
придворной аристократии во главе
с императором в иерархической
структуре общества.
А как же
быть с первой статьей «Предписаний
для императорского двора»,
провозглашающей, что «для императора
науки составляют главное»? Тут нет
никакого противоречия. В XVII в. под
«ученостью» понимали овладение
знаниями, передаваемыми в семье из
поколения в поколение, поэтому «ученость»
двора означала прежде всего «науку
управлять», которая заключала в
себе знания священных
синтоистских книг, глубокие
познания в конфуцианстве,
культивирование добродетелей
путем совершенствования в
искусствах, а главное — знание
этикета придворных церемоний, так
как именно правильное отправление
ритуала обеспечивало, согласно
традиционным представлениям,
следование пути, предначертанному
богами Японии, гармоничное и
спокойное развитие общества.
Неспособность
вновь введенных празднеств
сёгуната и ритуалов самурайского
сословия заменить собой
государственный церемониал двора
свидетельствовала о сохранении в
японском феодальном обществе
представлений, основанных на
синтоистской мифологии, когда
социальный статус определялся
степенью сакральности
происхождения — самую высшую
ступеньку занимал императорский
род, ведший свою родословную от
верховной богини синтоистского
пантеона — Аматэрасу.
Другими
словами, с появлением первых
признаков ослабления господства
правительства-бакуфу строгая
иерархическая система сословного
деления и регламентация во всех
сферах жизни феодального общества
все больше нуждались в
подкреплении формальной
обрядностью двора, связанной с
мифологизированным прошлым страны.
Убедившись в недостаточности
относительно недавно разработанной
обрядности и церемониала военного
дворянства (самураев) для
поддержания незыблемости
иерархической структуры общества в
масштабах государства, с конца XVII
в. сёгунат сознательно проводит
политику на восстановление таких
важных для узаконения иерархии
социальных отношений ритуалов
императорского двора, как церемония
возведения в сан наследного
принца (1683 г.), дайдзёсай (
Как же
объяснить тот факт, что в XVII в. для
узаконения отношений использовались
в значительной мере
формализованные обряды, в основе
своей предназначенные для
воспроизводства отношений
господства императора и придворной
аристократии времен древнего
государства? Дело в том, что только
эта обрядность могла приобщить
сегунов Токугава к высшим
сакральным генеалогиям императорского
дома и таким образом дать
возможность косвенно получить «благословение
на правление» от высших синтоистских
богов. Обязательные придворные
ритуалы, связанные с узаконением
императором каждого нового сегуна,
символизировали признание сегуна
полномочным представителем
императора перед лицом всех
небесных и земных божеств, в том
числе божественных духов
предшествовавших императоров.
Формализованность же и
оторванность ритуалов от реальных
отношений господства лишь делали
их более удобными для сёгуната, так
как позволяли поставить
религиозные функции двора под
контроль бакуфу. Забегая вперед,
отметим, что только тогда, когда
феодальный режим Токугава стал
терять свою силу и не мог
осуществлять прежний контроль в
обстановке широкого
распространения идей «тобаку» («свержения
сёгуната»), обрядность императорского
двора стала работать на подрыв
сёгунского правления и утверждение
реставрации монархической власти.
Обратимся
теперь к сфере идей. Как же
обосновывались в токугавской Японии
столь сложные взаимоотношения
между императором и сегуном? При
анализе различных идеологических
интерпретаций «двоевластия»
обнаруживается следующее. В
тогдашней Японии циркулировал
достаточно широкий диапазон
теорий, доказывавших законность
власти сегуна и положения
императора, при этом официально
признававшиеся, допустимые
концепции о роли императора от теорий
о приоритете императорской власти,
рассматривавшихся в качестве
крамолы, отделяла весьма тонкая
грань. С развитием же феодализма и
постепенным формированием
национального самосознания все
большую роль начинают играть
теории реставрации императорской
власти — от «национальной науки»,
представлявшей собой лояльную
оппозицию официально признанному
ортодоксальному чжусианству15,
до теории свержения сёгуната,
изгнания иностранцев и почитания
императора, послужившей идеологическим
обоснованием незавершенной
буржуазной революции Мэйдзи.
Хотя
официальной государственной
идеологией в период господства
Токугава было объявлено
конфуцианство чжусианского толка,
в общественно-политической мысли
Японии этой эпохи преобладал синто-конфуцианский
синтез, соединявший в той или иной
форме конфуцианские этико-политические
принципы с интерпретацией
мифологических символов местного
синтоизма.
Одним из
первых официальное отношение к
императору при сёгунате Токугава
выразил виднейший проповедник
чжусиансхого неоконфуцианства
Радзан Хаяси (1583—1657). Согласно его
теории, призванной оправдать
отстранение императора от реальной
власти, сегун являлся главой единой
семьи, даймё — ее членами, а
император почитался всеми как
икона, которой молятся (подробный
разбор воззрений Хаяси см. [39, с. 287—296]).
Радзан Хаяси был также одним из
первых официальных идеологов,
состоявших на службе у сегуна,
стремившихся «обновить» синтоизм
конфуцианскими принципами, что
призвано было сделать синтоизм
способным выстоять и борьбе с
буддизмом, против влияния которого
выступал Радзан Хаяси.
Среди
мыслителей XVII в. широко была
распространена теория о том, что
императоры «поручают» Токугава
управление страной (дайсэйинин
рон), некоторые даже делали из этого
вывод, что отправление сегуном
своих обязанностей правителя — не
более чем служение императору и
двору [76, с. 82—83].
Во второй
половине XVII в. появляются учения,
ставящие в центр моральных
принципов регулирования поведения
всех сословий идею «почитания
императора». Авторы такого рода
теорий получили позднее
наименование «кин-нока» («императорские
лоялисты»), или «соннока» («поклоняющиеся
императору»). Наиболее известными «киннока»
считаются Ансай Ямадзаки (1618—1682),
Бандзан Кумадзава (1619—1691) и Соко
Ямага (1622—1685). Не следует, однако,
полагать, будто «императорские
лоялисты» призывали к реставрации
политической власти трона.
Напротив, в своих теориях они
исходили из политической
пассивности института
императорской власти, утверждали,
что фундаментальным принципом
гармоничных отношений служит не
страх перед власть имущими, а
почитание священных идеалов.
Ямадзаки
создал синкретическое синто-конфуцианское
учение на ярко выраженной
этноцентристской основе, получившее
название «суйка синто» («суйка» —
сокращенное название главного
тезиса этого религиозного
направления). Учение Конфуция он
сводил к проповеди внутренней
почтительности, якобы
свойственной от природы всем
японцам, поскольку они порождены
богами, которые продолжают жить в
них и действовать через них. Эта
внутренняя почтительность
воплощается в верноподданности и
сыновней почтительности, в
принципах почитания верховного
правителя государства-семьи (подробно
об этом см. [39, с. 306— 313]). Считая
японского императора
тождественным Небу, в отличие от
китайского, бывшего лишь «сыном
Неба», Ансай Ямадзаки выдвигал идею
о том, что из всех правителей лишь
тэнно достойны абсолютного и
безусловного почитания. Именно
присущие трону «божественные»
добродетели, поскольку на нем
восседают живые потомки богов,
согласно учению Ямадзаки,
составляли основы особого духа
японцев — «духа Ямато». Почитание
богов и императора способствовало,
по словам Ямадзаки, самосовершенствованию,
высшим идеалом которого было стать
после смерти духом — защитником
государства и императора.
Из «императорских
лоялистов» наиболее стройную
теорию, убедительно трактующую
взаимоотношения императора,
сегуна и подданных, выдвинул
Кумадзава. В «Книге о принципах
гармонии» («Сюгивасё») он пишет, что
в Японии, в отличие от других стран,
тот, кто подчиняет своей
власти страну, не становится
монархом, не становится тэнси («сыном
Неба»), поскольку тэнно, являющийся
потомком богини Аматэрасу, наследует
«небесное правление». Богиня
Аматэрасу направляет рожденных на
Земле людей, недалеко ушедших от
птиц и зверей, по истинному пути.
Эта кровная связь императоров
с богиней Аматэрасу, «открывшей»
Японию, не допускает посягательств
на поддерживаемую магической
силой небес власть со стороны
простых смертных. Бандзан
Кумадзава таким образом дополнил
этическими рассуждениями
существовавшую с древности
концепцию «божественности и
непрерывности императорской
династии», опиравшуюся на
синтоистские мифы. Переход же
власти в руки военного дворянства
Кумадзава объяснял потерей «скромности»
монархами и считал невозможным
возврат к прямому правлению
императоров. Вместе с тем Бандзан
Кумадзава учил, что только
благодаря существованию
императора и киотоского двора
Япония зовется страной «благородных
людей» (по терминологии
конфуцианства) и изящных искусств,
где соблюдается этикет. Если бы не
было императора и придворной
аристократии и страна оказалась
под властью лишь военного дворянства,
не отличающегося от других японцев
ничем, кроме военной силы, то через
200—300 лет, по глубокому убеждению
Кумадзава, Япония пришла бы в
упадок. Таким образом, именно
император и придворная
аристократия, обладавшие, по мнению
Кумадзава, прирожденным знанием
церемониала и изящных искусств,
привносили в общество культурное
начало, делали его моральным и
обеспечивали поддержание порядка.
Кумадзава провозглашал императора
также источником мира и гармонии в
стране, исходя из конфуцианского
принципа «тайги мэйбун». Двор с
его разработанным этикетом — это
наглядный образец правильно понимаемого
иерархического порядка. Сегун, оказывая
должное почтение императору,
собственным примером
демонстрирует, что, как и следует из
конфуцианских идеалов, отношения
между сюзереном и вассалом должны
строиться на основе обоюдного
долга [76, с. 92—95]. Кумадзава считал
этот момент очень важным для
успешного распространения идеи «тайги
мэйбун» среди всех слоев общества,
начиная с феодальных князей. Император,
не обладавший реальной силой, но
имевший качественно иную природу,
нежели все остальные японцы,
наиболее плодотворно выполнял роль
символа власти благодаря
добродетели, а не силе.
Концепция
Бандзан Кумадзава оказала весьма
существенное влияние на умы его
современников и была в дальнейшем
воспринята и развита теми
идеологами, которые использовали
аргументацию этого ученого для
доказательства необходимости
вернуть политическую власть
императору, хотя содержавшиеся в
его концепции идеи «почитания
императора» не противоречили
верности сегуну.
Третий из
упоминавшихся «императорских
лоялистов» — Соко Ямага
принадлежал к школе когаку («классического
конфуцианства», или «древней науки»),
отрицавшей истинность
чжусианства и призывавшей
вернуться непосредственно к учению
Конфуция и Мэн Цзы. Ямага считал,
что в Японии как «божественной»
стране благодаря почитанию
императора еще соблюдается
величайший долг абсолютной
лояльности и преданности
вышестоящим. Ямага сумел органично
соединить синтоистскую идею «почитания
императора» с положениями
морального кодекса самураев — «бусидо»,
что в дальнейшем обусловило особое
внимание националистических
идеологов к его взглядам.
Если
попытаться наметить общие моменты,
свойственные теориям всех «императорских
лоялистов» XVII в., то кратко их можно
сформулировать так. Во-первых,
императорская династия
обеспечивала сакральные связи с
местными синтоистскими богами,
поэтому совершенно необходимым для
жизнедеятельности общества
провозглашался церемониал
императорского двора как средство
обеспечения покровительства
богов. Во-вторых, правление сегунов
Токугава объявлялось праведным (исходя
из критериев конфуцианской морали),
так как только Токугава
восстановили должное почетное
положение императорского двора,
что и привело к прекращению
междоусобиц и беспорядков в стране.
В-третьих, почитание сегуном
императора обеспечивало, согласно
воззрениям «императорских
лоялистов», распространение
конфуцианской морали среди всего
народа. Одним словом, все «императорские
лоялисты» учили, что учение
Конфуция не противоречит синтоизму,
более того, последний может черпать
в нем принципы для обоснования
верноподданности государю.
Качественно
новый этап в идеологической
обстановке наступает со второй
половины XVIII в., когда ощутимо
обострился кризис феодальной
системы и лучшие умы, искавшие
выход из создавшегося положения,
стали теоретически осмысливать
пути национального возрождения. В
обстановке довольно строгой и
длительной изоляции страны, а
также следуя давней традиции,
большинство критически
настроенных мыслителей обращались
к истокам местной культуры, к
изучению памятников страны для
воссоздания чисто японского пути.
Все они чрезмерно идеализировали «путь
Японии в древности», поэтому всем
им и был свойствен
гипертрофированный японоцентризм,
крепко спаянный с идеей почитания
императора.
50—70-е годы
XVIII в. отмечены появлением первых
активных сторонников реставрации
правления императора. Так, при
дворе императора Момодзоно стал
распространять свои идеи один из
многочисленных последователей
Ансай Ямадзаки — Сикибу Такэноути (1712—1767).
Согласно учению Такэноути, право
императора на власть,
обусловленное его «божественным»
происхождением, реализуется
только при усердном
совершенствовании императором
своих добродетелей через учение.
Читая придворным лекции по «Нихон
секи», Такэноути открыто допускал
возможность передачи сегуном управления
страной императору, если
последний будет обладать высокой
ученостью. В
Таким
образом, возросшее влияние двора
привело к движению за реставрацию
императорской власти, хотя сами
императоры не выступали против
сёгуната. Последний силой сумел на
какое-то время подавить активное
проявление этой тенденции. Однако с
конца XVIII в. движение за
восстановление императорской
власти продолжает все более
явственно идейно оформляться, хотя
на первых порах его идеологи,
подчеркивая важность
существования императорского
дома, не решались открыто выступить
за свержение власти сегуна. Именно
идеи этого направления, и прежде
всего идея «почитания императора»,
послужили в последние годы
сёгуната Токугава знаменем
антисёгунского движения.
Особую
роль в идеологической подготовке
реставрации императорской власти
сыграли чжусианская школа Мито (Мито
гакуха), а также школа «национальной
науки» (коку гаку ха), выступавшая
с антиконфуцианских позиций «за
возрождение синто древности» (фукко
синто) под флагом борьбы с засильем
в японском обществе «китайской
науки». Окончательно доктрина «божественной»
власти императора сложилась на
основе соединения идейного
материала, выработанного этими
двумя теоретическими потоками
проимпера-торского движения,
характеризовавшимися
этноцентристской интерпретацией
задач, стоявших перед японским государством.
В первый
период своей деятельности (начало
XVII — первая половина XVIII в.) школа
Мито мало отличалась от других
неоконфуцианских школ.
Принадлежавшие к ней ученые
сосредоточились на написании
истории Японии, исходя из
конфуцианской концепции «тайги
мэйбун». Правда, исследователи
отмечают уже тогда проявившийся
тенденциозный подход историков из
клана Мито к династийной
историографии, явное стремление
возвысить императорскую династию.
Второй
период деятельности школы (со
второй половины XVIII в.) связан с
выработкой и распространением
политико-философской концепции
возрождения безраздельной
императорской власти на основе
преимущественно синтоистских догм
(конфуцианские идеи привлекались
лишь для их объяснения). Наиболее
выдающимися идеологами школы были
Нариаки Токугава (1800—1860) и Сэйсисай
Айдзава (1781—1863).
В начале XIX
в. школа Мито выдвинула лозунг «сонно
дзёи» («почитание императора,
изгнание варваров») как
единственно возможный путь
водворения порядка внутри страны и
сохранения ее национальной
независимости перед лицом угрозы
внешнего вторжения западных держав.
Митосцы особо подчеркивали
значение конфуцианского принципа
«тайги мэйбун», который они
понимали прежде всего как
священную с точки зрения синтоизма
верноподданность императору.
Проповедовались доктрины «синдзю-фуни»
(«синтоизм и конфуцианство едины»)
и «тюко-иппон» («единство
верноподданности и сыновней
почтительности»). Император
объявлялся не только единственно
законным высшим сувереном страны,
но и отцом всех подданных, в результате
чего Япония рассматривалась как «государство-семья»
(кадзоку кокка).
Сэйсисай
Айдзава в
Проповедь
«почитания императора», так явно
прозвучавшая в историко-философских
работах школы Мито, была еще
более характерна для «кокугакуся»
— представителей школы «национальной
науки», возникшей в XVII в. как филологическое
направление исследования японских
классических книг. Позже такое
изучение стало преследовать и
идеолопические цели: уяснить
особенности «пути Японии в
древности», в котором ученые
рассматриваемой школы видели
единственный идеал. Они призывали
восстановить синтоизм времен «Кодзики»
и «Нихон секи», особо акцентируя
свойственные мифологии
японоцентристские идеи и восхваляя
древнюю монархическую систему.
Осуждение преклонения перед Китаем,
поистине титанический труд по
комментированию и изучению древней
японской классики сочетались у
ученых школы «национальной науки»
с фанатической проповедью
японоцентркстских идей, в которых
культура Японии представала как
высшая в мире, избранная. Известный
японский исследователь С. Иэнага
писал: «Все свои силы они отдавали
изучению памятников старины,
стараясь понять, в чем же состоял в
прошлом чисто японский путь,
прежде чем он получил искаженное
толкование благодаря китайской,
буддийской идеологии, то есть,
говоря языком кокугакуся,
благодаря «танской душе», «буддийской
душе» [22, с. 169].
Наиболее
известными «кокугакуся» были
Мабути Камо (1697—1769), Норинага
Мотоори (1730—1801) и Ацутанэ Хирата (1776—1813).
Несмотря на заявления о необходимости
полного отказа от китайских идей,
религиозных постулатов и
институтов, проповедники «возрождения
синто древности» неосознанно, а
иногда отдавая себе в этом отчет,
прибегали к помощи китайского
идейного наследия, и прежде всего к
конфуцианским этико-политическим
принципам, для обоснования
положений своего учения. Во всех
книгах, объявленных неосинтоистами
источниками «чистого» синто,
имелись наслоения китайских
доктрин, тем не менее
провозглашалось, что указанные
книги выражают «незамутненную
японскую синтоистскую традицию». К
таким книгам учеными-кокугакуся
были отнесены первые летописно-мифологические
своды — «Кудзики» (
Мабути
Камо, первый значительный
религиозный деятель движения «национальной
науки», призывал изучать «эру богов»
для того, чтобы вернуться к древним
японским порядкам с императорской
властью, он объяснял упадок влияния
императорского двора пагубным
воздействием китайских идей [163, с.
144—145; 186, с. 2—5, 9—15]. Его ученик
Норинага Мотоори, посвятивший 30 лет
научной деятельности составлению
комментария к «Кодзики» и причисляемый
японской традицией к ученым самого
высокого ранга, опирался на древние
тексты для подкрепления своих
религиозных догматов, служивших
восхвалению «нерушимой в веках
божественной императорской
династии». Отсутствие в синтоизме
разработанного канона и
развернутого морального учения
Мотоори объявлял особым
достоинством национальной
религии, деяния богов он считал
выше человеческого понимания, а
древних японцев — моральными в
своей первооснове и не
нуждающимися, подобно китайцам, в
этических постулатах.
Вот как,
например, Мотоори аргументировал
свою доктрину «божественности»
императорской власти и
превосходства Японии: «Испокон
веков каждый император является потомком
богини (Аматэрасу). Его дух
находится в идеальной гармонии с
духом и чувствами богини. Он не ищет
новых решений, а правит в согласии с
прецедентами, имевшими место, начиная
с эры богов. А если он сомневается,
то прибегает к ворожбе, которая
раскрывает ему волю великой богини.
Не только император, но и его
министры и народ также действуют
в согласии с традициями эры
богов. Таким образом, в древности
идея «мити» (пути), т.е. вопросы
морали, никогда не обсуждалась. В
древние времена, хотя в Японии
тогда не существовало учений,
народные волнения не возникали, а
правление в империи протекало
мирно. Это объясняется тем, что
японцы были поистине моральны в своих
действиях и им не требовалась
теория морали. А шум вокруг
моральных принципов, который
подняли китайцы, связан с
отсутствием моральности в их
практической деятельности» [163, с.
46—47].
Ацутанэ
Хирата, считавший себя духовным
учеником Мотоори, был наиболее
колоритной фигурой движения за
возрождение синто древности. Он
сочетал в себе черты настоящего
ученого с типичным религиозным
фанатизмом, приводившим его к
проповеди иррационального и японо-центристским
утверждениям. В своих
теологических изысканиях Хирата
повторял излюбленные тезисы
неосинтоистов о том, что Япония —
страна богов, а японцы — прямые
потомки богов, но главным в
его учении был тезис об определяющем
значении синтоистского культа императора
и синтоистской догматики,
включающей в себя, согласно его
утверждениям, все науки мира, для
судеб Японии. Хирата провозглашал
нравственное и духовное
превосходство японцев, сотворенных
богами, над всеми другими народами.
В «Великих принципах синто» («Дзоку
синдо тайи») он писал: «Мы все,
вызванные к существованию деятельностью
духов наших священных предков-ками,
от рождения обладаем знанием пути
богов. Это означает, что от природы
мы наделены добродетелью
почитания богов, правителей и
родителей, добротой к жене и детям,
т.е. теми моральными качествами,
которые в конфуцианстве названы „пятью
великими этическими отношениями"
и „пятью добродетелями"17,
и следовать этому естественному
предначертанию, не сворачивая с
пути и не изменяя ему, означает
согласовывать свои действия с
учением ками» [5, т. 1, с. 399].
Отправление религиозных обрядов в
честь богов, согласно учению Хирата,
с древних времен было основной
функцией императора; божественная
прародительница тэнно Аматэрасу
учила, что все в мире зависит от «воли
божеств Неба и Земли»,
следовательно, поклонение богам —
первая обязанность императора,
которому для праведного правления
кроме этого остается только
добиться повиновения подданных и
любить их. Долгом же подданных
Хирата считал следование примеру
праведности верховного правителя и
почитание его в качестве «живого
бога».
Таким
образом, теории ученых школы «национальной
науки» и школы Мито,
способствовавшие пробуждению
национального самосознания,
возводили в центр своих
философских построений идею
почитания императора, повышения
его религиозного престижа на
основе синкретического
соединения конфуцианского
наследия и традиционных
представлений синтоизма.
В первой
половине XIX в. среди наиболее
дальновидных советников сегуна,
придерживавшихся теории
разделения политической власти
между сегуном и императором, начинает
формироваться идея о необходимости
более широкого использования
авторитета императора для
стабилизации слабевшего режима
сёгуната. Эти идеологи выступали с
рекомендациями упорядочить ритуал
императорского двора, а также
покончить с затворничеством
императора: дать возможность
императору совершать
паломничества в различные
синтоистские храмы, сделать обряды
императорского двора доступными
для глаз широкой публики. Такие
меры представлялись многим
деятелям бакуфу полезными для
укрепления религиозного престижа
императора среди широких масс, что,
по их замыслу, должно было упрочить
правление Токугава. Однако, когда
подобные рекомендации были
наконец реализованы и в
В
последние годы сёгуната «упадок и
разложение господствующего
класса феодалов в Японии
проявились ярче, чем созревание
буржуазии как класса» [15, с. 181],
поэтому особенностью Японии в
период кризиса феодальной системы
и складывания революционной
ситуации была политическая
оппозиционная активность в среде
самого господствующего класса —
самурайства, которое проявляло
заинтересованность в перестройке
социальной и государственной
системы. К середине XIX в.
токугавским режимом было
недовольно большинство населения
страны. Наблюдался заметный рост
крестьянских восстаний и
выступлений городской бедноты.
Борьба между защитниками бакуфу и
их противниками шла практически в
каждом княжестве. В такой
накаленной обстановке
насильственное «открытие» страны и
заключение правительством
неравноправных договоров в 1854—1858
гг. с рядом западных держав послужило
толчком к началу гражданской войны.
Ведущей
силой массового движения за
свержение сёгуната стали самураи,
оставшиеся без сюзеренов, — роняны,
к ним присоединялись богатые и
средние слои крестьянства, горожане.
Особенно активными действиями в
свержении сёгуната отличались
отряды юго-западных и западных княжеств,
наиболее развитых в социально-экономическом
плане. Столкновение с Западом, угрожавшее
потерей независимости страны,
всколыхнуло чувства патриотизма
среди самых широких социальных
слоев. Как пишет С. Иэнага, «страх
перед „черными судами" и
ненависть, порожденная вздутием цен
в результате открытия внешней
торговли, вызвали к жизни
неизвестную ранее идею изгнания
всего иностранного и одновременно
впервые заронили в души японцев
идею государственности Японии,
противостоящей загранице» [22, с.
181]. Эта не совсем еще ясная идея
единого национального государства
как средства защиты всех от внешней
опасности могла в Японии середины
XIX в. выразиться только в виде «почитания
императора», так как традиционно идеал
милостивого и снисходительного
правления, да еще обеспечивавшего
покровительство стране со стороны
местных богов, связывался в представлении
японцев с императорской властью.
Безусловная и безграничная преданность
благу Японии, свойственная в начале
XIX в. лишь передовым японцам («патриотам
баку-мацу»), стремительно
распространилась на большую часть
восставших против режима сёгуната,
неспособного защитить честь и
независимость страны от
посягательств иностранных держав.
Реставрация
императорской власти в результате
незавершенной буржуазной
революции 1867—1868 гг. объяснялась,
таким образом, в равной мере
политическими и идеологическими
причинами. Она логически вытекала
из основной направленности
массового движения за свержение
изжившей себя феодальной системы
власти сёгуната. Это движение,
охватившее самые широкие
социальные слои, проходило под
лозунгом «сонно дзёи» («почитание
императора, изгнание варваров») и
идеологически опиралось на
формировавшееся национальное
самосознание, обращавшееся к
местной религии синто. И хотя новым
синтоистским теориям не удалось
обойтись без заимствований из
других религиозных систем, пафос «возрождения
истинной национальной веры» как
залог новой, лучшей жизни был
использован новым правительством
Мэйдзи18 для консолидации
страны в условиях кризиса,
внутренних волнений и беспорядков.
Здесь
уместно поставить вопрос о степени
распространения монархических
настроении в среде простого народа.
Многие прогрессивные японские
ученые при исследовании этого
вопроса, на наш взгляд, не могут
быть полностью объективны, так как
считают своим долгом опровергнуть
утверждения монархической
довоенной пропаганды о том, что
политическое возрождение
императора опиралось на народную
поддержку. Основными поборниками
возрождения монархии в
предреволюционные годы
действительно выступали
низкоранговое самурайство,
горожане, зажиточные крестьяне,
однако представляется, что
монархические настроения не могли
не отразиться на политическом сознании
и низших, наиболее угнетенных слоев
города и деревни. Лишь один факт,
что мошное восстание в г. Осака в
С.
Мураками, характеризуя настроения
во время революционных событий,
приведших к свержению сёгуната и
реставрации монархии (осэй фукко),
пишет: хотя среди самураев, которые
состояли на службе у князей,
принадлежавших к лагерю «почитателей
императора», а также среди патриотов,
уже не состоявших в вассальных
отношениях, но всецело посвятивших
себя движению «сонно дзёи», были
трезвл мыслящие деятели, в целом
чувства по отношению к императору
приняли сильный религиозный
оттенок. Идеализировалась
политика императоров, образцом императорского
правления провозглашалась
политика трона во время «реставрации
Кэмму». Поэтому верноподданные «южного»
двора, показавшие пример
беззаветного служения император v,
стали почитаться как божества.
В данном смысле наиболее
показательным является возникший в
период ба-кумацу культ Масасигэ
Кусуноки. В день его гибели стали
собираться патриоты, отправлять
ритуал поминовения всех погибших
во славу трона и, вызывая души
погибших, клясться им продолжить их
дело. В дальнейшем за образец
императорского правления были
выбраны события мифологической
древности — «основание
государства императором Дзимму»,
поскольку «реставрация Кэмму»
окончилась неудачно для трона, что
невольно создавало мрачную перспективу
борьбы. Но и культ Кусуноки получил
весьма широкое распространение в
период бакумацу [99, с. 144]. После революции
Мэйдзи в честь Кусуноки был
воздвигнут синтоистский храм
Минатогава, а сам он стал
официально признанным образцом
верноподданного самоотречения. В
Японии многим известны приписываемые
ему слова о том, что «погибший
за императора возродится семь
раз и будет всегда разить врагов
священного трона».
Глава 2
ИДЕОЛОГИЯ
ТЭННОИЗМА В ПЕРИОД ГОСПОДСТВА ИМПЕРАТОРСКОЙ
СИСТЕМЫ
(1868—1945)
После
завершения борьбы между
сторонниками сёгуната и
поборниками реставрации
императорской власти в пользу
последних перед новым
правительством встала задача
ускоренного укрепления страны в
экономическом и военном отношении,
сформулированная лидерами Мэйдзи в
виде лозунга создания «богатой
страны и сильной армии» (фу-коку
кёхэй). Необходимость
осуществления этой задачи в
кратчайшие сроки была обусловлена
давлением западных держав и
угрозой потери национальной
независимости страны.
Новоявленные
правители Японии оказались в
сложном положении. С одной стороны,
было ясно, что без модернизации по
западному образцу всех сторон
жизни общества, без переустройства
его на новой основе решить
поставленную задачу
исключительно трудно. С другой
стороны, чрезмерное увлечение
западными науками и идеями было
чревато потерей самобытности
японской культуры, распадом
целостности складывавшегося
национального организма. К тому же
к глубинному, сущностному
восприятию нового в западных
формах оказались готовы лишь
наиболее образованные слои
японского общества, а на массовом
уровне стремление научиться у
Запада часто приводило к уродливому
преклонению перед достижениями
более высокой цивилизации, к
поверхностному копированию
поражавших своей новизной чисто
внешних проявлений незнакомой
культуры. В таких условиях
политические лидеры Мэйдзи после
двадцатилетних осторожных поисков
сбалансированного подхода к
выработке конкретных путей
перестройки отказались от коренной
ломки традиционных моральных
устоев общества, а взяли курс на
трансформацию использования
укоренившихся и доступных восприятию
широких масс традиционных стереотипов
религиозного сознания. Принимались
меры к тому, чтобы заимствования
из чужеродных культур носили
исключительно утилитарно-прикладной
характер и не затрагивали духовных
основ японской нации. Как говорили
тогда в Японии, развитие страны
должно было совместить «японский
дух и европейские знания» (вакон
ёсай). Конечно, такое компромиссное
решение таило опасность многих
противоречивых столкновений, и все
же, как это ни парадоксально, по-видимому,
именно такой путь обеспечил Японии
выживание и быструю модернизацию.
Добиться
единства нации, идеологически
завоевать массы, решить задачу их
политической активизации под
контролем правительства, учитывая
социально-политические и культурно-психологические
особенности массового сознания
того времени, можно было, лишь
создав цементирующую идеологию,
соединявшую в себе одновременно
религиозное и националистическое
начала. Именно этим условиям
соответствовала идеология тэнноизма,
сохранившая многие элементы,
уходящие корнями в религиозные
традиции. Другой ее характерной
чертой была откровенная
националистическая направленность.
В то же время в нарушение
религиозной традиции веротерпимости
(японцы издавна поклонялись
многочисленным божествам различных
религий одновременно, часто
разделяя их лишь функционально)
возвышение синто в его государственной
форме сопровождалось притеснением
других религиозных направлений.
Теперь требовалось отдавать предпочтение
только одному из богов, а
именно «живому богу» — императору.
На
протяжении последующих восьми
десятилетий, до
Основные
положения идеологии тэнноизма
Ядром
идеологии тэнноизма служит
комплекс понятий, обозначаемых
обычно в японской литературе
труднопереводимым словом «кокутай»1.
Востоковед Т.П. Григорьева
определяет это понятие как «моральную
основу социального организма» и
поясняет: «В Японии веками
складывалось представление о
государстве как сложном организме,
континууме, жизнь которого
обусловлена определенным типом
связи всего со всем. Все
связывалось воедино не
законоположениями и не
конституцией, а Небом, т.е. законами
самой природы, реализованными в
конкретных этических принципах.
Стало быть, традиционная мораль, с
точки зрения японцев, и есть то, что
непосредственно связывает
отдельные части между собой, то,
чему нация обязана своей
целостностью» [10, с. 4—5]. Г.Е. Светлов,
считая, что перевод слова «кокутай»
как «национальный государственный
строй» недостаточно полно передает
чрезвычайно емкое содержание
этого термина, предлагает воспользоваться
удачно найденным описательным
переводом «кокутай», предложенным
Дж. Спа: «уникальная (японская)
национальная сущность» [42, с. 140].
Такой перевод наиболее полно
раскрывает особенность трактовки «кокутай»
официальными националистическими
идеологами как понятия,
охватывающего политические,
моральные, религиозные, исторические
и географические особенности
Японии — «божественной страны».
Главным элементом «кокутай» считается
идея мистической связи между
императором и японским народом.
Именно эта связь признавалась
фундаментом японского
государства и нации в официальной
националистической литературе на
протяжении всего периода с
революции Мэйдзи и до конца второй
мировой войны2. Основными
компонентами структуры «кокутай»
можно считать миф о «божественном»
происхождении японского
государства (или концепцию «духа
основания государства»), миф о «божественных»
добродетелях императора и «уникальных»
моральных качествах японских
подданных («японский дух»),
наконец, миф о «великой миссии
нации».
В
тэнноистской идеологии постоянно
фигурировали ссылки на силы,
стоящие за пределами человеческого
разумения, — на божественное
провидение. Японское государство,
согласно официальной версии,
возникло по воле главной богини
синтоистского пантеона — богини
солнца Аматэрасу, она заложила и
основы престола, который поэтому
объявлялся таким же «вечным и
нерушимым, как Небо и Земля». Вот
одно из типичных утверждений
официальной пропаганды: «В
великой священной воле и великих
священных деяниях императора —
воплощенного божества проявляется
великая божественная воля
императорских предков (имеются в
виду прародительница
императорской династии — богиня
Аматэрасу и императорские предки.
— Т.С.-Н.), а их воля определяет
бесконечное будущее нашей нации» [154,
с. 183].
Таким
образом, миф о «божественном»
происхождении императора
базируется на синтоистском
постулате о кровном родстве
императорской династии с богиней
солнца Аматэрасу. Этот миф был
узаконен в императорской конституции
К догмату
о «божественности и непрерывности
императорской династии» (бансэй
иккэй) примыкает миф о добродетелях
императора, осуществляющего
великий идеал богини Аматэрасу,
воплощенный в «трех божественных
регалиях» японской династии —
яшмовых подвесках, зеркале и мече.
Тэнноистские идеологи обычно ссылаются
при этом на летописно-мифологический
свод «Нихон секи», в котором
записано о вручении первому
правителю Японии этих регалий
богиней Аматэрасу [183, с. 76].
Императору
присущи добродетели самой богини
Аматэрасу, поэтому императорское
правление изначально не может быть
неправедным. Японским подданным
внушали тем самым, что император
непогрешим во всем, что касается
религии, политики и морали, так
как обладает непостижимой, мистической
божественностью, позволяющей ему
безошибочно видеть истинный путь
своей страны и подданных. Этот
путь, называемый «кодо» («императорский
путь»), японские проповедники
тэнноизма и трактовали как идеал
японского государства.
Синтоистские
идеи «божественности» императора были
использованы официальной
пропагандой как духовный базис для
формирования ясного чувства национальной
идентификации, концентрирующегося
в почитании императора. Вот
выдержка из статьи одного из
милитаристских идеологов
тэнноизма генерала С. Араки (1877—1966),
отвечающего на поставленный им же
вопрос, с чем ассоциируется
самосознание японца: «Это не что
иное, как великий идеал,
представленный тремя регалиями
японской династии (яшмовые
подвески, зеркало и меч), которые
вручила Аматэрасу при основании
японского государства... Милосердие,
справедливость и смелость, представленные
тремя регалиями японской династии,
и являются идеалом японского государства,
путь которого указывался
императорами... История Японии представляет
собой именно движение по этому
пути. Сохранить его, прославить
является долгом японской нации —
нации верных подданных его
величества» [215, 22.03.1933].
Одним из
главных принципов тэнноизма на
протяжении всего периода его
существования был принцип «сайсэй
итти» («единство отправления
ритуала и управления государством»)3.
Он был принят сразу после революции
Мэйдзи и неоднократно
подчеркивался в императорских
эдиктах как «фундаментальный
принцип „кокутай" и национальной
общности со времен создания
японского государства» [121, с. 143].
Именно благодаря принципу «сайсэй
итти» подданные Японской империи
могли осознать «кокутай» и «великий
путь почитания богов» [121, с. 144].
Содержание
принципа «сайсэй итти» наиболее
полно из известных источников
раскрывается в официальной брошюре,
опубликованной в
Идеология
тэнноизма использовала и
традиционную для Японии концепцию
«гармоничного государства»,
воспринявшую исконно японские
мировоззренческие установки. Из «пяти
великих этических отношений» (см.
примеч. 17 к гл. 1), соблюдение которых,
согласно конфуцианству, гарантировало
гармоничное развитие общества,
тэнноизм превозносил превыше всего
особые, свойственные лишь «божественной»
Японии отношения между императором
и его подданными, заключавшиеся в
единении высшего с низшим —
монарха со своим народом. В
синтоистских представлениях о «божественном»,
носящих видимые следы культа
предков, не проводится четкой грани
между «ками» (божествами) и
человеком, они в определенном
смысле едины, как едины родитель и
ребенок. Это наложило серьезный
отпечаток на конфуцианские этико-политические
принципы абсолютной власти
императора — именно отношения
между родителями и детьми
рассматривались в Японии как
прототип социальной организации,
как модель для всех других
социальных отношений, при этом
лояльность к императору ставилась
выше сыновней почтительности.
Тэнноистские идеологи не уставали
повторять, что генеалогия японцев
восходит к некоему единому корню.
Японская нация, таким образом,
рассматривалась как одна большая
семья, а император выступал не
как воинственный теократический
правитель, навязывающий своим
подданным нормы поведения во всех
областях жизни силой, а как
покровительствующий всем без
различия японцам духовный глава
нации.
Император,
отечески любя и защищая, вел своих
подданных, к которым он относился
как к «омитакара» (букв. — «великое
сокровище», но означает скорее «любимые
подданные»), по истинному пути,
указанному еще богиней Аматэрасу.
Подданным внушали, что отеческое
чувство императора превосходит
любовь родителей к своим детям:
император с «великим божественным
милосердием прощает проступки
своим подданным» (см. [154, с. 185—189]). В
ответ на такое покровительство
император должен был вызывать в
подданных чувства преданности и
благодарности за благодеяния, как
и другие синтоистские «ками». В
результате морально-политический
долг японцев приобретал силу внутреннего
бессознательного импульса к
благодарному повиновению,
осуществление которого порождало
чувство внутреннего
удовлетворения. Другими словами,
лояльность к императору,
приравнивавшаяся к патриотизму,
прививалась синтоистской верой
и становилась своего рода внутренней
потребностью каждого японца,
особенно по мере того, как
тэнноистская пропаганда
приобретала поистине общенациональный
масштаб.
Это особое
отношение японца к долгу отмечают
многие японские исследователи.
Например, профессор Университета
Риссё К. Мидзусима считает, что
понятие долга перед обществом у
японца принципиально отлично от
европейского, поскольку он (долг)
вызывается не социально обусловленной
обязанностью, а чувством
признательности, благодарности
как сугубо субъективным
побуждением души [104, с. 196—197].
В основе
тэнноистской доктрины «гармоничного
государства» лежала, таким
образом, трактуемая в националистическом
духе синтоистская установка на
гармоничные связи между
божественным и человеческим. Это
оправдывало наделение японцев
уникальными врожденными добродетелями,
проявляющимися при единственном
условии — если подданные в едином
порыве, самоотверженно служат делу
императора, т.е., по японской
терминологии, добиваются «тюкун» («искренность
сердца при почитании императора»).
Вот что говорится в упоминавшейся
брошюре «Кокутай-но хонги»: «Везде,
куда распространяется добродетель
милосердия императора, путь
подданных проясняется сам собой.
Этот путь подданных осуществляется,
когда вся нация, единая в сердечном
порыве, служит императору... Это
означает, что мы от рождения служим
императору и следуем пути Империи,
и это вполне естественно, что мы,
подданные, обладаем таким важным
качеством» [154, с. 189].
«Лояльность
означает почитание императора как
источника всего и полное
повиновение ему. Следовать пути
лояльности — единственно
возможный для нас, подданных, образ
жизни, этот путь — источник
всяческой энергии. Следовательно,
отдавать наши жизни во имя
императора означает не так
называемое самопожертвование, а
преодоление наших маленьких
самостей во имя жизни под
божественным императорским
покровительством» [154, с. 190].
Самой
существенной помехой «пути
лояльности» националисты считали
«западный индивидуализм и
рационализм», причем под эту
категорию подпадал весьма широкий
спектр западной идеологии — от
идей буржуазного просветительства
до марксистского учения. Лишь
почитая синтоистских богов, и
прежде всего «живого бога» (арахито
гами) — императора, японец,
согласно официальной пропаганде,
мог идти по «пути лояльности»,
отождествляемому с патриотизмом.
Другими словами, тэнноизм укреплял
лояльность модифицированной в
интересах государства
синтоистской верой, исконными
традиционными моральными
ценностями, да еще приравнивал
такую «священную» лояльность к
патриотизму. Лояльность,
понимаемая в единстве с почитанием
синтоистских богов и с
осуществлением патриотического
долга, стала одной из краеугольных
установок государственного
синтоизма.
Именно
лояльность в вышеизложенном смысле,
согласно установкам тэнноизма,
составляет основу гармоничного, не
имеющего аналогов в мировой
истории развития Японии. «Сердца
подданных, следующих единым путем
лояльности и сыновней
почтительности, сливаясь с великим
августейшим милосердным сердцем
императора, растят плоды гармонии
между монархом и его подданными,
что и предопределяет бесконечное
будущее нашей нации» [154, с. 196].
Эти особые,
свойственные только «божественной»
Японии гармоничные, бесконфликтные
отношения между «ками» и людьми,
между природой и человеком, между
членами семьи, между вышестоящими
и нижестоящими, между
императором и подданными имели, согласно
тэнноизму, своим источником «мусуби».
Этот синтоистский термин
обозначает мистическую творческую
энергию, полнее всего проявившуюся
при создании Японских островов
божественной парой Идзанаги и
Идзанами, лежащую в основе развития
любых вещей, явлений, существ, в том
числе и японской нации. Тут
тэнноизм подходит к формулировке «японского
духа»: «В нашей стране различия во
мнениях или интересах,
проистекающие из-за различий в
статусе, легко преодолеваются
посредством уникальной гармонии,
которая черпается из единого
источника. Во всем не борьба
является окончательной целью, а
гармония; все приносит плоды, а не
умирает, разрушаясь. В этом великий
дух нашей нации» [154, с. 199]. Лишь
бескорыстное служение императору
давало возможность японцам
реализовать полностью свои
потенциальные добродетели.
Кульминацией гармонии
провозглашалось принесение
подданным своей жизни в жертву
императору. При этом он обретал «киёки
кокоро» («чистоту сердца»), или «магокоро»4
(«истинность сердца»), что
приравнивалось к очищению,
главному и самому древнему
синтоистскому обряду. Еще одним
мифом, на котором покоилась «уникальная
национальная сущность» в
интерпретации тэнноистской идеологии,
был миф о «небесном предназначении»
(тэммэй) японской нации, призванной
самими богами, в первую
очередь богиней Аматэрасу, «спасти
человечество», «установить гармонию»
во всем мире путем распространения
на него власти «богоравного тэнно».
Идеологи тэнноизма оперировали
ссылками на классическую
синтоистскую литературу, и прежде
всего на мифы «Нихон секи», которые
они интерпретировали, исходя из
вполне земных задач захватнических
войн империалистической Японии.
Японцев
воспитывали в вере в то, что с
незапамятных времен основания
японского государства богиней
Аматэрасу, вступления на престол
первого императора, Дзимму, и на
протяжении всей японской истории
общественная деятельность
подданных тэнно была подчинена
выполнению ниспосланной самой
Аматэрасу священной миссии по
распространению «божественного»
правления на все более обширные
территории. Обычно для
подкрепления этого утверждения
официальная пропаганда цитировала
(по «Нихон секи») высказывание
мифического императора Дзимму
перед так называемым восточным
походом5, а также эдикт императора
Дзимму по его вступлении на престол
после шестилетних войн по
усмирению непокорных племен на
востоке Японских островов. В эдикте
император Дзимму поклялся богине
Аматэрасу «распространить
императорскую власть на весь мир,
так чтобы собрать восемь углов под
одной крышей (хакко ити у)» (см. [183, с.
131]). Этот лозунг, который часто
переводят также как «весь мир —
одна семья» или «весь мир под одной
крышей», рассматривался официальным
тэнноизмом как божественный
императив. Проповедники
воинственного «японизма»
доказывали, что только японцы,
осененные добродетелями «японского
духа» благодаря «расовой чистоте
и единству», способны «распространить
свет своей культуры на все
человечество», ибо «небесное предназначение
японского государства» (нихонкоку-но
тэммэй) состоит в создании единой
новой культуры для всего человечества
[152, с. 290].
Именно
пропаганда «божественной» миссии «хакко
ити у» придана та
экспансионистским акциям
японского империализма на
Азиатском континенте (начиная с
японо-китайской войны 1894 1895 гг.
и кончая агрессивными действиями в
1931 —1945 гг.) в глазах простых японцев
характер «священной войны».
Лозунг «хакко ити у» использовался
и для обоснования особых прав
Японии на руководство народами «желтой
расы» в деле освобождения их от ига
западных держав.
Этноцентризм,
свойственный синтоистской мифологии,
был развит идеологами тэнноизма в
теорию расового превосходства,
оправдывавшую права японцев на
господство над всеми другими
расами и народами, обойденными
покровительством синтоистских
богов. Тэнноистские идеи легли в
основу японского варианта
паназиатизма, который по мере
расширения военной экспансии
Японии в Азии приобретал все более
изощренный характер. Японские
паназиатисты создали своеобразную
иерархическую систему этнических
ценностей по квазисемейному
принципу, согласно которой во главе
семьи азиатских народов стояла
японская нация, вооруженная
идеалами «расы Ямато», или «высокими
принципами» «восьми углов под
одной крышей», и призванная
повелевать отставшими в своем
развитии аморфными народами
других стран Азии. Народы
государств Запада и СССР
объявлялись «варварами» и
культурными антиподами, чуждыми
зчиатской общности народов.
Господствующее положение «белой
расы» в Азии должно было быть по
праву уступлено японцам — «расе
Ямато», превосходившей все
остальные по своим биологическим и
этнопсихологическим достоинствам.
Один из
идеологов «кокутай», С. Уэсуги, еще
в 1919 г. утверждавший, что «спасение
всей человеческой цивилизации — это
миссия Японской империи», писал: «В
настоящее время нации мира не знают
порядка. Они разделены на классы,
каждый из которых борется лишь
за свои собственные интересы и
считает другой класс непримиримым
врагом. За рубежом
распространяется радикализм. Яд
этой болезни проникает в плоть и
кровь и грозит опрокинуть государства...
Сердце человека потеряло
способность к сотрудничеству.
Индивиды поступают как им
вздумается, действуя без всяких
ограничений... Весь мир раздирает
борьба между капиталом и трудом...
На земле царит ад борьбы и кровопролития...
Среди японского народа нет ни
одного человека, который не верит,
что, если бы только у них были наши
императоры, они не дошли бы до
такого крайнего положения... Наш
народ благодаря божественным добродетелям
императоров облагодетельствован
такими национальными основами
государственности, которые не
имеют аналогий во всем мире... И
если бы теперь весь мир мог жить под
покровительством добродетелей
нашего императора, то мог бы
загореться свет надежды на
гуманистическое будущее. Только
таким путем мир может быть
спасен от разрушения. Только так
возможна жизнь в мире добра и
красоты. Поистине велика миссия
нашей нации» [144, с. 82].
Как бы продолжая
рассуждения Уэсуги, газета «Тайсё
нити-нити симбун» писала: «Наш
народ и боги... стремятся лишь
выполнить эту величайшую и
благороднейшую задачу по
объединению мира под эгидой императора
Японии. Нашей главной целью
является распространение
правления императора Японии на
весь мир, поскольку он — единственный
правитель в мире, выполняющий
духовную миссию, унаследованную от
своих божественных предков» [210, 21.12.1920].
Согласно
постулатам монархического культа
тэнноизма, главной силой,
призванной выполнить «хакко ити у»,
была японская императорская армия,
или, по тэнноистской терминологии,
«священное воинство, посланное
Небом принести жизнь всему сущему».
Японские воины, от высших офицеров
до простых солдат, выполняя свой
воинский долг, становились «едиными
по духу с божественным императором»
[193] и приобщались к сонму
синтоистских «ками». Гармония
провозглашалась свойством,
присущим «священному воинскому
духу» японцев, якобы существующему
не «для убийства людей, а для
дарования им жизни». «Этот воинский
дух стремится дать жизнь всему
сущему, он не стремится к
разрушению. Другими словами, это
борьба, в основе которой лежит мир с
обещанием нового роста и развития...
Война в этом смысле ни в коем случае
не предназначена для разрушения,
подчинения и подавления других, она
служит осуществлению великой
гармонии, мира, помогая раскрыться
животворящей силе мусуби» [154, с. 197].
Несколько
более современная трактовка особой
миссии японцев содержалась в
теориях Киотоской школы философии
во главе с видным философом К.
Нисида (подробно о нем см. [37]). В
своей работе Нисида выдвинул националистическую
теорию государства и нации, в
основе которой лежали апологетика
особой моральности «кокутай»,
освященной высокими принципами «императорского
пути», восхваление японской нации
как «энергичной, активной силы»,
призванной «оформить» азиатские
нации, выступавшие лишь пассивным
материалом в деле строительства «нового
мирового порядка». Эта теория
придавала традиционным постулатам
японского национализма вид
современной науки, так как
создавалась она на базе сочетания
идейного арсенала новейших
идеалистических течений стран
Запада с традиционными восточными
учениями.
Открыто
расистские идеи об избранности «расы
Ямато» питали теорию «сферы
совместного процветания в Великой
Восточной Азии», выдвинутую в
период второй мировой войны
представителями наиболее
реакционного крыла Киотоской школы
М. Косака, И. Кояма и др. Япония,
согласно этой теории, являла собой
пример национальной общности с «гармоничными
отношениями», так как опиралась на
«уникальную национальную сущность»
(«кокутай») с ее единством
императора и народа. Идею подобной
общности Япония должна была нести в
страны Восточной Азии и создать
вместе с ними единую
межнациональную общность,
покоящуюся на «национальном
родстве» народов этих стран.
Японской культуре отводилась
ведущая роль в строительстве
культуры всего указанного региона,
для которой был бы характерен «восточный
гуманизм», дающий возможность
преодолеть кризис буржуазного
общества. Японской культуре
приписывались «особая, чистая
моральная энергия японского духа»
и идеалы «восьми углов под одной
крышей».
Тэнноизм,
таким образом, обращался к японцам
как к высшей человеческой расе,
разрабатывая свою концепцию «избранного
народа». Был создан расовый миф,
соединенный с культом императора,
синтоистской ритуалистической
религиозной системой.
Идеологи
тэнноизма, по-видимому, осознавали
необходимость придания
официальной идеологии формы
социального мифа, так как массовое
сознание японцев, особенно в первые
десятилетия после революции Мэйдзи,
явно тяготело к мифологическим
формам мировосприятия.
Мифомышление
вообще характерно для любого
человека, когда он переживает свою
национальную принадлежность, а
также сопричастность ушедшим
поколениям. В Японии эффективность
воздействия религиозной мифологии
тэн-иоизма сто крат усиливалась в
связи с длительным культивированием
мифомышления у японцев
синтоистской верой.
В отличие
от стран Запада в Японии процесс
модернизации не изменил способов
нравственного регулирования
общественной жизни. В
послемэйдзийской Японии доминирующее
место занимал слой добуржуазного (традиционного)
типа общественной коммуникации,
поэтому и система религиозного
восполнения действительности не
могла не сохранить традиционный
вид, приспособленный к новым
условиям и задачам. «Рациональный
образ мышления еще далеко не проник
в жизнь большинства населения, в
его среде скорее преобладали
суеверия и ненаучный образ мышления»
[22, с. 197].
На основе
древней синтоистской мифологии
была создана социальная мифология,
активно использовавшая традиционные
духовные ценности, разнообразную
символику мифологических тем как
средство национальной интеграции,
стабилизации общественных
отношений и мобилизации эмоционально-нравственных
регуляторов человеческих
взаимоотношений в японском
обществе. Мифы тэнноизма были призваны
освятить вполне конкретные, земные,
а не «потусторонние» моменты
общественной жизни — вопросы
политической власти и
общественного долга, военной
экспансии, сохранения национальной
самобытности и единства и т.д.
Национальная ограниченность не
преодолевалась, а культивировалась
и освящалась наряду с
сакрализацией существовавших
социальных порядков императорской
системы. В идейно-образном
комплексе тэнноизма наблюдается
переплетение мифического и
реального, что находит свое выражение
в морально-политических принципах
социальных отношений, выдвигаемых
этой идеологией.
Авторы
тэнноистских концепций возлагали
на идеологию охранительные функции
по отношению к государству императорской
системы. Японское государство
представало как эманация высших
сил, что обеспечивало ему статус
легитим-ности в глазах народных
масс. Правящие круги управляли не
от своего имени, а от имени
императора, олицетворявшего
государство, отождествлявшееся с
нацией. Таким образом, японские
подданные подчинялись не обычным
смертным, а некоей таинственной
власти, окруженной мистическим
ореолом священности. Тэнноистская
идеология была призвана внушить,
что, невзирая на определенные различия,
японцы как «божественная нация»
образуют с мифического основания
государства в
Другими
словами, тэнноизм возводил учение
об уникальном общественном
устройстве Японии в степень
синтоистской догматики, возвышал
его до уровня религиозной веры, что
лишало возможности критического
отношения к установкам тэнноизма и
не допускало никаких изменений в «кокутай».
Подчеркивание
общности интересов всех японцев в
сочетании с националистическим
противопоставлением их всем другим
народам как низшим, лишенным «божественного»
благословения делало тэнноизм
исключительно действенной
идеологией в плане сплочения
японской нации на основе синтеза
обновленной традиционной
религиозной идеологии и
современного буржуазного
национализма.
Этапы
развития тэнноизма
Эволюция
государственной идеологии и
массового восприятия образа
императора в период господства
императорской системы
распадается на ряд этапов. Первым
можно считать двадцатилетие,
хронологическими рамками которого
выступают реставрация
императорской власти в
При
формировании государственного
аппарата в Японии в ходе
незавершенной буржуазной
революции Мэйдзи институт
императорской власти был укреплен
и трансформирован для служения
нуждам капиталистической
модернизации. Этот момент во многом
сознательного конструирования и
использования императорской
системы лидерами Мэйдзи послужил
причиной для упрощенных оценок ее
роли многими японскими
прогрессивными исследователями.
Примером такой оценки может
служить работа К. Иноуэ.
«Современная
императорская система, — писал
Иноуэ, — не возникла в результате
постепенной модификации и улучшения
того, чем Япония располагала с
основания государства. Она была
сформирована лишь совсем недавно, в
период так называемой
императорской реставрации. В то же
время среди народа существовало
стремление создать нацию, в которой
высшая власть принадлежала бы
народу, а не императору. А среди
наиболее прогрессивных групп было
даже движение за создание народной
республики. Но император Мэйдзи,
бюрократия и военные использовали
все... чтобы подавить это движение и
утвердить императорскую систему»
[64, с. 17].
Подобный
эмоционально предвзятый подход к
проблемам японской монархии вполне
объясним с человеческой точки
зрения, учитывая горечь раздумий
прогрессивных ученых о причинах,
приведших Японию к трагедии
милитаризма, но научный анализ
событий после незавершенной
буржуазной революции Мэйдзи все же
не дает возможности для таких
крайних оценок. Важно осознать, что
реставрация императорской власти
опиралась на реально
существовавшие в японском обществе
идеи спасительности
императорского правления,
носителями которых выступали
идеологи нарождавшегося в
изолированной Японии национализма.
И, конечно, утверждение К. Иноуэ о
стремлении народа к учреждению
народной власти является явным
преувеличением. Либерально-буржуазное
просветительское движение и «движение
за свободу и народные права» (дзию
минкэн ундо), развернувшиеся вскоре
после 1868 г., хотя и выдвигали в лице
представителей своего левого крыла
идею народного суверенитета, не
смогли выработать реальной
программы осуществления этой идеи.
Более того, многие участники «движения
за свободу и народные права» оставались
приверженными идеям умеренного
монархизма.
Даже Юкити
Фукудзава, выступавший за
вестернизацию страны и бывший
властителем дум «молодой и новой
Японии», считал, что свобода
политической деятельности для
граждан, объединенных идеей «самопомощи»
и «самоуважения», может
гармонично сочетаться с
традиционным пассивным
императорским правлением. «Императорский
дом всем управляет, но ничего не
касается. Линия императорского
дома едина и непрерывна, и на ней
держится спокойствие нынешнего
общества. Мы стремимся к
независимости императорского дома,
к тому, чтобы он пребывал над
политикой как беспристрастный и
беспартийный, чтобы сохранить на
вечные времена его высокое
положение и божественность» (цит.
по [39, с. 373]). Есть множество иных
свидетельств в пользу тезиса о
неразвитости и исключительно
узком распространении
антимонархических настроений в
Японии после незавершенной
буржуазной революции Мэйдзи.
Представляется, что именно это
обстоятельство позволило
официальным идеологам тэнноизма
столь эффективно использовать
образ императора для унификации
массового сознания.
В первые
же дни после реставрации была
развернута активная деятельность
по разработке официальной концепции
императора как «живого бога», или «человекобога»,
религиозный авторитет которого
должен был резко возрасти и
приобрести массовый характер в
результате целого ряда мер,
направленных на превращение
верховного священнослужителя
эзотерических ритуалов
императорского синто, каким
император был до этого, в
первосвященника общенациональных
пышных церемоний, специально
рекламировавшихся и освещавшихся
всеми доступными тогда средствами
информации.
Одновременно
уже в одном из первых указов нового
правительства (5 апреля 1868 г.) был
провозглашен возврат к древнейшему
принципу синтоизма «единства
отправления ритуала и управления
государством» [180, с. 21]. Религиозный
обряд, состоявшийся в
императорском дворце на следующий
день, должен был
продемонстрировать непосредственную
связь между религией и политикой,
что является необходимым условием
развития Японии по «пути с богами».
Такой
обряд не имел прецедентов в истории
страны. Император в молельне южного
дворца у священного синтоистского
дерева химороги провел
священнослужение, в ходе которого
поклялся перед синтоистскими
божествами Неба и Земли в том, что
все важные решения в стране будут
приниматься после широкого
обсуждения, дурные обычаи прошлого
будут отменены и все вернется к
справедливому естественному
порядку, а знания всего мира будут
использоваться с тем, чтобы
укрепить основы императорского
правления [186, с. 137]. Затем
собравшиеся совершили церемонию
почитания «ками» и императора.
Это был
первый в ряду синтоистских обрядов,
введенных новым правительством для
поднятия в массах религиозного
престижа императора, а также
закрепления положения императора
как «живого бога», поклонение
которому отныне вменялось в
обязанность всем его подданным.
Знаменитая «Императорская клятва»
выдвигалась в дальнейшем официальной
монархической пропагандой как
символ «просвещенного
императорского правления Мэйдзи».
Так закладывался ставший
впоследствии привычным порядок,
когда сугубо политические
проблемы государства становились
содержанием религиозных обрядов.
Главными
задачами в начальный период
утверждения императорской системы
(с точки зрения официальной идеологии)
были пропаганда «божественности»
происхождения государства,
управляемого императором, а также
распространение среди всех
поголовно японцев лояльности по отношению
к этому государству в лице
императора-«живого бога» (как
основы национальной морали). Иными
словами, речь шла о создании новой
государственной религии, объединявшей
в себе перестроенный на базе культа
императора синтоизм и
японизированные конфуцианские
принципы «пути монарха».
Необходимость
обеспечить синтоизму
господствующее положение над
буддизмом и христианством привела
к официальным мерам по ослаблению
влияния последних. Христианство
было запрещено вплоть до 1873 г., а
буддизм был отделен от синтоизма на
основании указа от 28 марта 1868 г. и
подвергнут официальным гонениям (подробно
см. [42, с. 127—129]). В дальнейшем
сектантский синтоизм, буддизм и
христианство были поставлены в
более низкое положение, чем
государственный синтоизм, и
включены в сеть «нравственного
воспитания нации» на основе
идеологии императорской системы.
Независимые религиозные движения
считались еретическими и сурово
подавлялись властями.
В
начальный период Мэйдзи
формирование идеологии тэнноизма
сопровождалось крайне
прямолинейной политикой,
направленной на превращение
синтоизма в государственную
религию, сторонники которой заняли
решающие позиции в созданном по
древнему образцу Управлении по
делам небесных и земных божеств (Дзингикан).
Резиденция
императора была переведена в Эдо,
ставший столицей и переименованный
в Токио. В ходе переезда император
Муцухито совершил паломничество в
храм Исэ, что явилось одним из
первых шагов по изменению структуры
синтоистского культа, исходя из
императороцентрист-ских тенденций
«реставраторского» синто.
Император как «живой бог» провозглашался
равным по религиозному статусу
с великой богиней Аматэрасу и
божеством Тоёукэ6 [180, с. 23].
В августе
1869 г. в Дзингикан учреждается институт
проповедников (сэнкёси), на строго
ранжированные посты которого
назначались в основном
конфуцианские ученые и
представители школы «национальной
науки». Эти проповедники должны
были распространять среди простого
народа тэнноистский принцип «единства
отправления ритуала и
управления государством»,
положенный в основу династического
культа. О том, что такая
идеологическая политика исходит
непосредственно от самого
императора, свидетельствовали два
императорских эдикта начала
К
Вместе с
тем к этому времени намечается
пересмотр прежнего курса на явно
монопольное положение синтоизма
как государственной религии. Прекращаются
гонения на буддизм, за которым
правительство вновь признает право
на существование, хотя и в
подчиненном по отношению к
синтоизму положении. В связи с
движением за просвещение народа
сверху, взявшим своим лозунгом под
влиянием идеалов западной
цивилизации слова «культура и
просвещение», в политике по
пропаганде императорского культа
намечается более сбалансированный
подход, когда система
индоктринации ориентируется не
только на синтоизм, но и на
буддизм и различные традиции
местных культов народной религии.
Практически это выразилось в
отмене привилегированного
Управления по делам небесных и
земных божеств и создании после его
нескольких реорганизаций
министерства религиозного
образования, чиновники которого
получили название «моральных
инструкторов» (кёдо-сёку) вместо
проповедников.
«Моральный
инструктаж» населения для
обеспечения духовной поддержки
императорского правительства
должен был осуществляться согласно
«Правилам обучения из трех пунктов»,
обнародованных министерством религиозного
образования [180, с. 29]. В
дальнейшем принципы почитания «ками»,
любви к родине, почитания
императора и строгого соблюдения
его указаний, а также ясного
представления о «законе Неба» и «пути
человека» были развиты в
тематические разработки по ведению
проповедей среди населения. В этих
проповедях наряду с чисто
религиозной проблематикой
разъяснялись конфуцианские
принципы политической морали (и
прежде всего отношения между правителем
и подданными), а также
распространялись сугубо светские
знания [42, с. 131].
Вскоре в
Токио при министерстве
религиозного образования
создается специальная Академия великого
учения (Тайкёин) с многочисленными
филиалами по всей стране. В связи с
отказом правительства от политики
отделения синтоизма от буддизма на
посты «моральных инструкторов»
Академии назначаются служители обеих
религий. Более того, к пропаганде
официальной идеологии
привлекаются и местные чиновники, и
представители вполне светских профессий,
пользовавшиеся популярностью у
широких слоев населения. Однако уже
к 1874—1875 гг. деятельность Академии
великого учения приходит в упадок.
В Японии
70-х годов XIX в. вследствие расширения
разного рода контактов с Западом, а
также в итоге движения за изучение
достижений незнакомой цивилизации
идеи свободы и равенства стали
овладевать умами наиболее
образованных слоев общества. В
среде правящей бюрократии
сторонники «просвещенного
абсолютизма» были вынуждены
прислушаться и к голосам, выступавшим
за отделение религии от
государства, за признание свободы
вероисповедания. К 1875 г. Академия
великого учения прекратила свое существование,
что знаменовало собой крах
линии на строго контролируемое
правительством использование для
пропаганды официальной идеологии
императорской системы
объединенных сил синтоизма,
буддизма, конфуцианства и
внерелигиозных деятелей.
Министерство религиозного
образования также было
ликвидировано к
В 1882 г.
правительство, в очередной раз
пересматривая свою политику в
области религии, выбрало наиболее
хитроумный ход. Формально
признавая свободу религий8,
оно объявило синтоизм не религией,
а государственным ритуалом.
Синтоистским священникам
императорских и государственных святилищ
было запрещено отныне вести
религиозные проповеди, исполнять
похоронные обряды; они
становились лишь отправителями
государственных ритуалов, причем
подчеркивалось главенство
императора как верховного
священнослужителя синтоистского
обряда, что служило повышению его
религиозного авторитета. Раскрывая
содержание политики по «разделению
обряда и религии», Г.Е. Светлов
отмечает: сведение культа святилищ
к обряду «значительно облегчало
задачу выделения синто из числа
других религиозных течений и
превращения его в своего рода „надрелигию",
которая составляла бы неотъемлемую
часть государственной системы» [42,
с. 134—135].
Выделение
государственного синтоизма в
качественно иную категорию, чем
религия, позволило создать
видимость свободы исповедания всех
остальных религий (сектантского
синто, буддизма и христианства),
поставив их на самом деле в
исключительно подчиненное
положение по отношению к тэнноистской
идеологии. К тому же не допускалось
существование религиозных
сообществ, доктрины которых
противоречили императорскому мифу.
Многие так называемые «новые религии»
(например, Тэнри-кё и Конко-кё)
после суровых притеснений со
стороны властей были вынуждены
выработать догматы,
согласовывавшиеся с официальной
ортодоксией, и лишь после этого
приобрели статус законных
синтоистских сект, главы которых
считались получившими назначение
от самого императора
С момента
выделения государственного
синтоизма в качестве ритуала можно
говорить и о зарождении собственно
тэнноистской идеологии, бывшей
до этого лишь частью догматики
реставрационного синто. С начала же
1880-х годов возникает тесно
связанная с обрядностью
государственного синтоизма, но все
же существующая как
самостоятельная идеологическая
система тэнноистская доктрина.
Пропаганда идей «императорского пути»
начинает вестись через нерелигиозные
каналы — армию, школы, вузы,
средства массовой информации.
Не
случайно именно в указанное время
правительство при активном участии
императора Муцухито, совершившего
в 1878 г. инспекционную поездку по
школам района Хоку-рику, принимает
ряд мер, направленных на пресечение
увлечения европейскими теориями
нравственного воспитания и
возрождение значения «исконно
японской этики». Учебники были
подвергнуты цензуре, особенно
большое внимание уделялось при
этом урокам истории,
перестраивавшимся с тем, чтобы они
служили насаждению духа
патриотизма и почитания императора.
Большое
влияние на позицию императора в
данном вопросе, так же как и во
многих других, оказал приглашенный
ко двору в 1871 г. в качестве
наставника Нагадзанэ Мотода (1819—1891),
ставший одним из ведущих идеологов
тэнноизма на целые 20 лет. Мотода был
ярым сторонником восстановления
конфуцианства в его былых правах,
но в смеси с синтоизмом; в учении о
морали главными он признавал
принципы отношения подданных к
правителю, исходя из доктрины «тайги
мэйбун». Мотода считал, что одних
синтоистских мифологических
символов явно недостаточно для
идеологического воспитания
молодежи, для осуществления
современных задач японской
государственности. Он призывал по-новому
трактовать неоконфуцианские
положения, с тем чтобы создать на
этой основе условия для формирования
нравственных устоев народа в
духе восточной философии, но с
учетом задач капиталистического
развития [39, с. 375—383]. «Японизированное»
конфуцианство, или, иначе говоря,
перестроенное исходя из
националистических потребностей
тэнноистских постулатов
конфуцианское учение об этических
обязанностях подданных,
противопоставлялось этическим
теориям западных философов,
получившим широкое
распространение в
преподавательской среде в
период, когда пост министра
просвещения занимал Аринори Мори (1884—1888),
один из самых крайних западников,
сторонник ломки традиционной
духовной культуры и замены ее
западными образцами.
Мотода
защищал концепцию «прямого
императорского правления» (синсэй),
предполагавшую, что император обладает
как политической властью, так и
этической трансцендентностью: он
правит, опираясь на выдающихся министров,
которых направляет на истинный
путь силой своих добродетелей.
Главным образом разработке этики
лояльности по отношению к
трансцендентному императорскому
дому, составлявшему, по мнению
Мотода, стержень несравненной
национальной государственности (кокутай),
и была посвящена идеологическая
деятельность Мотода [191, с. 26— 27].
Создание в
Японии современной армии на основе
всеобщей воинской повинности (1872 г.)
в русле различных социально-экономических
реформ, расчистивших путь для
быстрого развития капитализма и
превращения Японии в могучую
державу, сопровождалось и
формированием новой массовой
идеологии для пропаганды среди
солдат и офицеров. Именно
армейская пропаганда дает наиболее
консервативные варианты
тэнноистских установок. Важнейшим
документом в этой связи
представляется рескрипт,
обращенный к солдатам и матросам («Гундзин
тёкую»), изданный императором
Муцухито в 1882 г. Рескрипт,
задуманный как официальный
моральный кодекс для всех
военнослужащих, трактовал главные
добродетели, которые должны быть
присущи японскому воинству, в
традициях «бусидо». От «бусидо» его
отличали главным образом два
момента: во-первых, военная служба
определялась в категориях
абсолютной лояльности по отношению
к императору, обладающему
верховной военной властью, во-вторых,
«милитаристские добродетели»
подавались в виде сакрализованной
доктрины, исходящей от высшего
религиозного авторитета, поэтому
провозглашенные в рескрипте
моральные принципы преподносились
как священные обязанности. Для того
чтобы подчеркнуть в высшей
степени близкие узы между армией и
императором, этот рескрипт был
вручен военному министру лично
императором во время специальной
церемонии во дворце.
Рескрипт,
написанный на японском языке, а не
на камбуне9 и содержавший
лишь 2500 иероглифов, был доступен
всем грамотным. В нем
подчеркивалась исключительность
государственного строя страны (кокутай),
согласно «исконным» законам
которого военные силы должны
находиться под непосредственным
командованием императора, а
образцом такого порядка
неограниченной военной власти
монарха провозглашалось правление
императора Дзимму. Нарушение этого
основополагающего принципа и
переход военной власти целиком в
руки императорских подданных в
лице сегунов признавались в
рескрипте причиной упадка страны в
средние века. Исходя из задачи
возрождения славы японского оружия,
император провозглашал
восстановление своего древнего
права на верховное командование
войсками страны главным
направлением реорганизации армии.
Он обращался к своим подданным не
как современный глава государства,
а скорее как древний правитель-мудрец,
осуществляющий моральное
руководство своими детьми и увещевающий
их ради их же пользы развивать в
себе необходимые добродетели. В
этом проявился конфуцианский
подход к трактовке отношений между
«совершенно-мудрым» правителем и
почитающими его подданными.
Все
военнослужащие, независимо от
ранга, подчинялись непосредственно
императору, узы с которым
уподоблялись связи между членами
единого организма и головой. Целиком
полагаясь на своих подданных, «единых
с ним по духу», император призывал
их сделать «все возможное для
защиты империи» и выдвигал пять
моральных принципов, которые для
этого было необходимо соблюдать:
лояльность, дисциплина, доблесть,
справедливость (праведность) и
простота. Подробно объяснялось, как
правильно следовать каждой из этих
добродетелей.
Только
сильно развитое чувство абсолютной
преданности императору,
утверждалось в рескрипте,
превращает солдат и матросов в «особое
непобедимое воинство», выполняющее
«в едином порыве» свой долг
лояльности. Дисциплина
трактовалась как основа «гармоничного
единства», когда все солдаты, от
рядовых до высших офицеров,
объединены в общем деле служения
императору. Поэтому низшие чины
должны с уважением относиться к
вышестоящим, беспрекословно
подчиняясь всем их приказаниям, как
если бы они исходили от самого
императора, а руководящие чины, в
свою очередь, должны заботиться о
своих подчиненных и относиться к
ним с вниманием. Истинная доблесть
— это не просто «бездумная
готовность к насилию, а умение,
распознавая добро и зло, с полным
самообладанием выполнять свой
долг, никогда не пренебрегая слабым
противником и не боясь более
сильного». Справедливость и простота
объявлялись залогом сохранения
воинского духа, поддерживающегося
честностью и преданностью в личных
отношениях и в выполнении долга, а
также аскетическим образом жизни.
Все пять добродетелей обретают
свою силу только тогда, когда воины
искренне придерживаются их. Они
объявлялись «великим путем Неба и
Земли и универсальным законом
гуманности, которым легко
следовать» (полный текст рескрипта
см. [163, с. 177—181]).
Официальный
военный кодекс поведения был
превращен в канон священных
обязанностей абсолютной
лояльности по отношению к
императору как верховному
главнокомандующему. Рескрипт 1882 г.
положил начало целой серии
подобных документов, делавших упор
на духовное воспитание, что было
характерно для японской армии
вплоть до ее поражения во второй
мировой войне.
Рескрипт
был широко обнародован и
непременно зачитывался всем
армейским и флотским соединениям в
особо торжественной обстановке.
Культивируя лояльность и чувство
долга по отношению к правящей
династии среди многих поколений
офицеров и рядовых, он стал
составной частью этатистского
национализма.
В первое
двадцатилетие периода Мэйдзи
власти приняли ряд мер для
культивирования политического
авторитета императора и
популяризации его личности. Прежде
всего это достигалось проведением
государственных праздничных
церемоний с участием императора
или связанных с династическим
культом. Ту же цель преследовали
поездки Муцухито по стране —
радикальное нововведение после
весьма уединенной, даже
затворнической жизни императоров в
Киото до свержения сёгуната. Самым
активным периодом в этом смысле
были 1868—1889 гг. (пик приходится на 1880
и 1881 гг., когда император
соответственно выезжал за пределы
дворца 163 и 127 раз). В последующие
годы император все реже ездит по
стране. Например, в 1891—1900 гг. в
среднем он выезжал 16,4 раза в год, а в
1901—1910 гг. — лишь 14,6 раза [191, с. 48—49].
В плане
упрочения престижа правителя в
Японии всегда большое значение
придавалось официальному
оформлению календаря. Именно
поэтому одним из первых актов
нового правительства было введение
названия (нэнго, или гэнго) для
всего периода правления императора.
Муцухито выбрал своим девизом «просвещенное
правление» (Мэйдзи). Это же название
должно было стать его посмертным
именем [98, с. 121]. Таким образом,
течение времени в стране определялось
сменой императоров, история же
сводилась к истории правящей
династии, что было весьма
действенным средством упрочения в
глазах населения политической и
религиозной власти монарха.
Обычай «нэнго»,
заимствованный из Китая в» VII в., в
период преобразований Тайка, во
времена правления сёгуната
Токугава не имел никакого значения
для простого народа. В конце 60-х
годов XIX в. в Японии в повседневной
жизни пользовались системой
летосчисления 60-летнего цикла, и
лишь в сугубо официальных бумагах
прибегали к династийному
летосчислению. И даже после
провозглашения «нэнго»
применялись обе системы
летосчисления, однако в 1873 г. в
связи с введением нового стиля — от
«основания Японской империи» в 660 г.
до н.э. — летосчисление 60-летнего
цикла было официально отменено [98, с.
123].
В первые
десятилетия после реставрации
императорской власти для внедрения
в сознание широких масс исключительного
значения императорского двора и
поднятия его престижа активно
использовались и императорские
эдикты, регламентировавшие
практически все стороны жизни. Некоторые
из этих указов, написанные согласно
пожеланиям императора и
утвержденные им самим, включались в
число классических текстов,
подлежащих всеобщему изучению и
следованию их указаниям, как если
бы они были священным каноном.
Такое отношение к императорским
указам особенно усилилось после
появления в 1882 г. рескрипта, обращенного
к солдатам и матросам.
Всего за
период после реставрации и до
эдикта 1 января 1946 г., в котором
император отказывался от претензий
на «божественное» происхождение,
можно насчитать немногим более 800
указов. Первое десятилетие Мэйдзи
отмечено самым большим их
количеством — 271, в дальнейшем
каждое десятилетие
ознаменовывалось 60—70 императорскими
указами [175, с. 614—615]. Меняется и
содержание этих важных для
изучения идеологии тэнноизма
документов. Вначале многие
рескрипты были посвящены вполне
конкретным и практическим делам
страны: в них император, в частности,
выражал благодарность иностранным
советникам и консультантам,
отмечал начало железнодорожного
движения между Токио и Иокогама (1872
г.), между Осака и Кобз (1877 г.),
обращался с напутствием к молодежи,
посылаемой учиться за границу, и т.д.
Но к концу 1870-х годов императорские
указы приобретают все более
отстраненный от обычных дел тон;
они касаются моральных устоев,
объявления войны и заключения
мирных договоров и напрямую не
связаны с конкретикой каждодневной
политики.
Наряду с
данными о резком снижении
активности рекламных поездок
императора Муцухито по стране
анализ содержания рескриптов
свидетельствует об изменениях в
курсе на формирование в широких
массах образа правителя.
Официальная
пропаганда, концентрировавшая
прежде усилия на превознесении
императора как верховного
правителя, верховного
главнокомандующего и главы
национального культа, теперь
стремилась придать его образу все
большее величие и видимость
удаления от политической жизни. В
глазах населения страны в поздние
годы Мэйдзи престиж императора
определялся преимущественно его «божественным»
происхождением, а не высокими
качествами монарха как политика
или военачальника.
Персональное
участие императора в многообразных
заботах модернизации первых 20 лет
сделало личность государя в
глазах его подчиненных символом
грандиозного обновления Японии,
выведшего ее народ из состояния
изоляции и отсталости. Этот период,
в целом характеризовавшийся
становлением капитализма и «открытием»
страны Западу, или, как принято
обозначать в японской литературе,
«отходом от Азии» (дацуарон),
сменился к концу 1880-х годов
усилением реакционных
партикуляристских тенденций в
политике японского правительства.
Соответственно в эволюции
тэнноистской идеологии начался
новый этап, завершившийся во
второй половине 1910-х годов, когда
Японию уже можно назвать
империалистическим государством, в
котором господствовал
монополистический капитал.
На первом
этапе своего развития (1867 — конец
1880-х годов) тэнноизм способствовал
духовной стабильности общества в
процессе его модернизации.
Основную массу населения
составляло крестьянство (свыше 80%),
для которого были характерны
привычки к патриархальной покорности,
преклонение перед власть имущими,
стереотипы сознания, восходящие к
общинным формам социальной
организации. Поэтому тэнноистская
пропаганда, ориентировавшаяся на
традиционные черты социальной
психологии нации (конформизм,
групповая лояльность, установка на
акцентирование общественных
интересов в ущерб личным и т.д.),
давала определенный эффект. Вера
японцев в императора — «живого
бога» начала пускать глубокие
корни.
К концу 80-х
годов XIX в. правящая бюрократия при
помощи репрессивных мер сумела
разгромить «движение за свободу и
народные права» (дзию минкэн ундо).
В 1887 г. был принят реакционный закон
«Об охране порядка» (Хоан дзёрэй),
несколько сотен участников
движения выслали из столицы [19, с. 187].
Полным ходом шла подготовка текста
конституции, обещанной императором
еще в 1881 г. Разработку ее поручили
комитету из юрисконсультов и
государственных деятелей под
руководством Хиробуми Ито (1841—1909),
отправившегося в Европу по решению
императора для изучения
конституционных систем более
развитых стран. По мнению Ито, в
Японии не существовало религии,
которая, подобно христианству в
Европе, могла бы «объединить
сердца людей», поэтому духовным
центром «конституционного
правления» в Японии он
рассматривал императорскую
династию, отождествляя ее с
государственной системой.
«Конституция
великой Японской империи» (Дай
Ниппон тэйкоку кэмпо), вошедшая в
историю как «конституция Мэйдзи»,
была с большой помпой обнародована
11 февраля 1889 г. Выбор именно этой
даты, официально праздновавшейся
как «день основания империи» (кигэнсэцу),
символизировал связь новой
конституции с «исконными порядками
управления империей» времен
мифического императора Дзимму.
Новая конституция, а главное, ее
официальные комментарии освещали
положения тэнноистской идеологии,
поэтому их изложение
представляется чрезвычайно важным
для данного исследования.
Этот
обстоятельный и до мелочей
разработанный документ (конституция
состоит из 76 статей, разделенных на
семь глав) представляется умелым
переложением принципов,
заимствованных у европейских
конституций, и прежде всего
прусской конституции 1850 г. Но эти
принципы до такой степени
приспособлены к особенностям
японского монархического
устройства, что конституция служит
не столько введению определенных
политических свобод и прав, сколько
их ограничению. Будучи результатом
компромисса между теориями
традиционалистов, подобных
Нагадзанэ Мотода, и сторонников
некоторых западных идей
конституционализма, а также
попыткой прекратить общественное
брожение, вызванное «движением за
свободу и народное право»,
конституция отражает стремление
правящей бюрократии эклектически
сочетать местные теории
императорской власти с
заимствованными западными
концепциями для наиболее полного и
действенного обоснования своего
господства.
Согласно
ст. 1, «в Японской империи царствует
и ею правит император,
принадлежащий к единственной и
непрерывной во веки веков
династии», ст. 3 добавляет к этому,
что «особа императора священна и
неприкосновенна», ст. 4 определяет
императора «верховным главой
государства», а ст. 11 закрепляет его
прерогативы как верховного
главнокомаи дующего армией и
флотом [178, vol. 1, с. 95]. Таким образом,
вся полнота верховной власти
принадлежала императору на
основании «божественного» права, т.е.
в конституции содержалась
формулировка «кокутай» в терминологии
прусского конституционного
монархизма.
Это
особенно ясно видно из
комментариев к конституции,
составленных Хиробуми Ито [178, vol. 2, с.
181—195], который подчеркивал, что
конституция — дар «благожелательного
и милосердного» императора народу.
Провозглашая императора
сакрализованным центром нового
конституционного порядка, Ито
отмечал: министры ответственны
перед монархом, а не перед
парламентом, деятельность
которого рассматривалась как
служение императору и внесение
таким образом «своей доли в
гармоничное существование
уникального государства-семьи».
Конституция
практически не давала возможности
для сколько-нибудь свободного
участия простых японцев в политической
жизни страны, поскольку
политические права народа
отождествлялись с их долгом перед «божественным»
императором. Согласно Ито,
отношения между властителем и
подданными были определены при
основании государства, а «конституционная
форма правления» призвана лишь
сделать заветы и законы,
установленные раз и навсегда «божественными
предками», более точными и ясными. В
результате составители
конституции Мэйдзи, провозглашая
прерогативы императора
исключительным правом
императорской династии в целом,
лишали самого императора реальной
инициативы, что при видимости
полноты власти тэнно делало его
участие в политике в какой-то мере
номинальным. Базой политического
авторитета императора объявлялась
его моральная трансцендентность
как отправителя ритуалов,
обеспечивавших, согласно
верованиям, связь между его божественными
предками и подданными. Иначе говоря,
министры были ответственны перед
императором, а тот — только перед
богами, волю которых он передавал
народу.
Последствия
введения конституции Мэйдзи, а
также идеологического оформления
культа императора к 1889 г. очень
верно определяет американский
исследователь политической роли
императора в довоенной Японии Д.
Титус: «Во-первых, институт
императорской власти был поднят
вне досягаемости критики „японского
подданного". Как высший
священнослужитель, верховный
главнокомандующий и
конституционный монарх, император
должен был представлять
трансцендентный институт
государственной власти, „далекий
от дыма человеческих жилищ, причем
никто никогда не мог нарушить его
священности". Эта дистанция,
внушающая благоговение, должна
была обеспечить основу народной
лояльности и покорность
государству. Во-вторых, император
не обладал свободой действия в
открытом политическом процессе.
Его личная воля, подверженная
ошибкам, не была идентична
императорской воле, являвшейся, по
определению, вечной волей
императорских предков. Это, в свою
очередь, означало ограничение его
публичной роли формальными
ритуалами, такими, как синтоистские
обряды и формальное
санкционирование государственных
решений. Устранив императора от
открытого и прямого участия в
процессе принятия решений и в то же
время осуществляя все
государственные акты именем
императора, олигархия, очевидно,
надеялась гарантировать
собственную власть, развивать
японские политические институты на
основе бюрократической инициативы,
опирающейся на прерогативу сверху
и лояльность снизу» [191, с. 47].
Ввиду
сложности восприятия новой
конституции на массовом уровне
общественного сознания японцев тех
лет в 1890 г. принципы «кокутай» были
заложены в «Императорский
рескрипт об образовании» («Кёику
тёкуго»). Ставший в дальнейшем
каноном государственного синто, а
также наиболее действенным и
признанным официальным документом
тэнноизма, рескрипт явился
результатом коллективных усилий
Коваси Иноуэ, Нагадзанэ Метода и
некоторых других деятелей. В крайне
лаконичной форме составители
рескрипта пытались в виде
назидательного обращения
патерналистского правителя,
подчеркнуто стремящегося управлять
подданными, не прибегая к силе,
одними наставлениями, изложить
суть «кокутай» как идеала
священной японской национальной
общности. При этом «особые, естественно
сложившиеся отношения между
милосердным правителем и его
лояльными подданными»
провозглашались фундаментальными
принципами образования в Японии.
Рескрипт призывал всех японцев
культивировать в себе конфуцианские
добродетели «пяти великих
отношений», из которых самыми
важными назывались
верноподданность (тю) и сыновняя
почтительность (ко). Ориентация на
труд во имя общественного блага
признавалась исконным идеалом,
завещанным императорскими
предками. Среди новых ценностей,
необходимых для развития
современного государства, провозглашались
уважение к конституции, изучение
наук и овладение всевозможными
профессиями. Самым высоким долгом
верноподданных рескрипт объявлял
готовность пожертвовать в случае
необходимости своей жизнью во имя
процветания священного трона (см.
текст рескрипта [154, с. 177]).
Многие советские
исследователи подчеркивают конфуцианское
содержание рескрипта об
образовании, в то время как
японские ученые видят в нем синтез
средневековой конфуцианской
идеологии и недавно
импортированной теории
социального дарвинизма, которые
формулируют теорию «семейного
государства», представляющую
императора «отцом нации», а
государство — как бы большой
кровнородственной семьей. Полное
и одностороннее подчинение главе
клана понималось как естественный
порядок. Системе священной
кровнородственной генеалогии, «существующей
с незапамятных времен
императорской династии», приписывалась
мифологическая непрерывность [154, с.
63].
После
обнародования рескрипта во всех
учебных заведениях была введена
торжественная церемония его чтения,
на протяжении которой и учителя, и
ученики должны были застыть в
низком поклоне. Рескрипт стал, по
существу, объектом религиозного
поклонения. Не допускалась произвольная
интерпретация догм, изложенных в
этом документе. Лишь официально
признанные идеологи могли издавать
комментарии к рескрипту,
придерживаясь установленного канона.
В 1891 г. один из ведущих «теоретиков»
тэнноизма, сменивший Нагадзанэ
Мотода, профессор Токийского
императорского университета
Тэцудзиро Иноуэ(1855— 1944)
опубликовал двухтомные «Разъяснения
к рескрипту» («Тёкуго энги») [67].
Если учесть исключительно
небольшие размеры рескрипта, такие
обширные комментарии к нему
свидетельствовали о том, что
рескрипт не столько раскрывал
основные постулаты тэнноизма,
сколько прибегал к религиозному
авторитету императора для более
действенного распространения идей
«кокутай» в процессе социализации
японцев.
Как
отмечают многие японские авторы (см.,
например, [154, с. 63; 96, с. 138]), благодаря
«Императорскому рескрипту об
образовании», умелой апелляции его
составителей к традициям
политической культуры общинного
порядка в деревне моральные
принципы тэнноизма получили
довольно широкое распространение в
народе к началу XX в. Превращение
тэнноизма в эффективный
идеологический инструмент правящих
кругов не означало, однако, что
моральные принципы, базирующиеся
на культе императора, были
приемлемыми для всех в японском
обществе. Наиболее известным открытым
выступлением против рескрипта
считается отказ христианского
пацифиста Кандзо Утимура (1861—1930)
воздавать ему почести, что
повлекло за собой его увольнение в
1891 г. с поста учителя и обвинение со
стороны властей «в оскорблении
величества», приравнивавшемся в
тогдашней Японии к государственной
измене ([19, с. 30—32], см. также [142, с. 206—209]).
От
проведения церемонии поклонения
рескрипту отказался также Юкити
Фукудзава, которой он осмелился
противопоставить в 1890 г. в
созданном им частном Университете
Кэйо торжественную церемонию по
случаю опубликования «правил
морали» для студентов этого вуза. «Правила
морали», превозносившие превыше
всего «личную независимость и
свободу», вызвали большой резонанс
в прогрессивном лагере и стали
объектом порицания со стороны
защитников монархического духа в
народном образовании [10, с. 54—55].
Общая
духовная атмосфера в Японии 1890-х
годов определялась перерастанием
движения за «охрану национальных
особенностей» (кокусуй ходзон),
возникшего в конце 80-х годов из
оправданного стремления выявить
все лучшее в японском образе жизни
в противовес перегибам европеизации,
в откровенно реакционное,
охранительное для возвысившейся
монархической бюрократии движение
«японизма», чрезмерно
возвеличивавшее все «исконно
японское». Резкий рост
националистической реакции совпал
с периодом расширения военных
приготовлений к экспансии Японии
на материке и получил невиданные
стимулы к дальнейшему развитию в
шовинизм, замешанный на
гипертрофированном чувстве
национального престижа. В течение
десятилетия, охватывающего японо-китайскую
(1894—1895) и русско-японскую (1904—1905)
войны, тэнноистская пропаганда
поднимается на новую высоту и
окрашивается в откровенно
милитаристские тона.
Многие
общественные деятели либерального
движения воздерживались от критики
агрессивных устремлений правительства,
так как были сторонниками «цивилизаторской
миссии» Японии в Азии. Более того,
за редким исключением, либерально-буржуазная
интеллигенция активно содействовала
внедрению «японского духа» в
широкие массы, поскольку перед
лицом внешней экспансии
либеральная интеллигенция во
многом смыкалась с деятелями
консервативного направления на
единой платформе японского варианта
паназиатизма. Война с Китаем
изображалась как альтруистская
акция против «отсталого» Китая в
пользу Кореи, нуждавшейся в «модернизации».
Даже известный публицист Сохо
Токутоми (1863—1957)10,
выступавший в 80-е годы против
возрождения доктрин покорности и
подчинения в качестве этической
основы образования, высказывался в
защиту империалистической
экспансии после начала японо-китайской
войны. Теперь он связывал прогресс
простого народа с развитием «японского
духа», а право поддерживать «мир и
гармонию» в стране признавал лишь
за императором, стоящим над
классами и потому содействующим
развитию государства [10, с. 105]. В
дневнике министра иностранных дел
Мунэмицу Муцу содержится яркая
характеристика общественного
климата в годы японо-китайской
войны: «Дух страны воспарил к
высотам экстаза. Везде людей
переполняли чувства гордости и
высокомерия, они были опьянены
песнями и криками победы» (цит. по [48]).
В этот
период ведущими теоретиками
монархизма выступили Тэцудзиро
Иноуэ, Унокити Хаттори, Ётаро
Кимура. Особого размаха
националистическое движение
достигло в годы русско-японской
войны. Вот как сам Иноуэ определял
сущность этого движения: «Японизм
исходит из основополагающего и
определяющего принципа японского
духа и способствует активному
развитию нашей нации. Что касается
того, от каких идей отталкивается
японизм, то необходимо сказать, что
он содержит в себе многие понятия,
заимствованные извне, однако
прежде всего стремится раскрыть
национальное сознание» [66, с. 34].
Унокити
Хаттори придавал исключительное
значение конфуцианству, как
единственно возможной «научной»
основе «кокутай». Почва Японии, по
его мнению, оказалась более
благоприятной для развития учения
великого Конфуция, чем самого Китая,
поэтому «небесное веление
японского государства» он видел в
том, чтобы создать «новую единую
культуру» для всего человечества.
Согласно Хаттори, хотя небесное
веление обращено ко всем людям,
только император способен
воспринять его в силу своих
исключительных добродетелей и
необыкновенной нравственной силы.
Без руководства императора простые
люди уподобились бы животным, не
могли бы познать всеединую
этическую сущность Неба [39, с. 407—426].
Другими словами, Унокити Хаттори
объяснял «исключительность
японского духа» в категориях
конфуцианства, имплицитно
японизированного синтоистскими
постулатами о «божественности» и
вечности японской монархии.
Несколько
по-другому обосновывал «кокутай»
другой профессор Токийского
императорского университета, Тэцудзиро
Иноуэ, с именем которого связана
наиболее близкая к официальной
идеологии трактовка задач военно-патриотического
воспитания. Иноуэ пытался
возвеличить исконно японскую
мораль как воплощение заветов
Конфуция с помощью «научного»
анализа западных этических и
философских учений, приводившего
его к чисто националистическому
выводу о наличии «западного
конфуцианства». Иммануил Кант, в
интерпретации Иноуэ, оказывается
лишь систематизатором
конфуцианских этических принципов
в своей «Критике чистого разума».
Этим способом японский профессор
доказывал соответствие «кокутай»
современным формам
государственности. Академические
опусы Иноуэ в конечном счете лишь в
более современной наукообразной
форме обосновывали два главных
принципа взаимоотношения между
государем и подданным — лояльность
(тю) и сыновнюю почтительность (ко),
призванных сыграть, по его мнению,
исключительную роль в формировании
«японского духа — духа меча». Так
проповедь «божественности» и
исключительности японского
государства, «божественности» и
вечности монархии в этот период
подкреплялась псевдонаучными
выкладками «академического япо-низма».
В
разработку концепции
государственного национализма
внесли свою лепту и ученые-юристы,
специалисты по конституции Мэйдзи,
среди которых наибольшую
известность как апологеты
монархической власти получили
профессор конституционного права
Токийского императорского университета
Яцука Ходзуми (1860—1912) и его ученик
Синкити Уэсуги, ставший в 30-е годы
одним из ведущих защитников
законности монархической власти.
Доказывая
отличие Японии от всех других стран
в связи с исключительными
особенностями происхождения и
структуры ее государственности,
они использовали положения
немецкой юридической науки.
«Кокутай»,
согласно их теориям, определяется
не верховной властью монарха,
защищенной конституцией, а
верховной властью «божественного»
правителя, создавшего конституцию.
В своих работах «Кэмпо тайи» («Сущность
конституции»,
Ходэуми
разработал концепцию «семейного
государства» (или «государства-семьи»),
согласно которой император был
прямым потомком богини Аматэрасу, а
его подданные рассматривались как
продолжение императорской семьи.
Он выдвинул идею о наличии двух
типов государственности —
развивавшейся «естественно» и
созданной людьми. Эволюция «естественного»
государства представлялась им
следующим образом: сначала семья
разрослась до размеров клана (сидзоку),
клан перерос в племя (будзоку),
которое, в свою очередь,
эволюционировало в государство.
Глава такого рода государства
соответствовал, следовательно,
главе семьи, клана или племени, и
его прерогативы (тайкэн) выводились
из расширенных прав отца семейства.
Идеалом «естественного» «государства-семьи»
объявлялась Япония, где основы
государственности несравненно
прочнее, нежели в странах с
государственностью, созданной
людьми [7, vol. 3, с. 247]. Концепция
Ходзуми «государства-семьи» широко
использовалась в стране для
пропаганды идей тэнноизма,
особенно в учебниках национальной
морали, заново составленных в 1908 г.
Одновременно
в качестве обязательных для
изучения во всех школах вводились
официально интерпретированные
мифы «Кодзики» и «Нихон секи»,
которые стали называть «священными
книгами» Японии. Г.Е. Светлов пишет
в связи с этим: «Таким образом, в
Японии создалось положение, когда
мифы стали идеологической основой
государственной власти,
использовались для того, чтобы
обосновывать систему
политического господства,
осуществлявшегося от имени
императора сначала „клановыми
правительствами", а затем
представителями монополистической
буржуазии, помещиков и военной
кликой» [42, с. 143].
Нужды
ускоренной милитаризации страны в
значительной мере стимулировали
процесс индустриального развития,
принявший в условиях постоянного
ведения Японией агрессивных войн
уродливый характер скороспелого
империализма. Особую остроту
приобретают проблемы, связанные с
появлением новых форм социального
протеста со стороны еще не
сформировавшегося как класс
пролетариата. Во время русско-японской
войны среди радикально настроенной
интеллигенции получают хождение
идеи «христианского социализма»,
русского народничества, а также
анархизма. И главное противоядие
против либеральных и радикальных
настроений в обществе
правительство Мэйдзи видит в
усилении пропаганды тэнноизма,
способного, по его убеждению, сохранить
«здоровые моральные традиции».
В 1908 г. был
опубликован императорский эдикт,
призывавший народ не забывать о
своем долге почитания «божественной»
императорской династии,
распространения добродетелей
трона на основе самоотверженной
заботы о процветании Японии.
Составители эдикта рассчитывали на
духовный авторитет императора
Мэйдзи, возросший вследствие
успехов страны в войнах и
пересмотра в 1890-х годах
неравноправных договоров с
западными державами.
В годы
японо-китайской и русско-японской
войн синтоистские святилища
превратились в активное звено
пропаганды милитаризма, культа
императора и националистических
идей. Широко проводились
богослужения о даровании удачи воинам
«священной японской армии»,
отдававших свои жизни за
императора, устраивались также
церемонии поминовения погибших.
Официально признанные религиозные
направления также привлекались к
пропаганде идеологии императорской
системы. В 1906 г. священнослужители
сектантского синто, буддизма и
христианства создали под давлением
властей совместную религиозную
ассоциацию, призванную
централизованно контролировать
деятельность по пропаганде
тэнноизма среди населения [180, с. 64].
Вместе с
тем политика правительства в
области религии основывалась на
тщательно разработанной программе
по дальнейшему закреплению за
государственным синтоизмом
монопольного права на религиозное
образование населения. Эта
программа включала в себя шаги по
ослаблению религиозного влияния
христианства. В 1899 г. министерство
образования издало директиву об
отделении религии от институтов
просвещения, что, естественно, не
касалось проповеди веры в
императора — «живого бога», так как
государственный синтоизм не
считался религией. Принятый в 1900 г.
закон «Об охране мира и
общественного порядка» запрещал
служителям культа принимать
участие в политических партиях,
духовенство всех религиозных
направлений лишалось
избирательных прав и не могло
отныне заниматься оппозиционной
политической деятельностью.
После
русско-японской войны была также
реорганизована система
синтоистских храмов: с одной
стороны, осуществлялось
насильственное слияние мелких
храмов низших категорий в более
крупные, которым навязывались
официальные формы культа, а с
другой стороны, создавались
немногочисленные, но четко
контролируемые правительством
храмы общенационального значения.
В результате число храмов
сократилось со 190 тыс. в 1906 г. до 110
тыс. в 1912 г. В 1907 г. вдобавок
министерство внутренних дел ввело
единую систему религиозных церемоний
по отправлению культа в духе
тэнноизма, распространявшуюся на
все синтоистские храмы и
насильственно разрушавшую
обрядность народных верований,
связанных с местными культами, не
имевшими отношения к государственному
синтоизму, а подчас и
противоречившими ортодоксальной
мифологии (подробнее об этом см. [42,
с. 151; 180, с. 65—66]).
В самом
конце правления императора Мэйдзи (1910—1911)
произошло событие, называемое
в японской литературе «тайгяку
дзикэн» («дело об оскорблении трона»),
впервые откровенно
продемонстрировавшее всему
обществу репрессивный характер
императорской системы. По этому
делу было арестовано 26 японских
социалистов, которым на суде,
проводившемся при закрытых дверях,
предъявляли обвинение в подготовке
покушения на императора. Процесс
и суровый приговор имели прежде
всего показательное значение, так
как из подсудимых лишь четверо
были реально причастны к
подготовке террористического акта.
Хотя правящие круги стремились использовать
судебный процесс как повод для того,
чтобы подавить в зародыше
набиравшее в Японии силу в первые
годы XX в. социалистическое
движение, но при этом замолчать
обстоятельства судебного разбирательства,
«дело об оскорблении трона»
вызвало широкий резонанс как
среди прогресивной мировой
общественности, так и внутри
страны. Конечно, поскольку «дело»
было окутано покровом тайны и ужаса,
почти никто в тогдашней Японии не
знал о выступлении на суде одного
из осужденных, Такити Миясита,
заявившего: «Наша страна в отличие
от других живет под эгидой
„божественного императора".
Вера народа в его божественность
— главное препятствие социализму,
способному принести счастье всем.
Я решил показать ослепленному народу,
что в жилах императора течет та же
кровь, что у всех смертных, и тем
разрушить вековой предрассудок»
(цит. по [19, с. 3]). Тем не менее, как
пишет Г.Д. Иванова, в народе
получили хождение мистические
слухи о том, что от Тахарадай (место
в районе Канда, где происходил суд)
к императорскому дворцу летел
огненный шар — знак возмездия за убийство
невинных. Скорая кончина императора
(1912 г.) и смерть премьер-министра
Таро Кацура (1913 г.) связывались
с «делом об оскорблении трона».
Крестьяне того времени образ Сюсуй
Котоку, лидера социалистов, окружали
легендами, видя в нем своего «заступника»
[19, с. 98].
Другими
словами, хотя после приведения в
исполнение крайне сурового
приговора (12 человек, в том числе
Котоку, были подвергнуты казни
через повешение) в японском социалистическом
движении наступила «эпоха зимы» (фую-но
дзидай), нельзя недооценивать то
колоссальное значение, которое
имело «тайгяку дзикэн» для
пробуждения широких масс,
опьяненных «патриотическими»
чувствами преданности трону,
всячески подогревавшимися
всеобъемлющей тэнноистской
пропагандой.
В целом
второй этап эволюции тэнноизма был
отмечен завершением
формулирования основных положений
доктрины «императорского пути».
Как констатируют многие
исследователи, официальной
пропаганде удалось к 10-м годам XX в.
распространить влияние идей
императорского «япо-низма» на
подавляющую часть населения страны,
что во многом объяснялось
жизнеспособностью архаических
социо-психологических традиций в
японском обществе, сохранявших
наиболее прочные позиции в
нравственном сознании. Между тем к
этому же времени под влиянием
проникновения в Японию европейской
общественной мысли, западных
духовных ценностей, а также
вследствие обострения социальных
антагонизмов в стране начинает
давать себя знать и тенденция к
утрачиванию активной жизненной
силы некоторыми элементами
традиционной буд-дийско-конфуцианско-синтоистской
идеологии. Это заставляло
правящую элиту все больше
дополнять пропаганду тэнноизма
открытым насилием и подавлением
нарождавшегося протеста,
усилением контроля над мыслями.
Официальные идеологи тэнноизма
были вынуждены также в какой-то
мере перерабатывать,
переосмысливать ценности идеологии
императорского строя в
соответствии с потребностями
развития капиталистических
отношений в японском обществе.
В общих
чертах формирование идейного
комплекса тэнноизма завершилось к
началу первой мировой войны. Комплекс
этот представлял собой систему
наиболее консервативных
националистических символов,
призванных утвердить в широком
социальном контексте стереотипы
государственного национализма с
его центральным идеалом
императорского дома, воплощающего
понятие единства и преодолевающего
противоречия и различия в обществе.
Созданная система императорской
власти опиралась на «безличностность»
самого императора в обыденном
смысле, что обеспечивало
поддержание престижа правителя
даже при отсутствии у него
политических способностей. Хотя
под влиянием западной политической
мысли конституция облекала
императора всей полнотой реальной
верховной власти, на деле к концу
правления императора Муцухито
традиции местной политической
культуры, ориентировавшиеся на «пассивного»
императора, все же оказались
доминирующими. Несмотря на то что
император принимал участие в
реальном процессе выработки
государственных решений, он редко
прибегал к практике навязывания
своего единоличного мнения, а
скорее выступал в роли уза-конивателя
общего компромиссного решения. Для
широких масс своих подданных
император воплощал в себе прежде
всего иррациональную сущность
уникальной японской нации, а не
мудрость политического деятеля.
С конца 10-х
годов XX в. в эволюции тэнноизма
наступает новый этап,
продолжавшийся до середины 30-х
годов. Начальная, довольно размытая
граница выбрана нами как рубеж
некоторого ослабления реакционных,
националистических тенденций в
обществе, перед которым развитие
капитализма поставило новые
идейные проблемы.
Сдвиги в
социально-классовой структуре
Японии начала XX в. привели в
середине 20-х годов к замене «клановых»
правительств эпохи Мэйдзи
партийными кабинетами. Последние
стали ярким проявлением
возрастания роли монополий и
финансовой олигархии в
политической жизни страны. В то же
время смена кабинетов проходила не
гладко, в обстановке сложной борьбы.
Несмотря на проводившуюся
политику «целенаправленной
консервации некоторых элементов
социальной структуры в интересах
сохранения власти господствующих
классов» [26, с. 8], в правящем блоке,
состоявшем в первоначальные годы
периода Мэйдзи в подавляющем
большинстве из представителей
старой аристократии, а также
заинтересованных в буржуазном
развитии самураев преимущественно
южных и юго-западных княжеств
Сацума, Тёсю, Хидзэн, происходило постепенное
перемещение центра тяжести от
сословно-аристо-кратических к
капиталистическим элементам [26, с. 17].
В
рассматриваемый период все более
заметную роль начали играть
буржуазные политические партии,
представлявшие интересы
стремительно росшего класса капиталистов,
увеличивавшего свои ряды и за счет
превращения многих помещиков во
владельцев буржуазных предприятий.
Вместе с тем по мере расширения
экспансии японского милитаризма
возрастала роль военной верхушки,
стремившейся к установлению
военно-фашистского режима в стране,
что приостановило сложно и робко
развивавшийся в 20-е годы процесс
буржуазно-демократических
преобразований. В создавшихся
условиях монархия приобрела особое
социально-политическое значение.
Вот как определялась ее роль в
Японии 20-х — начала 30-х годов в
тезисах Коминтерна 1932 г.: «Опираясь
главным образом на феодальный,
паразитический класс помещиков, с
одной стороны, и на быстро
обогащающуюся хищническую
буржуазию, с другой стороны,
находясь в теснейшем постоянном
блоке с верхушками этих классов и
довольно гибко представляя интересы
обоих классов, японская монархия в
то же время сохраняет свою
самостоятельность, относительно
крупную роль и свой абсолютный
характер, лишь прикрываемый
лжеконституционными формами» [38, с.
241].
На основе
исследования довоенной социально-классовой
структуры Японии Ю.Д. Кузнецов
добавляет к этому: «Особое
положение японской монархии
объяснялось также наличием широкой
мелкобуржуазной прослойки, которая
являлась ее опорой. Сохранение
абсолютистского императорского
строя в стране, находившейся на
стадии монополистического
капитализма, было связано и с
существованием полуфеодальной
системы помещичьего землевладения
и арендного землепользования» [26, с.
25].
Изменения
в идейно-политической практике,
обусловленные сдвигами в
общественных отношениях, нашли
свое отражение и в области
официальной идеологической
политики, призванной добиться
определенной политической стабильности,
предотвратить острые классовые
конфликты, создать видимость
сохранения «социальной гармонии».
В 20-е годы
среди либерально настроенной
интеллигенции получают широкое
хождение теория Тацукити Минобэ (1873—1948)
об «императоре — органе
государства» (тэнно кикан сэцу), а
также учение Сакудзо Ёсино (1878—1933)
о демократии «мимпонсюги»,
доказывавшего совместимость
демократических прав и свобод с
принадлежностью верховной власти
императору.
Еще в
начале 10-х годов, уже будучи
профессором по конституционному
праву в Токийском императорском
университете, Минобэ, не отрицая
открыто статус императора, основанный
на «божественном» происхождении,
попытался дать более
соответствующее современным
западным теориям конституционного
права определение природы
государственной власти, по-новому
трактуя положения конституции
Мэйдзи.
Носителем
власти, подчеркивал Минобэ,
является государство, которому
принадлежат и император и
подданные, но император
представляет собой высший орган
государства, а правительство —
только «голос» нации. При этом он
прямо не отвергал ортодоксальные
интерпретации «коку-тай», а лишь
доказывал, умело цитируя
официальные документы тэнноизма,
что возможны новые трактовки
конституции, не противоречащие ее
духу, но отвечающие изменившимся
условиям в стране. Как разъяснял
Минобэ, его теория об «императоре —
органе государства» всего-навсего
выражает идею, что высший
правитель исходит не из своих
личных интересов, а из интересов
всей нации. Уподобляя нацию
человеческому организму и отводя
императору роль головы, Минобэ
ссылался на ст. 4 конституции Мэйдзи,
в которой император провозглашался
главой государства. Свои
рассуждения Минобэ подкреплял
цитатами из комментариев Хиробуми
Ито к конституции [87, с. 337—347]. В начале
10-х годов теория Минобэ вызвала
ожесточенные нападки со стороны
ученых консервативной ориентации,
и прежде всего уже упоминавшегося
Синкити Уэсуги. Он отстаивал выдвинутые
его учителем Яцука Ходзуми
положения, гласившие: государство
принадлежит императору, который
является единственным носителем
всей власти и учреждает правительство
как орган, осуществляющий
исключительно его волю. Минобэ,
однако, сумел очень искусно
защитить свою позицию, и к 20-м годам
концепция «император — орган
государства» была включена в
официально признанные учебники для
университетов, и в студенческой
аудитории стало утверждаться
представление о том, что
правительство создано народом для
выражения своей воли как воли
государства.
Сакудзо
Ёсино развивал свою концепцию «мимпонсю-ги»
в основном на страницах журнала «Тюо
корон». Он предлагал собственную
интерпретацию понятия «демократия»,
обозначавшуюся им же изобретенным
термином «мим-понсюги» (описательно
можно перевести как «принцип, когда
правительство учитывает мнение
народа и государство заботится о
всеобщем благосостоянии») в
отличие от демократии — «минсюсюги»,
означающей, по его мнению, что
суверенитет принадлежит народу. Он
также отмежевался от «принципов
хэйминсюги»11,
противопоставлявших, на его
взгляд, простой народ правящим
классам.
Осознавая,
что идеология императорской
системы, как, впрочем, и структура
политической власти, с таким искусством
в деталях разработанная Хиробуми
Ито, постепенно утрачивает свою
интеграционную силу и начинает
терять целостность, Ёсино
предлагал весьма умеренные демократические
реформы, призванные несколько
ограничить власть императора и
расширить политические права
парламента, не пересматривая
коренным образом положения конституции
Мэйдзи, а лишь расширительно их
толкуя. Ёсино доказывал, что его
принципы «мимпонсюги» никоим
образом не противоречат постулатам
«кокутай» и их осуществление не
затронет «священных основ»
японской монархии.
В своей
наиболее нашумевшей статье
В
дальнейшем Ёсино призывал при
помощи практических мер, не
подрывая напрямую принцип
принадлежности верховной власти «божественному»
императору, поставить партийные
кабинеты в центр правительства и на
деле ввести принципы
конституционализма и всеобщее
избирательное право. Эта
деятельность получила поддержку «Асахи
симбун» и других влиятельных газет.
Попытки Ёсино доказать, что
неограниченная власть императора
неизбежно приводит к
безответственности кабинетов и
деспотизму бюрократии, натолкнулись
на ожесточенное сопротивление со
стороны защитников идей
традиционного национализма. Но,
опираясь на силы созданного им при
Токийском императорском университете
общества «Синдзинкай»12,
Ёсино сумел одержать победу в
дискуссии в ноябре
В 20-е годы
идеи Сакудзо Ёсино получили
довольно широкое распространение в
среде либерально-буржуазной оппозиции
и оказали заметное влияние на
развитие японского общества. В
практическом плане
демократическое течение периода
Тайсё (1912—1926) явилось действенной
силой, сумевшей добиться
осуществления системы партийных
кабинетов и принятия в
Попытки
выработать новые интерпретации
императорского строя, такие, как
теория Минобэ и концепция ёсино,
однако, затрагивали лишь взгляды
правящего слоя, почти не влияя на
основные параметры идеологии
тэнноизма, приспособленной для
массового уровня. Такой разрыв между
элитарным сознанием и массовым
привел японского исследователя
Осаму Куно к выводу о существовании
с последних годов Мэйдзи двух видов
официальной идеологии:
экзотерической (кэнкё), для
массового потребления, когда
власть императора изображалась как
абсолютная, сакрализованная, не
зависимая ни от кого, кроме синтоистских
«ками», и эзотерической (миккё),
когда власть императора
представлялась несколько
ограниченной конституцией и
канонизированными соображениями в
русле теории Минобэ. «Различия
между двумя идеологиями
обусловливали, с одной стороны,
мобилизацию энергии народа на
служение императору, в которого они
должны были верить без оговорок, а с
другой — функционирование
правительства на базе доктрины
конституционной монархии» [174, с. 64].
Социализация
простого японца в духе
экзотерической идеологии
осуществлялась в семье, в начальной
и средней школе, в армии, а также в
храмах государственного синто.
Благодаря этому «вера в авторитет
императора стала второй натурой
среднего японца» [174, с. 63].
Представители правящей
бюрократии, а также выпускники
университетов получали доступ к
эзотерическому пониманию
авторитета императора как всего
лишь символического и номинального.
Куно выделяет среди групп,
принадлежавших к верхним эшелонам
политической структуры, военных,
продолжавших придерживаться «экзотерической
системы верований».
По-иному
объясняют существование в
довоенной Японии двух подходов к
императорскому строю японские
ученые Кэйити Сакута и Макото Ода.
Сакута считает, что различные
представления об императоре
сосуществовали в сознании любого
подданного вне зависимости от
классового происхождения или
образования. По его мнению, каждый
японец чувствовал себя далеко
отстоящим от императора как
всемогущего божества, но «в теплой
близости» к нему как к безвластному
национальному символу. Оба
представления уживались
благодаря особому механизму
психологической амбивалентности,
или самообману [116, с. 266—269].
Макото Ода
на основе достоверных материалов
также доказывает, что идея
эзотерического и экзотерического
уровней встречалась среди
представителей всех социальных
слоев. По его образному выражению,
некоторые представители элиты
сами были в значительной мере
опьянены тем «идеологическим
ликером», которые они предлагали
массам. Напротив, многие простые
японцы делали вид, что император
всегда достойным образом одет в «божественные»
одеяния, хотя втайне осознавали,
что на самом деле он голый король,
простой смертный [111, с. 105—124].
По-видимому,
все же, несмотря на некоторый
схематизм, концепция Осаму Куно
наиболее адекватно отражает ту
своеобразную идеологическую
ситуацию, которая возникла в Японии
в условиях господства
императорской системы. Хиробуми
Ито, хорошо продумавший основные
принципы, согласно которым Япония
управлялась в течение длительного
периода, предусмотрел и сложную
сеть превентивных мер и законов,
пресекавших любую попытку критики
императора или скептического
отношения к обязанностям перед «священным»
троном со стороны простых японцев.
Вся система социализации делала
для них невозможным не следовать
по прямой и узкой дороге
мировоззрения, где центром
истории и моральных ценностей,
самим смыслом их существования
провозглашался император. При этом
система пропаганды за счет
привлечения эмоциональных рычагов
государственного культа должна
была добиться привычки к
повиновению авторитету
императорской власти, делавшей
тэнноизм костяком внутреннего
сознания и подсознательных
импульсов лояльного подданного.
Однако к
концу периода Мэйдзи уже начали
исчерпываться возможности
императорской системы по
интеграции и ассимиляции
различных элементов общества,
развивавшегося хотя и сложными
путями, но все же в направлении
постепенного пробуждения
сознания народа и вызревания его
активного протеста. По мере
втягивания Японии в водоворот
новых социально-экономических и
политико-идеологических связей и
отношений властям все чаще
приходилось, с одной стороны,
прибегать к жестоким репрессиям
премии тех, кто осмеливался открыто
штурмовать бастионы импсри-торской
системы, а с другой — допускать
незначительное осовременивание
механизмов социализации для
элитарного слоя. Некоторое время
это действительно давало возможность
сосуществования «отдельных» друг
от друга идеологических
комплексов элитарного и массового
уровней сознания, объяснявшегося
помимо целенаправленных мер
стойкостью традиционных элементов
массового сознания, весьма активно
использовавшихся при тэнноистской
пропаганде.
В период «демократии
Тайсё»13 официальная
идеология тэнноизма натолкнулась
на противодействие быстро набиравших
силу представителей «контр-элиты»,
стремившихся перестроить
сложившуюся в эпоху Мэйдзи
императорскую систему, с тем чтобы
она допускала на основах конституционализма
их участие в политическом процессе.
Тем не менее, несмотря на видимые
достижения, движение за либерализацию
общественной жизни не смогло
успешно преодолеть политико-идеологические
структуры традиционного национализма,
возведенные в период Мэйдзи.
Причины
слабости японского буржуазного
либерализма в 20-х — начале 30-х годов
довольно полно проанализировал
Осаму Куно. Он пишет, что, во-первых,
волны идеологии «мимпонсюги» и
движения за всеобщее избирательное
право не смогли освободить
большинство японского населения
аграрных районов от их веры в
экзотерическое учение. Во-вторых, деятелям
либерализма не удалось ослабить
влияние на политику со стороны
военной верхушки, Тайного совета,
Палаты пэров, по-прежнему
манипулировавших прерогативами
императора в своих интересах и не
допускавших к рычагам управления
партийные кабинеты. В-третьих, сами
политические партии оказались не в
состоянии сформировать кабинеты,
отвечающие требованиям
парламентской демократии. Они не
имели массовой базы и общей, принципиально
обоснованной программы, более
того, в ходе парламентской борьбы
они, исходя из сиюминутных интересов,
блокировались с представителями
враждебного лагеря, легко предавая
демократические идеалы. В-четвертых,
силы социализма и рабочего движения
не только не поддерживали
буржуазных либералов, но и,
напротив, разоблачали их
соглашательство и в то же время не
смогли выработать доступную для
широких масс идеологию, которая
заменила бы экзотерические
верования. В-пятых, из-за
разобщенности в демократическом
лагере не было выработано мер
противодействия введенному в
Картина
идеологической борьбы вокруг
вопроса об императорской власти в
данный период была бы неполной без
рассмотрения движения против
засилья идеологии императорской
системы в религиозной форме.
Развитие капиталистических
отношений, затрагивавшее все более
широкие сферы жизни общества,
вызвало появление многих новых
организаций верующих, которые,
подобно таким «новым религиям», как
Тэнри-кё, Маруяма-кё и Рэммон-кё,
возникшим на более ранних этапах,
были религиозным выражением
стремления к «обновлению мира» и
вступали в открытое столкновение
с официально санкционированным
образом мысли. Наибольшую
антитэнноистскую направленность
несли в себе идеи Омото-кё и
Хоммити (ответвление от Тэнри-кё).
Выдвинутая
сектой Омото-кё доктрина
базировалась на мифе «об изгнании
основателей государства». Этот миф
утверждал веру в двух «ками» —
Кунитокотати-но микото и Сусаноо-но
микото, которым поклонялись в храме
Идзумо-тайся. Они превозносились
как первоначальные правители
Японии, побежденные и изгнанные
злыми «ками», что вызвало хаос в
тогдашнем мире. Согласно учению
Омото-кё, придет время, когда будет
учреждено государство законных «ками».
Миф «об изгнании основателей
государства» явно звучал как вызов
официальной императорской
мифологии, он отрицал «божественный»
статус императорской династии и
законность ее правления [180, с. 72—73].
Омото-кё
не раз подвергалась преследованиям
властей, тем не менее после начала
первой мировой войны эта религиозная
секта стала пользоваться все более
массовой поддержкой, прежде всего в
городах Токио, Киото и Осака. Приверженцы
Омото-кё призывали в своих
проповедях к реорганизации
общества, они критиковали
капиталистические порядки и
индустриальную цивилизацию, взамен
которых выдвигали возврат к мирной
жизни земледельцев.
К началу 20-х
годов XX в. воздействие религиозных
проповедей Омото-кё на японское
общество заметно усилилось,
особенно после приобретения сектой
влиятельной осакской газеты «Тайсё
нитинити симбун». Исходя из
доктрины о реализации
правительства законных «ками»,
Омото-кё предсказывала в своих
статьях «реставрацию Тайсё».
Официально признанные
религиозные организации и
консервативные журналисты
развязали кампанию травли Омото-кё
как еретической секты. В 1921 г.
полиция совершила налет на штаб-
квартиру Омото-кё, ее святилище
было разрушено, лидеры арестованы
по обвинению в оскорблении трона, а
газета закрыта как нарушившая
законы [180, с. 74]. Однако в дальнейшем
секта возобновила свою религиозную
деятельность и даже значительно
расширила ряды приверженцев, что
вызвало вторичные репрессии, после
чего оправиться уже Омото-кё не
удалось.
Несколько
сложнее обстояло дело с
официальным пресечением
крамольной активности другой
религиозной секты — Хоммити.
Доктрина Хоммити основывалась на
том, что ее основатель Айдзиро Ониси
(1881 —1958) считался живым «ками», и
только следование его учению
«об истинном пути [спасения]» (хоммити)
может обеспечить «спасение» всей
Японии. В 1927 г. Ониси под влиянием
мистических «озарений» решил
обнародовать свои откровения о «спасении»
мира и нации. В брошюре под сухим
научным названием «Исследовательские
материалы» («Кэнкю сире») Ониси
предсказывал начало новой мировой
войны и как результат этого —
приход Японии на грань гибели. Единственное
спасение Ониси видел в следовании
его учению как живого «ками». Он
повторял утверждения первоначальной
доктрины Тэнри-кё, отрицавшие «божественный»
характер императора и законность
его правления исходя из
фиктивности ранних мифов об эре
богов. (Лидеры Тэнри-кё отказались
от этой доктрины еще в первые годы XX
в., поскольку она противоречила
официальным догматам тэнно-изма.)
Начиная с весны 1928 г. верующие
Хоммити по приказу Ониси
распространили копии его брошюры
по всей стране. Более всего Ониси
стремился ознакомить со своим
учением представителей правящей
элиты и влиятельных политических
деятелей, поэтому «Исследовательские
материалы» были доставлены на дом
многим политическим лидерам,
правительственным деятелям и даже
в полицейские участки [180, с. 75-78].
По тем
временам это была самоубийственная
акция, немедленно вызвавшая арест
500 сторонников Хоммити, 180 из
которых были обвинены в
государственной измене и оскорблении
императорского величества.
Министерство внутренних дел
распорядилось распустить Хоммити и
организовало кампанию в прессе по
дискредитации Ониси, а также
разоблачению еретического
характера его учения. Однако
разбирательство в суде по делу
Хоммити, несмотря на то что суд
проходил при закрытых дверях, зашло
в тупик, так как решение об
абсурдности заявления Ониси о его «божественном»
статусе могло поставить под
сомнение главный догмат тзнноизма (император
— «живой бог»), зиждившийся на
столь же иррациональных основаниях,
как и заявление Ониси. Суд был
вынужден свернуть дело, признав
Ониси психически ненормальным.
Таким
образом, в 20-е годы явственно
обнаружились признаки кризиса
официальной идеологии, которая
была «пригнана» к массовому
сознанию эпохи Мэйдзи. Для того
чтобы оставаться эффективным
идеологическим орудием, тэнноизм
не мог уже по-прежнему
эксплуатировать традиционные
стереотипы мышления простых
японцев, он нуждался в
определенной модификации в
соответствии с изменениями в
общественном сознании. Однако
наметившиеся было тенденции в этом
направлении прервали бурные внутри-и
внешнеполитические события. С
начала 30-х годов стало наблюдаться
расширение влияния ультраправых,
ультранационалистических сил,
приведшее к привнесению фашистских
элементов в политическую структуру
императорского строя и к
окончательному скатыванию к
милитаризму во внешней политике.
Обострение международной
обстановки все более явно
свидетельствовало о приближении
новой мировой войны. В такой
ситуации тэнноизм пошел по пути
консервации и упрочения главных
концепций, выработанных в период
Мэйдзи, лишь несколько осовременив
их по форме.
Этот путь
неминуемо привел к крайней
формализации положений
официальной идеологии,
использовавшей отныне культ
императора преимущественно как
средство в борьбе с любым
проявлением оппозиционного
движения как слева, так и справа.
По мере того
как все более усиливалось навязывание
официального культа, шедшее
параллельно с жестоким подавлением
социалистического и
коммунистического движения, с
пресечением на базе реакционного
законодательства малейших
признаков инакомыслия на любых
уровнях общественного сознания,
почитание императора неизбежно
деградировало в лицемерную
привычку крайне затравленных
полициейским режимом масс к
внешним проявлениям своего
верноподданничества, служившим
лишь маской для внутреннего неприятия
искусственно поддерживавшихся иррациональных
основ власти. В то же время
исключительное духовное
подавление личности в условиях милитаристской
диктатуры в духе тоталитарного
тэнноизма привело к возникновению
у определенных слоев фанатической
веры в императора — «живого
бога», постепенно уменьшилось число
людей, даже пассивно не согласных с
официальными постулатами.
Сторонникам
традиционного национализма,
выступавшим за использование
идеологии «императорского пути»
как главного обоснования
милитаризма в Японии в 30—40-е годы,
удалось одержать победу как над не
успевшими набрать силу
демократическими силами, вплоть до
либерально настроенной элиты (апофеозом
борьбы можно считать 1935 год, когда в
ходе кампании, получившей название
«вопрос о выяснении сущности
кокутай» (кокутай мэйтё-но мондай),
были официально осуждены
сторонники теории Минобэ), так и над
приверженцами «ультранационализма
Сева» (после подавления военного
путча 26 февраля 1936 г.).
Начало
завершающего этапа эволюции
тэнноизма в условиях господства
императорской системы можно
датировать 1935 г., поскольку после
решения «вопроса о выяснении
сущности кокутай» военная верхушка
сумела добиться официального
признания законности лишь
экзотерического варианта
идеологии тэнноизма.
Предпосылки
к такому повороту подспудно
складывались со второй половины 20-х
годов, но лишь с развязыванием
агрессии в Маньчжурии (в
К середине
30-х годов в Японии, все глубже
погрязавшей в империалистической
интервенции в Китае, явственно
наметились тенденции к
милитаризации государственного
строя, ликвидации даже тех немногих
завоеваний буржуазного
парламентаризма, какие
существовали в стране в 20-х годах. В
официальной идеологической
политике это выразилось в
стремлении набиравшего силу военно-фашистского
крыла правящих кругов вытравить из
общественного сознания саму идею
либерализма. Разгром левых
демократических организаций,
милитаризация экономики и политики
весной 1935 г. были дополнены широкой
идеологической кампанией «о
выяснении сущности кокутай».
Начало
кампании связано с выступлением в
феврале 1935 г. в Палате пэров барона
Такэо Кикути, заявившего, что
работы члена этой же палаты, одного
из ведущих юридических авторитетов
в стране, профессора Тацукити
Минобэ, оскорбляют «божественный
статус» императора и свидетельствуют
о нелояльности их автора [122, с. 63].
Непосредственной причиной для
нападок военных кругов на Минобэ
послужило то обстоятельство, что
правительство Хамагути
использовало положения его работы
«Постатейный комментарий к
конституции» [88], чтобы оправдать
подписание Лондонского морского
соглашения, в соответствии с которым
Япония должна была пойти на
известное ограничение своих
морских вооружений. Премьер-министр
Хамагути стремился не допустить
монопольного влияния на политику
военной верхушки, опираясь во
многом на теорию Минобэ, он
отстаивал точку зрения, что
реорганизация армии и определение
численности войск — это
прерогатива кабинета, а не военного
командования.
К середине
30-х годов ультраправым силам,
центром которых в Японии стали
военные круги, удалось усилить свое
влияние в правящей верхушке,
поэтому они и в идеологическом
отношении перешли в наступление
даже против умеренных либералов в
лице Минобэ, идеи которого мешали
милитаризации массового сознания.
Среди японских ученых существует
также мнение, что непосредственной
причиной для нападок на Минобэ
послужила его критика на страницах
журнала «Тюо корон» содержания
брошюры, изданной в
Хотя
профессор Минобэ сумел достойным
образом ответить на все обвинения
против него, доказывая их абсурдность,
ему все же пришлось уйти с поста
профессора Токийского
императорского университета, а
также выйти из состава Палаты пэров.
Милитаристским кругам удалось
одержать над Минобэ победу
благодаря умело организованному
достаточно массовому «движению за
выяснение сущности кокутай» (кокутай
мэйтё ундо). Если до
Многие
влиятельные деятели, вплоть до
самого премьер-министра Ока да,
считали обвинения Минобэ в
оскорблении императорского
величества абсурдными, и все же они
оказались бессильны защитить его
в обстановке националистического
ажиотажа, развернутого вокруг его
теории практически во всей стране
силами «Кодоха». Правительство
было вынуждено запретить три книги
Минобэ и издать специальное
постановление, объявлявшее его
теорию противоречащей истинному
значению «кокутай» [7, vol. 4, с. 263].
Есть любопытные свидетельства о
мнении императора, который не
считал, что Минобэ нарушил долг
лояльности, высоко ценил его как
выдающегося ученого и рассматривал
теорию Минобэ как действенное
средство против деспотизма [187, с.
165]. Кампанию «о выяснении сущности
кокутай» можно расценивать как
идеологическую подготовку к
февральскому путчу
После
подавления мятежа официальные
идеологи оказались в сложном
положении в связи с необходимостью
сформулировать и обосновать свою
позицию по вопросу о «кокутай»,
учитывая ту идеологическую
неразбериху, которая досталась им в
наследство от решительной
деятельности «Кодоха». Главным
документом, который удалось выработать
в такой ситуации, была изданная в
Было бы
бесполезным и неблагодарным
занятием попытаться подробно
выяснить, в чем состоит влияние
того или иного идеологического и
религиозного направления на установки
тэнноизма к моменту создания «Кокутай-но
хонги». Это влияние доведено до «органичного»
эклектизма, что отражает в
определенной мере синкретический
характер японской культуры вообще,
допускающей сосуществование элементов
из противоречащих в своей
первооснове идейных комплексов
после их соответствующей
постепенной переработки в русле
доминирующей духовно-мировоззренческой
синтоистской праструктуры. Поэтому
мы ограничимся лишь констатацией
самого факта широкого
использования всего «наработанного»
японской культурой, а также
заимствований из других
культурных комплексов, хотя
составители «Кокутай-но хонги»
претендовали на строго оригинальные
построения, подчеркнуто отвергая
все «западное» как противоречащее
и вредящее силе «японского духа».
«Кокутай-но
хонги» явилась наиболее признанной
официальной интерпретацией норм
социального и политического
мышления, допустимых для японцев.
По своему непосредственному
предназначению это была
инструктивная брошюра для
преподавателей «морального
воспитания» (сюсин) в учебных
заведениях страны всех уровней,
начиная с начальных школ и кончая
университетами. Реальное же
значение рассматриваемого
документа как канона идеологических
требований, предъявляемых
Управлением контроля за мыслями к «подданным
великой Японской империи»,
неизмеримо серьезнее. Недаром из
всех официальных изданий по
тэнноизму в директиве штаба
оккупационных войск от 15 декабря 1945
г. именно «Кокутай-но хонги»
специально указывалась как
запрещенная для дальнейшего
распространения [173, с. V].
Составление
«Кокутай-но хонги» прошло
несколько этапов. Над ее текстом
трудились десятки идеологов и
работников министерства
просвещения. Первоначальный
вариант принадлежал перу
профессора Токийского
императорского университета
Сэнъити Хисамацу, признанного
специалиста по японской
классической литературе. Текст
Хисамацу был очень серьезно
переработан официально
назначенными 14 членами специальной
комиссии, представленными в
основном профессурой
университетов. Вспомогательные
работы осуществлялись вторым
составом комиссии из 10 чиновников,
связанных с идеологической работой.
Такое явно коллективное авторство
«Кокутай-но хонги» дополнялось
традиционной для японской
официальной идеологии практикой
переписывания текста
неизвестными работниками
министерства просвещения. В
довершение всего глава Управления
по контролю за мыслями Энкити Ито
как ответственный редактор внес
столь существенные изменения в
документ, что ему иногда
приписывается авторство
окончательного варианта «Кокутай-но
хонги» [173, с. 7; 7, vol. 4, с. 264].
Брошюра «Кокутай-но
хонги» в количестве 300 тыс. экземпляров
была разослана преподавательскому
составу всех школ и университетов,
директорам школ вручались специальные
уведомления о необходимости
использования любой возможности
для ознакомления как можно более
широкого круга населения с
содержанием брошюры. До марта 1943 г.
было продано 1 млн. 900 тыс.
официально переизданных
экземпляров, к тому же около 28 тыс.
экземпляров было допечатано в
частных типографиях. Более 50 тыс.
раз текст брошюры воспроизводился
в других публикациях. Отдельные
куски включались в учебники для
школ. Кроме того, «Кокутай-но хонги»
использовалась в качестве учебника
и материалов для дополнительного
чтения в школах старшей ступени.
Преподавателям предписывалось
организовывать семинары для
изучения и обсуждения материалов
брошюры. В дальнейшем вошло в
обычай ссылаться на этот текст в
речах и во время церемоний
национальных праздников и
различных собраний.
Несмотря
на небывало широкое
распространение брошюры среди
населения, было опубликовано также
несколько работ, комментировавших
текст. «Кокутай-но хонги» должна
была «культивировать и будить
национальные чувства и сознание»,
тем не менее ее текст оказался
довольно сложным для восприятия из-за
употребления слов особо высокого
уровня вежливости, присущего
теологическим писаниям. Достаточно
указать, что в «Кокутай-но хонги»
при упоминании трех основных
сакрализованных категорий тэнноиз-ма
— императора, Японии и японского
народа — применяется до 23
наименований первого, 30 названий
второй и 23 обозначения третьего.
Если добавить к чисто языковым сложностям
и смысловые, связанные с
терминологической неопределенностью
многих понятий «кокутай», то
становится оправданным
существование обширной
комментаторской литературы. По
замыслу официальных идеологов, это,
по всей вероятности, должно было
придать «Кокутай-но хонги»
видимость емкой мудрости
классического текста, по традиции
нуждавшегося в благоговейных
комментариях специалистов, что
придавало официальной идеологии
вид священной доктрины, не столько
подлежавшей восприятию разумом,
сколько рассчитанной на
эмоционально-символическое
впитывание, когда определенная
неясность текста для непосвященных
лишь усиливала эффективность
идеологической обработки. Именно
этим можно объяснить, что лишь за 1937—1939
гг. один из считавшихся лучшим
комментариев, написанный Тосаку
Миура, выдержал пять редакций и 93
издания [173, с. 11].
Относительно
пространный для материалов по
тэнноизму, предназначенных для
массовой пропаганды, текст «Кокутай-но
хонги» состоит из введения, двух
разделов и заключения. Во введении
давался краткий обзор идеологической
ситуации в Японии середины 30-х
годов, подчеркивалось, что
основной причиной внутренних
беспорядков, общественных
волнений и идеологической
неразберихи правительство
считает влияние западных теорий,
получивших широкое хождение в
обществе. Поэтому главной задачей
брошюры провозглашалось
разъяснение широким массам
истинной сущности «кокутай» как
основы здорового сознания нации,
способной к великой миссии «спасения
мира» лишь на путях, освященных «кокутай»
[154, с. 178—180].
В первом
разделе официальные идеологи,
претендуя на единственно
правильную интерпретацию «кокутай»,
раскрывали содержание этого
понятия. Указывалось, что «кокутай»
базируется на синтоистских мифах
об «основании империи», из которых
вытекает «божественное» происхождение
императорской династии, «вечной,
как Небо и Земля». При этом особо
выделялись мифы о возникновении
Земли и Неба, «деятельности»
прародительницы династии богини
Аматэрасу, о внуке Аматэрасу Ниниги-но
микото, посланном ею для управления
земными делами, а также первом «божественном»
императоре в образе человека —
Дзимму. При помощи ссылок на мифы «Кодзики»
и «Нихон секи» и на равных
основаниях на рескрипт императора
Мэйдзи об образовании подробнейшим
образом растолковывались такие
понятия тэнноизма, как «вечность
священного трона, соизмеримая с
вечностью Неба и Земли», «непрерывность
династической линии» и «божественное
происхождение» трех регалий
императорской власти — зеркала,
яшмовых подвесок и меча [154, с. 180—184].
Весь
перечисленный набор мифов,
интерпретируемых с точки зрения «естественности»
культа императора, обозначался
термином «дух основания империи»,
считавшимся важнейшей
характеристикой «кокутай».
Подчеркивалась уникальность
национального устройства даже в
такой философской категории, как
время. Под вечностью императорского
трона подразумевалось
мифологическое восприятие времени
правления императора, когда
вечность сливается с настоящим.
Такое
национальное устройство,
провозглашалось в брошюре,
обусловлено «чудом божественного»
учреждения императорского трона,
благодаря чему с самого возникновения
японской государственности
подданные служили императору не
из чувства долга, а исходя из «самопроизвольного,
естественного проявления их сердец
и веры в божественность императора»
[154, с. 184].
Второй
характеристикой «кокутай»
назывались добродетели
императора, соответствующие его «божественному»
статусу. «Кокутай-но хонги» делала
главный упор на такое качество
императора, как его беззаветная
любовь к своим подданным,
превосходящая даже родительскую
любовь к детям. Для доказательства
несравненных добродетелей императоров
авторы не поскупились на
многочисленные «примеры»
милосердия императоров на
протяжении всей истории Японии (включая
и такие чисто земные формы проявления
сочувствия к подданным в беде, как
пожертвование своей одежды и еды
страждущим) [154, с. 188—189].
Главным же
достоинством императора
провозглашалась его духовная
миссия верховного
священнослужителя синтоистского
культа, обеспечивавшая единство
религиозного обряда, управления
государственными делами и просвещения
[154, с. 187]. Благодаря духовным
стараниям императора, писали
составители «Кокутай-но хонги»,
подданные способны постичь свой «истинный
путь».
Особые,
уникальные качества японских
подданных по сравнению со всеми
другими смертными, естественно
присущие им благодаря мистической
связи с «божественным» императором,
составляют, по мнению авторов
брошюры, третью характеристику «кокутай».
Неизменным атрибутом государственного
устройства Японии провозглашались
«божественные добродетели
рядовых японцев», важнейшие среди
которых — лояльность и сыновняя
почтительность. «Такая страна, как
наша, которая со времен ее
основания придерживалась
естественного пути, общего для
природы и человека, составляющих
единое целое, и которая поэтому
процветала, не может сравниться ни
с одной из иностранных держав. В
этом заключается смысл кокутай, не
имеющей параллелей во всем мире, а
путь наших подданных просто
опирается на кокутай, на которой
базируются их лояльность и
сыновняя почтительность» [154 с, 190].
С большим
пафосом «Кокутай-но хонги» внушала,
что дух лояльности (патриотизм)
всегда определял главные устремления
народа, что при всех
обстоятельствах дух почитания
императора был самой
могущественной движущей силой
нации [154, с. 190]. В подтверждение
цитировался ряд стихотворений,
выражавших верноподданность
японцев, начиная с поэтических
строк Якамоти Отомо (ум. в 785 г.) включенных
в «Манъёсю», и кончая стихами
императора Мэйдзи. Исключительно
пространные рассуждения о значении
лояльности и сыновней
почтительности завершаются в «Кокутай-но
хонги» таким обращением к
японскому населению: «Лояльность
и сыновняя почтительность, слитые
воедино, — это цветок кокутай и
кардинальный пункт нашей национальной
морали». Следовательно, «кокутай
образует фундамент не только
морали, но и таких областей, как
политика, экономика и
промышленность. Поэтому великий
путь лояльности и сыновней
почтительности должен быть
осуществлен во всех практических
сферах национального развития и
жизни народа. Мы, подданные, должны
стараться изо всех сил для развития
великой и нескончаемой кокутай» [154,
с. 196].
Последним,
четвертым проявлением «кокутай»
официальная идеология
провозглашала «дух гармонии»,
свойственный, по «Кокутай-но хонги»,
и армии, и отношениям между
божествами и человеком, между
человеком и природой, между людьми
японской культуры. Это подробно
разъясненное в «Кокутай-но хонги»
качество японской нации должно
быть распространено на всю планету,
и тогда «наступит истинный мир на
земле, прогресс и процветание». Так
тэнноизм обосновывал агрессивный
курс японского государства.
Второй
раздел «Кокутай-но хонги»,
названный «Проявление нашей
кокутай в истории», начинается
официозным изложением
исторического прошлого, в котором
героизируются императоры и
личности, посвятившие себя
служению трону. Мифические события
«эры богов» плавно сменяются
событиями мифологизированной
истории Японии, тенденциозно
анализируемой, исходя из критериев
«золотого века» правления первых
императоров. Те периоды японской
истории, когда почитание
императора неукоснительно
соблюдалось, выделяются как
периоды расцвета, и в откровенно
мрачных тонах подаются периоды
пренебрежения подданными империи
своим долгом перед троном. Впрочем,
всячески подчеркивается, что дух «кокутай»
никогда не исчезал: даже во времена
сёгуната Токугава были «национальные
герои», самоотверженно служившие
императорам, и простой народ якобы
разделял их устремления. В
рассматриваемом разделе подробно
излагаются также обычаи, образ
жизни, черты национального
характера, церемонии, ритуалы и
моральные принципы, особенности
развития культуры, политики,
экономики и военного строительства,
причем настойчиво и на все лады
восхваляются императорское
правление и уникальные черты
японской нации, ее истории и
культуры.
В
Заключении из всего сказанного в
обоих разделах делается вывод: на
Японию «волей богов» возложена
особая миссия — «построить новую
японскую культуру, усвоив западную
культуру, и возвысить последнюю при
помощи принципов кокутай», внеся
таким образом «свой вклад в
развитие мировой культуры». «Наша
миссия заключается в том, чтобы
создать и развить новую Японию на
базе кокутай, составляющей опору
государства, и императорского
пути, неизменно пробивающего себе
дорогу во все века в стране и за ее
пределами. Поэтому более чем когда
бы то ни было надо защищать и поддерживать
процветание вечного
императорского трона» [154, с. 237].
Мы
специально столь подробно
остановились на изложении
основных положений,
сформулированных в «Кокутай-но
хонги», так как данная брошюра
содержит в себе квинтэссенцию
тэнноистских идей периода
милитаризма. Кроме того, мы
сознательно привели довольно много
цитат, чтобы читатель мог
почувствовать особенности этой
идеологии, построенной на
определенной «круговой логике»
повторов тех или иных положений,
при которой каждый раз последние
как бы поворачиваются немного иной
гранью, а между канонизированными
постулатами выявляются новые
связи. Такой прием в подаче
материала не только отражал
сложнопереплетенную
идеологическую структуру,
эмоционально воздействовавшую на
людей, но и был привычен для японцев,
поскольку базировался на традиционных
приемах подачи сакрального знания
в добуржуаз-ной Японии.
Хотя после
выпуска «Кокутай-но хонги» не было
недостатка в многочисленных
официальных и полуофициальных
разработках по моральной обработке
населения в духе тэнноизма, по
существу, основные положения,
сформулированные в «Кокутай-но
хонги», не пересматривались.
По мере
расширения участия Японии в
военных действиях идеологическая
обработка населения все более и
более подчинялась интересам
милитаризации страны, поэтому и в
пропаганде тэнноизма все больший
упор делался на те моменты, которые
были связаны с оправданием
агрессии и поднятием морального
духа населения. Одной из главных
форм шовинистической пропаганды в
период милитаризма становится
японский вариант паназиатизма с
его лозунгами «Азия для азиатов», «великая
миссия» Японии по «освобождению
народов желтой расы от господства
белых колонизаторов», созданию «великой
восточноазиатской сферы
совместного процветания», «хакко
ити у».
После
начала агрессивной войны в Китае (1937
г.) и беспощадного разгрома
немногих оставшихся
демократических, прогрессивных
легальных организаций в 1937—1938 гг.
милитаристская пропаганда
тэнноизма приобретает небывалый
размах под руководством созданной
в 1937 г. Лиги по мобилизации
национального духа во главе с
премьером Коноэ.
В 1938 г.
правительство Коноэ выдвинуло
концепцию «нового порядка в
Восточной Азии, что
свидетельствовало о попытках
несколько осовременить идею
паназиатизма с ее главным лозунгом
«хакко ити у». С этого времени
начинается официальная разработка
идеологического комплекса,
призванного оправдать
экспансионистские амбиции Японии и
оформившегося в теорию великой
воссточно-азиатской сферы
совместного процветания (дайтоа
кёэйкэн). В указанной теории
наиболее полно проявились идеологические
особенности японского монархо-фашизма,
потеснившего идеи традиционного
национализма преимущественно в
вопросах оправдания внешней
агрессии. Концепция «нового
порядка» спекулировала на реально
существовавших в Японии, а также в
Китае настроениях горечи из-за
существования «старого порядка»,
или системы международных
отношений, установленных западным
империализмом XIX в. после «опиумных
войн» (1839—1842) и поставивших Китай в
полуколониальную зависимость от «белых
империалистов». Согласно японской
паназиатской доктрине, только
опираясь на руководящую роль
модернизированной и независимой
Японии, сумевшей синтезировать
западные технические достижения и
духовные преимущества «восточного
гуманизма», Китай и другие страны
Азии могли отстоять свою
независимость и культурную
самобытность от посягательств и
агрессивных устремлений западного
колониализма.
Необходимо
особо отметить, что при обосновании
агрессивной политики японского
империализма после того, как война
в Китае приняла затяжной характер,
государственный национализм, не
отказываясь от положений
ортодоксального тэнноизма, все же
был вынужден существенно «достроить»
их положениями современных теорий
ученых академической Киотоской
школы, возглавлявшейся известным
философом Китаро Нисида, а также
использовать идеи некоторых других
идеологов и философов,
признававших неудовлетворительность
традиционных трактовок «кокутай» (например,
Киёси Мики, Тэцуро Вацудзи).
При
выработке концепции «великой
восточноазиатской сферы
совместного процветания»
использовались идеи философии
истории Нисида, а также его теория
восточной культуры. Нисида
доказывал особую «моральность кокутай»,
воплощающую в себе, по его мнению, в
отличие от государственных систем
Запада неповторимую этическую
реальность, которую наиболее
полно выражал императорский дом.
Нисида считал, что культура Японии
на протяжении тысячелетий
развивалась вокруг императорского
дома [103, с. 93]. Сочетая идеи
западноевропейской философии с учением
дзэн-буддизма, Нисида отстаивал «самоограничивающееся
мировое положение» императорского
дома как «тождества небытия», что
и определяло «миссию Японии как
строительницы Восточной Азии» (Нисида
называл ее «мировым характером
японского духа») [103, с. 43].
Япония
признавалась «энергичной, активной,
жизнесози-дающей силой», а ее народ,
переработавший западную культуру,
провозглашался «создателем новой
восточной культуры» [103, с. 39].
Крупнейший
последователь Нисида, Хадзимэ
Танабэ, также принадлежавший к
Киотоской школе, обосновывал специфику
«кокутай», исходя из своей «логики
вида», «преодолевавшей
неисторичность» ясперсовского
экзистенциализма и соединявшей
воедино «абсолютное небытие»,
государство и индивида.
Необходимость самопожертвования
индивида (выступавшего у Танабэ как
«вид») во имя «национального
государства» оправдывалась тем,
что только так «экзистенция» простого
японца могла соприкоснуться и
слиться с «абсолютным небытием».
Танабэ и
синтоистский постулат «восемь
углов под одной крышей» трактовал в
терминах своей «абсолютной диалектики»:
«Как следует из слов „единство
монарха и народа", монарх и народ
едины, а индивид существует, будучи
организован так, чтобы можно было
проявлять свою спонтанную жизнь в
неразрывном единстве с
государством. Государственное
регулирование и спонтанность
индивида непосредственно
объединены и составляют единое
целое. Именно это является
особенностью нашего государства,
которой мы можем гордиться. Я
считаю, что это положение нужно
трактовать следующим образом:
данный идеал государства
непосредственно реализует сам
император. Подобная гармония
внутренней организации
сопровождается гармонией и вовне.
Японская культура не закрыта и не
замкнута в себе, а единство имеет
смысл открытости. Именно этот смысл,
как я полагаю, можно вложить в
выражение „хакко ити у", которое
имеет различную, трудную для
понимания трактовку» (цит. по [37, с. 55]).
В 1939 г.
группа ученых, входивших в Общество
Сева, учрежденное при кабинете
Коноэ, сформулировала теорию «восточноазиатского
сообщества» (тоа кёдотай). Одним из
ведущих теоретиков Общества Сева
был известный философ и историк
Киёси Мики, роль которого в истории
японской философии неоднозначна.
Он в немалой степени способствовал
распространению марксистских идей
в стране в 20-е годы, сотрудничал в
Обществе изучения материализма.
Вместе с тем Мики питал искренние
иллюзии о возможности создания
паназиатской межнациональной
общности под эгидой Японии на базе
культурного единства и
национального родства народов
Восточной Азии, а также преодоления
кризиса западной буржуазной
цивилизации на путях синтеза «восточного
гуманизма» и достижений западной
культуры.
Содержание
концепции «восточноазиатского
сообщества» раскрывалось в
опубликованной Обществом Сева
книге «Идеологические принципы
новой Японии», автором которой
некоторые ученые считают Мики.
Создание «восточно-азиатского
сообщества» должно было обеспечить
«новые пути» для решения проблемы
классов, отказа от классовой
борьбы [119, с. 577]. Теории классов как
«дуалистической диалектике»
противопоставлялась идея «плюралистической
диалектики», обосновывавшая
гармоничное развитие восточных
наций, структура которых сходна со
структурой семьи. В наиболее полной
мере их специфику, по мнению Мики,
выражала японская культура,
поскольку в «ее основе лежит
общность, опирающаяся на кокутай,
не имеющую себе равных в мире и
означающую, что монарх и народ
едины» Призыв нести принципы этой
национальной общности н страны
Восточной Азии и «осветить ими весь
мир» подкреплялся такими
особенностями японской культуры,
как «культурный плюрализм» и «жизненная
практичность», а также способность
«впитывать» и быть «всеобъемлющей»
[119, с. 522]. Все упомянутые
особенности в конечном счете
обеспечивали особую «моральную
энергию» японской нации, которая «должна
была занять руководящее положение
в строительстве нового порядка в
Восточной Азии» [119, с. 522],
определяемого «чистой и до конца
моральной волей японской нации» [119,
с. 542].
Важное
место в теории «восточноазиатского
сообщества» занимали чисто
философские рассуждения о практике,
свободе воли, категориях вечности,
взаимодействии субъекта и объекта,
о форме, во многих отношениях
восходившие к положениям
нисидовской философии, но главное,
на что была нацелена идея «восточноазиатского
сообщества», выражалось в «Принципах»
такими словами: «Дух восьми углов
под одной крышей — это вечный идеал
японской нации. Он должен быть
реализован в истории» [119, с. 549].
С лета 1940 г.,
когда наметился поворот во внешней
политике Японии в сторону
расширения агрессии в Азии, началась
и идеологическая подготовка к
установлению «нового порядка».
После прихода к власти второго
кабинета Коноэ летом 1940 г.
разворачивается полномасштабная
перестройка политической системы
страны в соответствии с военными
приготовлениями. Установление «государственной
структуры обороны»
предусматривало и всестороннюю
реорганизацию идеологической
сферы. Именно летом 1940 г. в
правительственных программных
декларациях появляется новый термин
— «великая восточноазиатская
сфера совместного процветания».
Концепция
«великой восточноазиатской сферы
совместного процветания»,
сменившая теорию «восточноазиатского
сообщества», стала в период войны
на Тихом океане и второй мировой
войны общепризнанной в Японии
официальной идеологической
доктриной, она разрабатывалась и
конкретизировалась вплоть до 1945 г.
теоретиками и идеологами разных
уровней и направлений.
Главные
положения концепции «великой
восточноазиатской сферы
совместного процветания» включали
в себя доказательства «избранной
роли» Японии в строительстве «нового
порядка» как единственной в Азии
страны, способной «синтезировать
Восток и Запад» и создать «новую
культуру», по сути опиравшуюся на
модернизированный положениями
западной философии буддизм, «божественное»
в котором было представлено
императорским домом. Образцом
межгосударственных отношений в «сфере»
провозглашались отношения между
Японией и формально независимым, но
фактически полностью подчиненным
Японии, марионеточным режимом
Маньчжоу-го. Руководящим принципом
«сферы», обеспечивающим
гармоничные отношения между ее
членами, был лозунг «каждому свое
место», обосновывавшийся при
помощи конфуцианских и буддийских
понятий о гармонии и равенстве. Все
эти рассуждения служили
доказательством прав Японии на
руководящую роль в «сфере».
Одновременно официальная пропаганда
японского национализма утверждала,
что создание «сферы»
восстанавливало «географическую
естественность».
Для того
чтобы разъяснить широким массам
населения те новые моменты
тэнноизма, которые были привнесены
после издания «Кокутай-но хонги», а
также изложить официальную точку
зрения в связи с изменившейся международной
обстановкой и вступлением Японии
во вторую мировую войну, в 1941 г.
министерство просвещения выпускает
брошюру под названием «Путь
подданного» («Симмин-но мити») (см. [154,
с. 238—273]).
В брошюре
повторяются (правда, более
лаконично) основные положения «Кокутай-но
хонги», а также появляются понятия,
употребляющиеся в теории «великой
восточно-азиатской сферы
совместного процветания», такие,
как «построение нового мирового
порядка», «утверждение государственной
структуры обороны». «Путь
подданного», по-прежнему увязанный
в единую формулу государственного
национализма «кокутай», в этом
документе приобретает откровенно
милитаристскую окраску,
практически не оставляя для
простого японца никакого выбора
жизненного пути, кроме
беззаветного служения делу «священной
войны», призванной утвердить во
всем мире «идеалы императорского
правления». «Симмин-но мити»
доводит принцип «подчинения
личного общественному» (мэсси хоко)
до крайних пределов: «То, что мы
называем нашей „личной жизнью",
сублимируется в конечном счете в
следовании пути подданного и
приобретает общественное значение
тогда, когда мы выполняем наш долг
по содействию императорскому
правлению... Таким образом, даже
будучи заняты своими личными
делами, мы никогда не должны
забывать свой долг посвятить себя
императору и служить государству. В
нашей стране все, что каждый делает
— будь он членом правительства,
частным предпринимателем,
родителем, воспитывающим детей,
или сыном, учащимся в школе, —
является выполнением его особого
долга как императорского под
данного» [154, с. 264—265].
В целом
содержание «Симмин-но мити»
свидетельствует о стремлении
официальных идеологов укрепить
традиционный тэнноизм положениями
современных политических учений,
заимствованными у таких теоретиков
философской Киото-ской школы, как
Китаро Нисида, Хадзимэ Танабэ, Ивао
Кояма, а также неортодоксально
мысливших ученых, подобных Киёси
Мики и Тэцуро Вацудзи. Особенно
это заметно в разделах,
посвященных официальным взглядам
на место и роль японца в обществе и
государстве в связи с «особой
миссией» Японии в построении «нового
мирового порядка». Другими словами,
хотя в 30—40-е годы обращение к
традициям по-прежнему оставалось
главным источником формирования
государственно-националистической
идеологии, но «политическая религия»
тэнноизма все в большей мере
дополнялась по-западному рациональными
идеологическими обоснованиями.
Развитие
этой тенденции шло по возрастающей
линии, что наиболее ярко проявилось
в опубликовании в 1944 г. в серии «Национальная
библиотека военного времени»
первой брошюры, составленной из
двух статей «Путь верноподданного
в Японии» и «Американский
национальный характер»,
принадлежащих перу Тэцуро Вацудзи [106].
Два миллиона экземпляров брошюры
были распространены министерством
просвещения. Вацудзи, кстати,
входил в комиссию по составлению
«Кокутай-но хонги», но тогда его
участие лишь в незначительной
степени повлияло на трактовку
некоторых положений тэнноизма.
Хотя Вацудзи ставил перед собой
явно националистическую задачу
доказать превосходство японской
культуры над американской и неизбежность
крушения последней при
столкновении с первой, его работу
отличает ясность изложения мысли и
блестящее для Японии того времени
владение западными методами
научного анализа.
Вацудзи не
был сторонником абсолютно
иррациональной веры в синтоистские
мифы, он выступал за философское
переосмысление синтоистского
культурного наследия, что, по его
мнению, укрепило бы почитание
императора в «новой» Японии,
призванной стать культурным
центром перестроенного мира.
В статье «Путь
верноподданного в Японии» Вацудзи,
разбирая примеры из истории страны,
указывал, что истинное выполнение
долга верноподданного
предполагает выход за пределы
бытия в узких рамках жизни и смерти,
когда полностью отбрасывается
сознание собственного «я». Вместе с
тем неукоснительное следование
заповеди «умереть счастливо во имя
своего господина» представлялось
Вацудзи лишь ограниченным
постижением «пути»; проявлением
истинно японского воинского духа
он считал сочетание этой заповеди с
установкой «не умирать до тех пор,
поп враг не будет побежден». В этом
можно усмотреть весьма
завуалированную критику чрезмерно
твердолобых подходов к
националистической пропаганде,
распространенных в годы войны в
первую очередь в армейских кругах.
Необычной
для тэнноистской литературы,
предназначенной для масс и
оперирующей лишь иррациональными
категориями «японского духа»,
является попытка Вацудэи
рассмотреть японские традиции в
свете их отношения к универсальным
нравственным ценностям.
Центральной нравственной
ценностью, указывает Вацудзи,
всегда признавался «путь
почитания императора», через
следование которому японцы с
древности приобщались к
абсолютному. В отличие от других
народов, исповедовавших мировые религии
и почитавших как абсолют лишь
единственного бога, японцы
постигали мир абсолюта без
ограничения его абсолютным богом и
не облекая постижение в догматическую
форму, что и позволило им избежать
религиозной нетерпимости,
преследований и религиозных войн
против народов других
вероисповедании. Хотя Аматэрасу
была самой почитаемой богиней,
подчеркивал Вацудзи, она не была
первой из богов и не делалось
попыток объявить ее единственным
верховным «ками». Священность
Аматэрасу и как ее частицы —
императора считалась абсолютной,
но не исключительной.
Отмеченная
особенность в приобщении к
абсолюту привела, по мнению
Вацудзи, к тому, что
государственность в древней Японии
не содержала в себе конкретизацию
абсолюта в виде фиксированного
бога, как в мировых религиях. Это
давало японцам, считал Вацудзи,
более широкий взгляд на мир, когда
любая религия могла быть помещена
под «божественное»
покровительство императора и таким
образом принята в Японии. Именно
отсюда развился идеал
заимствования лучшего из всех
стран мира.
Только
Япония, по словам Вацудзи, дает
образец того, что приобщение людей
к самым глубинам абсолюта истинно и
конкретно актуализируется в
структуре человеческих отношений
(айдагара), впервые возникающих, по
Вацудзи, в Японии в рамках общины, а
затем наиболее полно выражающихся
в государстве. Японское
государство, таким образом, выступает
у Вацудзи высшей этической
структурой, воплощением
абсолютного целого, будучи в то же
время абсолютным «ничто» и
абсолютной пустотой. Только на
уровне государства эгоцентризм
полностью преодолевается и реализуется
истинная природа абсолюта и
природа человека (по Вацудзи,
последняя состоит во взаимном
диалектическом отрицании двух
сторон человеческой натуры —
индивидуальной и общественной,
что в идеале и приводит к абсолютному
«ничто»). Почитание императора как
сердцевина учения о морали
провозглашается Вацудзи частным
выражением на японской почве этой
универсальной истины.
Во второй
статье Вацудзи создает образ
англосаксонского национального
характера и тех путей, по которым
пошла его эволюция в США.
Свойственные англосаксам
стремления к индивидуализму, голой
выгоде и ханженскому морализму
привели к тому, что в развитии
цивилизации оказалась
деформированной роль культуры,
понимаемой Вацудзи как духовный
мир, выражающийся в этике, религии,
искусстве. Наиболее ярко
англосаксонский характер
воплотился в теориях Бэкона и Гоббса
как философов индивидуализма,
согласно которым индивиды
договариваются между собой о
соблюдении моральных принципов до
тех пор, пока это соответствует их
личным интересам. На американской
почве, как подчеркивает Вацудзи,
такого рода черты англосаксонского
характера получили наиболее
законченное развитие, что и
предопределило, по его мнению,
империалистический характер
государства в США, способного
оправдать любые завоевания, прикрываясь
рассуждениями о «цивилизаторской
миссии», «справедливости» и «равенстве».
Вацудзи приводит многочисленные
примеры из истории США и международных
отношений, подтверждающие его
положения.
Американцы
достигли больших высот в области
машинной цивилизации, но культура,
лишенная истинной моральности,
поставленная на службу сугубо
утилитарным целям, деградировала,
выражением чего явилось, по мнению
Вацудзи, гипертрофированное
развитие журналистики, потеснившей
религию и искусство. Американцы
стали чересчур чувствительны к
комфорту и превратились в рабов
машинной цивилизации, где
властвует лишь количественная сторона
вещей в ущерб качественной —
человеческой. Американцы приобрели
характер колонизаторов (кайтакуся),
вынужденных искусственно
стимулировать себя погоней за
успехом, не заботясь о моральных
обоснованиях, походя на азартных
игроков. Только исходя из этого,
подчеркивает Вацудзи, можно
понять стремление США к мировому
господству вообще и к господству в
азиатском регионе в частности,
причем разговоры о «мире и
справедливости» лишь пустые
попытки скрыть отсутствие высоких
идеалов. Они полагаются только на
мощь техники, но, заявлял Вацудзи, в
лице Японии они столкнулись с
высокодуховной цивилизацией,
овладевшей машинной техникой, к
тому же главная сила народа в его
морали и духе, поэтому Вацудзи
предрекал поражение США —
зарвавшегося игрока, поставившего
на кон все свое богатство. Подводя
итог своим рассуждениям, Вацудзи
пишет, что в войне на Тихом океане
японское «общинное общество» (кёдотай),
в котором все индивиды и группы
объединяются в едином почитании императора,
выражающего абсолютное целое,
противостоит американскому «обществу
выгоды» (риэки сякай). Столкновение
между американской цивилизацией (буммэй)
и японской культурой (бунка), по
мнению Вацудзи, неминуемо приведет
к победе Японии.
Таков
главный пафос брошюры 1944 г., которая
интересна для нас прежде всего как
проявление модернизатореких
трансформаций идеологии тэнноизма,
получивших законченное развитие
уже в послевоенный период, когда
обоснование уникальности Японии
осуществляется гораздо тоньше и в
существенно более рациональной
форме.
После
создания в
Под
контроль Ассоциации помощи трону
были поставлены все средства
массовой информации. Специально
для пропаганды идей «сферы
совместного процветания» в
Таким
образом, с 30-х годов, ознаменовавших
собой начало все более
расширявшейся агрессивной войны со
стороны Японии, идеология
тэнноизма была окончательно приспособлена
для пропаганды милитаристских идей,
а с приходом к власти лидеров
ультранационалистического толка
государственная доктрина
приобретает черты тоталитарной
идеологии.
В Японии в
30-е годы не наблюдалось ломки
системы идей государственного
национализма, догмам «кокутай» придавался
более агрессивный характер,
культивирование почитания
императора было всецело подчинено
задаче добиться от всех поголовно
японцев готовности умереть за императора.
Все возможные средства пропаганды
и индоктрина-ции использовались
властями для распространения
официальных идей, трактуемых
только исходя из интересов войны.
Сочетание
усиленной идеологической
обработки населения в духе
милитаристского тэнноизма с
жестокими репрессиями
инакомыслящих, а также
недостаточное развитие
сознательности масс к началу войны
на Тихом океане привело к тому, что
подавляющее большинство японцев
относилось к своему военному долгу
как к «священной обязанности» и
было неспособно критически мыслить.
Это не означало, конечно,
отсутствия сопротивления политике
правительства, наиболее
сознательная часть общества не прекращала
активной борьбы, несмотря ни на
какие опасности и гонения. После
войны стало известно немало имен
лиц, стойко отстаивавших в той или
иной форме антимилитаристские,
демократические взгляды.
Существовал также достаточно
заметный слой пассивных
нонконформистов. Есть немало
свидетельств того, что в последние
годы войны в связи с военными
неудачами Японии и затянувшимся
характером войны в народных массах
стали распространяться
критические настроения, многие
испытывали сомнения в возможности
победы в войне. И тем не менее было
бы неверным недооценивать
эффективность воздействия тэнноизма
на массовое сознание японцев:
тотальная индоктри-нация населения
привела к широкому распространению
исступленной веры в «божественность»
императора, в особую миссию народа
«страны богов», фанатизма, символом
которого стали японские смертники (камикадзэ).
Особенности
внедрения тэнноистских идей в
массы
Тэнноизм,
опиравшийся на одну из самых
архаичных религий, сохранявшую
пережитки магических верований,
придавал исключительное значение
ритуалу как средству внедрения в
массы своих установок и
предписаний. Использовалась
характерная для неразвитых религий
«вплетенность» идеологии в ритуал,
когда последний выступает главным
носителем этой идеологии. В
результате модернизации синто
религиозным ритуалам был придан
явно политический характер, что
превращало их в важный фактор жизни
общества.
Государственные
обряды определяли обширный круг
обязанностей подданных Японской
империи. Трансформированные
традиционные ритуалы, в
особенности вновь созданные,
служили строгой регламентации
жизни японцев, эффективно
поддерживали национальную
сплоченность, сообщали ореол «священности»
и таинственности социальным отношениям
в условиях господства
императорской системы. В модернизировавшемся
японском обществе сохраняли свою
реальную силу пережитки
традиционного образа жизни, когда
ритуальная практика узаконивала
структурные основы социального
организма.
Основополагающие
установки идеологической системы
тэнноизма как бы закреплялись
ритуалами на чувственном и
подсознательном уровнях. Иначе
говоря, пропаганда тэнноизма,
опираясь на религиозные приемы
воздействия на массовое сознание,
формировала политическую
ориентацию через эмоциональное
воздействие ритуалов
государственного синто. Вместе с
тем и всякое нарушение чисто
религиозных обязанностей
приравнивалось к нарушению
общественного долга и
соответственно каралось не только
как религиозный проступок —
оскорбление святыни императорской
особы, но и как предательство
родины.
Огромное
значение, придаваемое ритуалу для
внесения тэнноистских идей в массы,
связано с особенностями функционирования
синтоистской культовой системы в
традиционном японском обществе.
Глава социальной группы наделялся
священными качествами и был
посредником между обычными членами
и групповыми божествами. Через
ритуалы, часто отправлявшиеся в
обстановке глубокой секретности,
жрец (он же глава группы), имевший
способность общаться с богами от
имени всей группы, добивался «очищения»
группы и вновь делал ее достойной
божественного покровительства ([162,
с. 8—9]; см. также [83, с. 75—118; 53, с. 52—56]).
Политическая
культура тэнноизма продолжает эту
традицию сакрализации групповой
жизни, когда особое положение главы
группы (в тэнноистской идеологии
это император) определяется его
связью с мистическими силами.
Император как первосвященник,
представляющий всю японскую нацию
перед синтоистскими богами,
выполнял определенные обряды и
церемонии с «целью добиться счастья
своего народа и мира в стране».
Управление государством, согласно
политической доктрине государственного
синто, означало «руководство
обществом посредством участия в обрядах,
что должно было принести ему
спокойствие и единение» [110, с. 76].
Именно в этом смысле надо понимать
тэнноистскую концепцию «единства
отправления ритуала и управления
государством» (сайсэй итти).
Указанная концепция нашла свое
отражение и в значении
синтоистского термина «мацуригото»,
который, обозначая отправление
религиозных обрядов, ритуальных
празднеств, в то же время переводится
и как «государственные дела по
управлению» (см., например, [2, с. 1086]).
Как уже
отмечалось, в механизме внедрения в
сознание простых японцев
тэнноистских мифов самым важным и
действенным методом официальная
пропаганда признавала специфически
культовую схему идеологического
воздействия — ритуал. Идеологи «кокутай»,
трансформировав традиционные
синтоистские ритуалы, а также
разработав множество новых,
рассчитанных на общенациональные
масштабы ритуальных мер, свели их
в строгую унифицированную в государственном
плане систему, призванную
сохранять и взвинчивать чувства «единства
расы Ямато и императора», принадлежности
всех японцев к единой общности,
покровительствуемой и ведомой
волей синтоистских «ками». В 1875 г.
правительство Мэйдзи издало свод
молитв и религиозных церемоний,
которые отныне должны были
использоваться в ритуалах и
празднествах государственного
синтоизма [184, с. 56]. Больше половины
официальных религиозных служб было
разработано заново, хотя это
замалчивалось и преподносилось
как восстановление древних
порядков. Из 13 религиозных
церемоний, богослужение на которых
совершалось лично императором, 11
были созданы в период Мэйдэи. Эти 13
обрядов назывались «большими», они
дополнялись «малыми», богослужения
на которых отправлялись главным
священнослужителем («сётэн»)
императорских святилищ.
Ритуал
императорского двора носил
название «императорского синто»,
его обрядность окончательно
сформировалась к 1908 г., когда был
издан специальный указ,
закрепивший порядок отправления
религиозных церемоний при дворе. В
Токио на территории императорского
дворца вскоре после «реставрации
Мэйдзи» сооружается комплекс
святилищ (кутю сандэн) (подробнее об
этом см. [42, с. 146—147]).
С 1873 г.
начинает разрабатываться система
государственных праздников, почти
всецело базирующаяся на обрядности
двора. Именно государственные
праздники служили главным каналом
внедрения догм «кокутай» в
массовое сознание. Тот факт, что
государственные праздники почти
полностью вторили «большим»
обрядам «императорского синто»,
должен был утверждать в глазах
широких масс центральное место
института императорской власти в
политической и культурной жизни
страны.
В 1873 г.
были отменены традиционные
праздники и вместо них введены
всего два государственных
праздника — «день вступления
императора Дзимму на престол» («Дзимму
тэнно сокуи хи» — 29 января) и «день
рождения правящего императора» («тэнтёсэцу»
— 3 ноября). Но, посчитав это
недостаточным, особенно учитывая
практику празднеств в западных
странах, в том же году добавили: «гэнсисай»
(справлялся 3 января при дворе в
память о сошествии на землю
правнука богини Аматэрасу — Ниниги-но
микото)15, «Синнэн энкай» («торжество
в честь Нового года» — 5 января), «Комэй
тэнно сай» («день памяти императора
Комэй», отца императора Мэйдзи, — 30
января), «Дзимму тэнно сай» («день
памяти императора Дзимму» — 3
апреля), «канна-мэсай» (праздник
осеннего урожая — 17 октября)16
и «ниина-мэсай» (праздник
преподнесения императором риса
нового урожая синтоистским
божествам — 23 ноября). В указанном
же году «годовщина вступления
императора Дзимму на престол»
переименовывается в «день
основания империи» («кигэнсэцу»),
и его празднование назначается на 11
февраля [98, с. 125].
В 1878 г.
государственными праздниками
объявляются также весеннее и
осеннее поминовения «ками» умерших
императоров, которые проводились
в дни осеннего и весеннего
равноденствия, когда японцы по
традиции поминают своих предков.
Общенациональным становится и
праздник «сихо-хай» («поклонение
императора богам четырех сторон
света» — 1 января) [98, с. 126].
С 1870-х
годов в школах всех ступеней
вводятся церемонии празднования
этих дат, главными и обязательными
из которых постепенно становятся «кигэнсэцу»
и «тэнтёсэцу».
В период
правления императора Тайсё было
отменено празднование в
общенациональном масштабе «дня
памяти императора Комэй», его
заменили «днем памяти императора
Мэйдзи» (30 июля), но после смерти
императора Тайсё вместо этого
стали отмечать день его памяти, а
торжество, посвященное императору
Мэйдзи, перенесли на день его
рождения (3 ноября) и стали называть
«Мэйдзисэцу». В этот праздник, так
же как и в «кигэнсэцу» и «тэнтёсэцу»,
в школах стали проводиться
обязательные церемонии.
После
обнародования «Императорского
рескрипта об образовании» (
Принципиальный
порядок церемоний состоял в следующем:
обряд поклонения портретам
императора и императрицы,
произнесение здравиц в честь обоих
«всемилостивейших» высочеств,
чтение вслух высочайшего рескрипта
об образовании, выступление
директора школы, пение хором песни
по случаю праздника. Кроме того,
ученикам дарились сладости или
памятные подарки. На этих
церемониях присутствовали все,
кто был связан с организацией
школьного просвещения, прежде
всего мэры городов или старосты поселков,
родители и родственники учеников;
местные жители также должны были по
мере возможности принимать участие
[108, с. 252].
Подробно
исследовав роль тэнноистских
праздников, Аки-ра Ямамото и
Тосихико Имано пришли к следующему
заключению: «При внедрении и
проникновении идеологии тэнноизма
школьные церемонии были
центральным звеном системы
просвещения, находили очень
широкое применение... Дело в том, что
школьные церемонии эпохи Мэйдзи
органически соединяли все области
просвещения — педагогику,
образование, контроль — и
укоренялись в школах с поразительной
упорядоченностью, позволявшей
выполнять цель власть предержащих
идеологов по закреплению
создававшегося государством
образцового типа подданных» [160, т. 1,
с. 12].
После
побед в японо-китайской (1894—1895) и
русско-японской (1904—1905) войнах
школьные церемонии все более
наполнялись шовинистическим духом,
японцев воспитывали как «народ,
нацеленный на экспансию» (ботётэкина
коку-мин) [78, с. 230]. Особое значение
для «поднятия боевого духа»
населения придавалось
празднованию «кигэнсэцу», который
был провозглашен «днем войн и побед,
днем в осе давления нерушимости
великой Японской империи» [85, с. 181].
С 1931 г.,
когда началась вооруженная
интервенция Японии в Маньчжурии, к
«кигэнсэцу», как и десятилетия
назад, не раз приурочивали начало
наступления и объявления о победах.
В печати стали привычными призывы:
«Захватим такой-то город ко дню
основания империи» или «Начнем еще
одно наступление в ознаменование
кигэнсэцу» [156, с. 60].
После
начала «большой» войны в Китае «день
основания империи» нередко
именовали «кигэнсэцу военного
государства» (гуикоку-но
кигэнсэцу) [101, с. 195].
Для
школьных учителей в дни
тэнноистских празднеств
устраивались специальные
торжественные собрания, где им
читали инструкции по «моральному
воспитанию» детей. Типичным
примером такого инструктажа может
служить обращение к школьным
учителям на праздновании «2601-й
годовщины» основания Японской
империи в 1941 г. министра
внутренних дел барона Киитиро
Хиранума. «Японское
государственное устройство, —
заявил он, — не имеет подобия в мире...
В этот день 2601 год назад наш первый
император Дзимму взошел на престол.
Династии в других странах основаны
людьми. Иностранные короли, императоры
и президенты поставлены у власти
людьми, лишь в Японии священный
трон унаследован от божественных
предков. Поэтому императорское
правление — это продолжение
божественного провидения. Династии,
основанные людьми, могут рухнуть,
но трон, воздвигнутый богами, не
может быть поколеблен людьми» [163, с.
73].
В период
тэнноистского милитаризма
государственные праздники обросли
целым набором неукоснительно соблюдавшихся
регламентации. Любое отступление
от официальной инструкции
каралось настолько сурово, а
тэнноист-ская обработка велась
среди масс настолько интенсивно и в
таком истеричном стиле, что в конце
концов преобладающим чувством,
испытываемым японцами к своему
верховному правителю, стал
почтительный страх. Ббльшую часть
празднеств во славу монархии
подданные проводили в позе глубочайшего
поклона, испуганно потупив глаза.
Портреты
императора и императрицы хранились
вместе с копией «Императорского
рескрипта об образовании» в специально
возведенных на школьных дворах
огнеупорных павильонах,
напоминавших по виду миниатюрное
синтоистское святилище, но без
окон и с единственной наглухо
запертой и опечатанной дверью. В
крайнем случае для хранения «святынь»
выделялся специальный сейф. Во
многих школах составлялся график
дежурств среди учителей для
наблюдения за сохранностью «святынь».
Передача дежурства также
сопровождалась особым маленьким
ритуалом. В случае пожара или
землетрясения императорские «святыни»
оберегались с гораздо большим
рвением, чем жизнь учеников. Ритуал
празднеств в школах дополнялся
ежедневным поклонением на
расстоянии, когда и учителя, и
ученики застывали в поклоне в
сторону императорского дворца.
Объясняя,
почему тэнноистские празднества
стали сутью образования в
довоенной Японии, Киётомо Исидо
пишет: «Министерство просвещения
хорошо знало, что культ императора
и связанные с ним идеи ко кутай не
появляются на основе „знания и
логики", а постигаются,
усваиваются многократными
тренировками. Поэтому тэнноистская
идеология насаждалась по типу
народных обычаев... от ощущения — к
пониманию, от понимания — к знанию»
[69, с. 75].
По мнению
Фумио Мория, именно вследствие
распространения в массах
преимущественно путем насаждения
государственного ритуала
идеологии тэнноизма «„процесс психологического
обнищания народа" (выражение
Наоси Сэки-гути) принял всеобщий
характер, что, в свою очередь,
явилось тем ферментом, который
вызвал к жизни тэнноист-ский фашизм»
[94, с. 234].
Вот как
описывает свои ощущения и
представления об императоре в
детские годы известный японский
писатель Кэндзабуро Оэ (к окончанию
второй мировой войны ему
исполнилось десять лет):
«Даже
ученики младших классов трепетали
перед императором. Помню, как
тряслись у меня колени, когда учитель
спрашивал, что мы намерены делать,
если его высочество прикажет нам
умереть. Ошибусь — и конец, казалось
мне.
— Что ты
сделаешь, если император повелит
тебе умереть?
— Умру.
Сделаю харакири, — бледнея,
отвечает мальчишка.
— Хорошо.
Следующий! — выкликает учитель,
поднимая с места нового ученика. —
А ты, ты что сделаешь, если его
высочество повелит тебе умереть?
Говори!
— Умру!
Совершу харакири!
Какое оно,
лицо, изображенное на высочайшем
портрете? Меня терзало острейшее
любопытство, но я не смел поднять
глаз. Если взгляну — ослепну.
Когда я
болел, меня неизменно посещало одно
и то же видение: по небу, птицей паря
на белых крыльях, летит император. И
я замирал от священного трепета» [34,
с. 11]. Подобное отношение к
императору как к существу, наделенному
сверхъестественной силой, помимо
ритуалов формировалось
практически на занятиях любым
предметом, даже уроки математики
строились так, чтобы утвердить «божественность»
императора, а уж такие предметы, как
история, родная речь и литература,
всецело служили укреплению
тэнноистского сознания.
Прогрессивный японский журналист М.
Като писал: «Книги, которые не
способствовали развитию „японского
духа", были в конце концов
запрещены для чтения, а их место
заняли произведения, посвященные
теориям национал-социализма...
Книги, проповедовавшие
националистические идеи,
божественное происхождение
императора и обязанность японца
пожертвовать для государства всем,
включая жизнь, стали обязательными
для чтения в вузах и колледжах» [171,
с. 183].
Видимо
считая, что проведение
государственных праздников,
обрядов императорского двора, а
также ритуальной деятельности
привилегированных храмов
государственного синтоизма
недостаточно для повсеместного
внедрения догм «кокутай»,
правительство в 1907—1914 гг.
осуществило «тэнноизацию» обрядов
всех синтоистских храмов, которым в
обязательном порядке
предписывалось отправлять обряды
государственного синтоизма
согласно подробным инструкциям
министерства внутренних дел,
регламентировавшим мельчайшие
детали обрядности и требовавшим
произнесения новых молитв,
написанных исходя из догм «кокутай»
[42, с. 148—149]. Унифицированная
синтоистская система обрядности,
являвшаяся религиозной базой
распространения государственного
национализма, опиралась на ритуал «домашнего
синто», также преобразованный в
соответствии с обрядностью
императорского культа. Если раньше
перед домашним алтарем (камидана)
поклонялись «ками» — покровителю
данной местности и семейным
предкам, то с введением
государственного синто в каждом
камидана в обязательном порядке
должна была стоять табличка с
именем богини Аматэрасу.
Значимость
того или иного ритуала
государственного синтоизма в
культивировании основных
мифологических символов
тэнноизма определялась его рангом
в системе официально введенной
иерархии. Естественно, венчали эту
иерархию ритуалы, проводившиеся в
храмах, непосредственно связанных
с культом императора, — храмах Исэ,
Мэйдзи, Касивара и т.д. Главными для
культивирования государственного
национализма являлись также
церемонии, посвященные событиям,
которые имеют отношение ко всей
нации и выражают интересы
государства.
На службу
тэнноизму была поставлена
ритуально-мистическая символика и
такого обряда, как «великое очищение»
(«обараэ»). «Великое очищение»
осуществляется два раза в год — в
последних числах июня и декабря.
Молитва (норито), которая
произносится по поручению
императора во время «обараэ»,
начинается с вызова духов всех
членов императорской фамилии и
представителей правительства. Их
символическое участие в ритуале
означает, что в ходе его будет
совершено очищение всей японской
нации от греховного и нечистого,
накопившегося за полгода. Обряд очищения
состоит в отрезании верхушки и
середины священной конопляной
веревки, которая затем разрывается
на восемь частей (восемь
символизирует множество). Эти
обрывки, заключающие в себе,
согласно верованиям, любую скверну
японцев, кидают в реку Тама,
протекающую в западной части г.
Токио, по этой реке они навсегда
уплывают в море [185, с. 40].
Из ритуала
императорского двора мы подробнее
рассмотрим один из трех ритуалов
церемонии восшествия императора на
престол — «дайдзёсай», или «оониэ
мацури». До революции Мэйдзи эта
церемония, заимствованная из Китая,
состояла из трех отдельных
ритуалов, между которыми в
зависимости от обстоятельств могли
быть довольно длительные
интервалы. Первый ритуал церемонии
восшествия на престол именовался
«сэнсо», его центральным элементом
был обряд передачи священных
яшмовых подвесок и меча, а также
императорской печати, после
которого новый император устраивал
смотр министрам и провозглашал
свое «занятие трона». Этот ритуал
проводился сразу же после смерти
предшествовавшего императора.
Ритуал «сэнсо» во время восшествия
на престол императора Мэйдзи
проходил в период смуты и волнений,
поэтому он в нарушение древних
порядков был очень упрощен [98, с.
108].
Второй
ритуал церемонии восшествия на
престол — «со-куисики» с древних
пор проводился по китайскому
образцу и в определении дня его
проведения очень большое значение
имело гадание по даосской системе «инь-ян».
Однако в 1868 г. Дзингикан разработал
новую церемонию, «со-куисики»,
согласно синтоистским традициям,
причем всем элементам церемонии
был придан нарочито древний вид,
будь то одеяния участников,
интерьер помещения или ритуальные
предметы [98, с. 109—115].
Однако
наибольший интерес для нас
представляет третий ритуал
церемонии — «дайдзёсай», так как
именно его содержание является
важным для понимания мистических
сторон императорского культа,
определяющих глубинные слои
символики тэнноистской идеологии.
Содержание рассматриваемого
ритуала пока не получило
однозначной интерпретации в
японской литературе, в какой-то
мере это связано с тем, что ритуал
отправлялся тайно в храмах
императорского дворца и его
содержание намеренно не
раскрывалось. Некоторые черты «дайдзёсай»
берут свое начало от самого важного
синтоистского «мацури» — «ниинамэсай»
(«праздника вкушения плодов нового
урожая»). Символику последнего
возводят к мифологическим записям
в «Кодзики» и «Нихон секи»,
согласно которым богиня Аматэрасу
отправляла обряд нового урожая на
небесах. В древности «дайдзёсай»
был источником религиозного и
политического престижа верховного
правителя.
В
традиционной Японии «ниинамэсай»
справлялся в каждой семье, рис
нового урожая преподносился
семейным и клановым «ками», эту
трапезу с божествами разделяли
все участники ритуала .[170, с. 96].
Таким образом, суть праздника
заключалась в священной трапезе,
когда люди, совместно в кушавшие
пищу, подносимую божествам,
возносили благодарность за урожай
и в то же время приобщались к
божественному началу. Каждый год
богослужение «ниинамэсай»
отправлялось и при императорском
дворе, где плоды нового урожая
вкушались совместно с прародительницей
династии — Аматэрасу и другими
синтоистскими «ками» —
императорскими предками. Когда же
этот праздник стал справляться
также по поводу вступления нового
императора на престол (предположительно
с правления императора Тэмму — VII
в.), он стал называться «дайдзёсай»
и приобрел множество сложных и
утонченных обрядов, отличавших его
от обычного «ниинамэсай».
Перед
ритуалом «дайдзёсай» император
соблюдал две формы воздержания, или
поста. Первое более строгое воздержание,
«маими» («принципиальное
воздержание»), длилось три дня, в
которые император всецело посвящал
себя религиозным обрядам. Вторая
форма воздержания, «араими» («предварительное
воздержание»), не была столь
строгой и длилась месяц [170, с. 98].
Пост, согласно некоторым исследованиям,
был направлен на «воскрешение духа
усопшего императора». Есть
предположение, что, учитывая значение
шаманизма в древней Японии,
первоначальной формой «дайдзёсай»
был ритуал «воскрешения духа
усопшего императора» путем
совместного возлежания преемника
на ритуальном ложе с покойником [60,
с. 100; 161, с. 179—180]. Умершего
императора хоронили не сразу, а
помещали в специальную
покойницкую, где совершался обряд
заклинания духа усопшего.
Этот
ритуал служил укреплению
представлений о непрерывности
единой династии со времен
зарождения государственности в
Японии. В мифологическом плане «дайдзёсай»
олицетворял неизменность
возрождения божественного духа
Ниниги-но микото, правнука богини
Аматэрасу, посланного ею для
управления Японией. К этим
мифологическим основаниям,
указывал Сокити Цуда в своих
довоенных трудах, добавлялись и
чисто политические наслоения.
Синобу
Оригути в своей работе
После
революции Мзйдзи «дайдзёсай» был
проведен в 1871 г. не в Киото, где он
отправлялся после восстановления
в середине эпохи Токугава, а в Токио,
что знаменовало собой закрепление
перенесения из Киото императорской
столицы. Правительство разработало
новую формулу обряда, сохранив его
основное содержание — придание
власти императора мистического
ореола [98, с. 114—120].
Церемонии
«дайдзёсай» императора Тайсё и
недавнего императора Хирохито
носили еще более грандиозный характер,
чем в период Мэйдзи, и широко
освещались средствами массовой
информации.
Для
укрепления государственного
культа императора власти воздвигли
немало новых храмов (особенно в
первые годы после реставрации),
которые через вновь разработанную
обрядность должны были насаждать в
народе верноподданность и
готовность беззаветно служить
своему монарху. Г.Е. Светлов
подробно описывает нововведения
государственного синто, выделяя
государственные религиозные
учреждения в честь защитников «южного»
двора в период двоецарствия (этот
двор был официально признан законным);
святилища, обожествлявшие
предшествующих императоров; храмы,
посвященные «ками» ведущих
идеологов «возрождения синто
древности», школы Мито, а также деятелей
нового режима, отличившихся своей
воинской доблестью и преданностью
императору; синтоистские святилища,
сооруженные на захваченных Японией
территориях; комплекс местных
храмов — «защитников государства»
(гококу дзиндзя), возглавлявшихся
центральным общенациональным
храмом Ясукуни [42, с. 154—161].
Большое
влияние на формирование массового
национализма, сращенного с
культом императора, оказывала
ритуально-мистическая символика
обрядов, совершавшихся в храмах,
воздвигнутых в честь императора
Дзимму (их было два — в Миядзаки, на
юге о-ва Кюсю, и в Касивара, в окрестностях
г. Нара), в грандиозном святилище в
честь императора Мэйдзи,
пользовавшемся огромной
популярностью, а также в храме
Хэйан дзингу, посвященном
императору Камму, в царствование
которого императорская столица
была перенесена в Хэйан (позже
переименованный в Киото). Но
специального упоминания, с точки
зрения утверждения в массах культа
императора и подогревания
милитаристского психоза в стране,
заслуживает храм Ясукуни с его
сетью местных храмов-филиалов.
Храмом Ясукуни
(Ясукуни дзиндзя) в 1879 г. стали
называть Сёконся (храм, основанный
правительством в 1868 г., главной
церемонией которого был обряд «сёконсай»
— вызов духов павших за императора
с 1853 г., в период борьбы за «реставрацию
трона»). Тогда же Ясукуни дзиндзя
присвоили ранг особого
императорского святилища и передали
его в ведение министерств армии и
военно-морского флота, которые и
утверждали духовенство храма.
Фактически роль главных
священнослужителей во время
праздников этого храма выполняли
высшие военные чины. Охрану
Ясукуни дзиндзя обеспечивали
подразделения военной жандармерии
[42, с. 157].
В
дальнейшем в Ясукуни дзиндзя
почитались как «ками» все японцы,
павшие на поле боя за «великое дело
императорского пути». Посвящение
душ, погибших за тэнно, проходило в
ходе пышной религиозной церемонии (17
октября), в богослужении которой
принимал участие сам император,
выражавший таким образом свою
благодарность и восхищение
величием воинского подвига. Обряды,
отправлявшиеся в храме Ясукуни,
носили форму вызова духов погибших
воинов, которые спускались с небес,
чтобы присоединиться к тем, кто
уже был «обожествлен» в святилище.
Церемония вызова и встречи духов
павших героев носила мистический
характер, она осуществлялась
глубокой ночью, что придавало ей
особо торжественный характер.
Подобные
обряды (но, конечно, без участия
императора) проводились и в местных
отделениях храма Ясукуни — сёкон-ся,
которые в 1939 г. были переименованы
в гококу дзиндзя (общее число их
достигало 120). Участие в такого рода
ритуалах способствовало
распространению в японском
обществе верований в то, что души
умерших продолжают влиять на
жизнь видимого мира и, где бы их ни
застала смерть, всегда
возвращаются на родину. Японцы
верили, что после обряда «обожествления»
«ками» погибших воинов становились
охранителями живых солдат на полях
«священных» войн, которые вела
Япония (подробнее о культе павших
героев храма Ясукуни см. [114; 158; 95]).
Храм Ясукуни и его местные филиалы
играли исключительную роль в
пропаганде милитаризма и
агрессивного шовинизма.
Государственный
национализм Японии использовал, таким
образом, культ предков, придав ему
форму обязательных религиозных
ритуалов, он опирался при
разработке общенациональных
празднеств на традиции обрядовой
практики древних народных культов,
видоизменяя их в интересах
государства. Тэнноизм внушал веру в
то, что генеалогия всех японцев
восходит к некоему единому корню —
это должно было создать чувство
кровнородственной национальной
общности и особую форму
человеческих отношений в ней. Опора
национализма на религиозный культ
императора облегчала духовное
подчинение японцев, так как
открывала возможность
использовать чисто религиозный по
своему механизму ритуал для
формирования национального сознания,
что в значительной мере обеспечило,
на наш взгляд, достаточно высокое
его развитие уже к концу XIX в.
Применение
ритуала позволило укрепить нацию
как общность, имевшую основу не в
уме, а в сердце — в виде веры. Среди
широких масс общества национализм
функционирует не на уровне
идеологии, а на уровне социально-психологической
ориентации, и включение ритуала как
главного момента в процесс
формирования национального самосознания
делает эту ориентацию столь же
сильной, сколь и почти
исключительно базирующейся на
чувстве, не контролируемом
разумом. Через обрядность
государственного синтоизма, в
которую в обязательном порядке
вовлекалось все японское общество,
установки тэнноизма проникали во
все сферы общественной жизни.
Японцы, находившиеся в плену
мифологических представлений,
смотрели на самих себя как на живое
воплощение своих мифических
предков. Общение с божествами через
обряды рассматривалось как
необходимое условие для
поддержания существования японской
нации. В довоенной системе
тэнноистских идей император
выступал носителем творческого
начала японской нации, средоточием
ее «божественного» предназначения
и животворящей энергии.
Глава 3
ИДЕОЛОГИЯ
ТЭННОИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ
Становление
«символической императорской
системы»
Разгром
японского милитаризма в
В первый
послевоенный период под
воздействием небывалого подъема
демократического движения под
контролем американских
оккупационных властей проводился
курс на искоренение главных
проявлений милитаризма и тэнноизма,
на развенчание мифов о «божественном»
происхождении императора и Японии.
Эти меры предусматривались в
Потсдамской декларации 1945 г., а
также во врученной 15 декабря 1945 г.
японскому правительству директиве
оккупационных властей об отделении
синтоистской религии от
государства. Среди шагов,
предпринятых по реализации курса
союзников-победителей,
направленного против милитаризма и
тэнноизма, в первую очередь нужно
назвать отречение императора от «божественного»
происхождения в его новогоднем
обращении к народу 1946 г.,
демократическую реформу
образования, отменившую «моральное
воспитание» в духе тэнноизма в
школах, наконец, принятие новой,
демократической конституции в 1947 г.,
передавшей суверенитет в стране
народу. Власти императора, согласно
конституции, был придан
номинальный характер — она была
ограничена статусом «символа
государства и единства нации» (о
послевоенном статусе императора
см. [30, с. 176—189; 29]. Это послужило в
дальнейшем основанием для
обозначения в японской литературе
послевоенного государственного
строя «сётё тэнносэй» — «символическая
императорская система».
Перечисленные
и другие реформы общественной
структуры Японии, хотя и
знаменовали собой качественно
новый этап в развитии страны, не
были до конца последовательными в
подрыве религиозных корней
государственного национализма. Так,
директива об отделении синто от
государства оставляла возможность
по-прежнему изображать императора
духовным главой страны, давала ему
право совершать в сопровождении
государственных чиновников
паломничества в синтоистские храмы,
хотя формально и в качестве
частного лица. Отречение императора
от своего «божественного»
происхождения начиналось с длинной
цитаты из «Клятвы» императора
Мэйдзи 1869 г., которая, по словам
Хирохито, должна была послужить
впредь «основой национальной
политики» (см. [155, с. 179— 180]).
О
непоследовательности и
противоречивости в политике
демократизации послевоенной
Японии говорит и попытка сочетать
принципы конституционной монархии
с принципом народного суверенитета,
что до сих пор служит причиной
дискуссий среди японских
правоведов о характере государственного
строя страны. Решительному курсу на
отказ от традиций
националистической идеологии
мешало также то, что, как писал
американский журналист М. Гейн, «осуществление
демократизации было поручено
недемократическому правительству»
[12, с. 134].
Более того,
в политике американских
оккупационных властей уже к весне
1946 г. наметился поворот к
сворачиванию многих направлений
демократической перестройки
Японии. В апреле 1946 г. в штаб
генерала Макартура поступил
секретный приказ Комитета
координации иностранных, военных
и морских дел в Вашингтоне, в
котором указывалось на опасность
укрепления позиции коммунистов в
случае установления в Японии
республики и давались инструкции
по сохранению императорского строя.
Макартуру приказывалось «тайно
содействовать популяризации
личности императора не как
существа божественного
происхождения, а как человека» (см. [12,
с. 304—305]).
Все это
способствовало тому, что сразу же
после принятия конституции 1947 г.
правящие круги развернули
массовую идеологическую кампанию
за сохранение «кокутай», по-видимому
рассматривая демократические реформы
лишь как временную уступку и
намереваясь сразу же приступить к
деятельности по выхолащиванию
демократического содержания
преобразований в системе государственной
власти, давая им интерпретацию в
духе довоенных установок. Как
заявил в ходе обсуждения этого
вопроса на заседании парламента
премьер-министр Сигэру Ёсида, новое
положение об «императоре — символе
государства и единства нации»
совпадает с давно утвердившимся в
сознании японского народа
представлением о том, что император
символизирует собой японскую государственность,
и не противоречит традиционным
воззрениям на монархическое
правление в стране как «на возникшую
естественным путем форму японского
государства» (цит. по [154, с. 67]).
В научных
кругах развернулась дискуссия по
поводу «ко кутай», основными
оппонентами в которой выступали
профессора Сойти Сасаки,
указывавший на изменения в
характере «кокутай» (см. [208]), и
возражавший ему Тэцуро Вацудзи (см.
[159]). Вацудзи, как и другие поборники
сохранения «кокутай», уклоняясь от
четкого определения этого понятия
и пользуясь его многозначностью,
доказывал, что новый статус
императора вполне в русле довоенных
традиций. Император, писал Вацудзи,
символизирует не политическое, а
культурное единство японского
народа, который составляет «культурное
сообщество в языке, истории,
обычаях и других проявлениях
культурной жизни» (цит. по [154, с. 65—67]).
Именно
этот тезис Вацудзи был подхвачен и
развит последующими идеологами
послевоенного тэнноизма. Таким
образом, сразу же после отмены
императорской системы,
закрепленной в конституции Мэйдзи,
начались поиск и разработка нового
оформления тэнноизма в
соответствии с изменившейся
обстановкой. Термин «кокутай» со
временем исчез из употребления в
официальных доктринах, что, однако,
не означало полного отказа от
воплощенных в этом понятии
националистических установок.
С весны 1946
г. началась контролируемая
правительством деятельность по
восстановлению престижа
императора, по приспособлению его к
новой роли в новых условиях. Марк
Гейн записал в своем дневнике после
того, как он стал свидетелем
массовой истерии во время одной из
первых встреч императора Хирохито
с простыми японцами 26 марта 1946 г.: «Это
был памятный день, ибо я своими
глазами наблюдал политическую
реставрацию в действии. Смысл
существования императора как
божества был сведен на нет в день
капитуляции. Теперь группа старых,
проницательных людей, окружавших
императора, создавала новый миф —
миф о демократическом монархе, заботящемся
о благе своего народа...» [12, с. 178].
Процесс
возрождения тэнноизма после
вступления в силу конституции 1947 г.
можно разбить на три основных этапа.
Первый
этап можно условно обозначить
временными рамками конца 40-х годов
— первой половины 60-х годов. Это был
период наиболее низкого падения
престижа императора. В целом с
точки зрения возрождения тэнноизма
это двадцатилетие можно
охарактеризовать как время поиска
новых средств, форм и методов
использования «символической
императорской системы» и их
апробирования в официальной
политике идейно-психологического
влияния на массы. Идеологическое
оформление культа императора не
принимает форму развернутой
концепции, а ограничивается лишь
популяризацией «нового» образа
императора, непричастного к
политике, стоящего над всеми
классами и слоями японского
общества. Изыскивались пути к
налаживанию и укреплению
модифицированных по сравнению с
периодом милитаризма связей между
отрекшимся от «божественного»
происхождения императором и его
бывшими подданными,
превратившимися в суверенных
граждан. В стране исподволь
создавались условия для
возрождения культа императора, но
не «божественного» верховного
правителя, окруженного
мистическим ореолом,
неприкосновенного, отделенного от
простых японцев системой табу,
обеспечивавшей «поклонение на
почтительном расстоянии», как это
было до 1945 г., а «скромного, близкого
к народу конституционного монарха».
С этой
целью осуществлялась система
мероприятий, главную роль в которых
играли непосредственно император и
члены его семьи и сводившихся
преимущественно к обеспечению
живого контакта императора с
народными массами. Так, для
создания среди населения образа «народного»
императора в 40—50-е годы
организуется целая серия
прерванных в период оккупации
поездок императора в сопровождении
членов его семьи по стране, включая
самые отдаленные ее уголки.
Император, начав свое путешествие в
1949 г. с провинции Фукуока, завершил
его в 1954 г., посетив Хоккайдо. С 1
января 1948 г. вновь вводится
практика общения с народом, когда
на Новый год и в свой день рождения
император с императрицей и другими
членами семейства приветствуют
всех являющихся с поздравлениями в
императорский дворец в Токио [154, с.
74].
Средствами
массовой информации широко
освещались возобновленные в 50-е
годы традиционные дворцовые
поэтические состязания,
обставляемые с особым церемониалом
торжественные приемы в
императорском дворце знаменитых
деятелей культуры и искусства,
наиболее видных из которых
император собственноручно
награждает специально
учрежденными почетными орденами.
С октября
1951 г. император стал участвовать в «дне
физкультуры» (тайику-но хи), с
апреля 1952 г. — во «всеяпонском
празднике посадки деревьев» (дзэнкоку
сёку-дзюсай), с мая 1952 г. — во «всеяпонской
церемонии поминовения погибших на
войне» (дзэнкоку сэмбоцу цуйто сики),
являвшейся одним из основных
обрядов государственного
синтоизма до окончания второй
мировой войны. А с ноября 1953 г. для
углубления связей с народом по
инициативе императора стали
устраиваться «вечера на открытом
воздухе» (эн юкай) [159, с. 62].
Главным
направлением возрождения
тэнноизма в первые послевоенные
годы было движение за
восстановление синтоизма в статусе
государственной религии. Поскольку
синтоизм всегда делал упор не на
догматику, а на ритуальную сторону,
то сохранение после поражения в
войне многих обрядов синтоизма,
которые, как мы видели, служили
распространению в массах культа
императора, милитаристских
шовинистических настроений,
рассматривалось синтоистскими
деятелями как важнейшая гарантия
успешной деятельности по
возрождению политической роли
синтоизма.
В
документе, подготовленном
Синтоистским комитетом публикаций
для 9-го Международного конгресса
по истории религий 1958 г., отречение
императора от «божественного»
происхождения расценивалось лишь
как влекущее за собой изменения
внешнего свойства, не
затрагивавшие духовных основ
синтоизма, так как не произошло
больших изменений в мистических
обрядах императорского двора и
храмового синто. «Одна из
достопримечательных особенностей
синтоизма как религии состоит в
том, что формы синтоистской веры не
ограничены догматами и священными
предписаниями, а воспроизводятся
посредством традиционного ритуала,
поэтому и раны, нанесенные этой
переменой (публичным заявлением
императора о том, что он простой
смертный. — Т.С.-Н.), не являются
глубокими по тех пор, пока нет
больших изменений в отправлении
религиозных ритуалов» (цит. по [185, с.
40]).
В этой
связи, поскольку император,
формально выступавший как частное
лицо, фактически продолжал
отправлять обряды как
первосвященник национальной
религии Японии, и после его
отречения от "божественного"
происхождения оставалась база для
почитания императора как хранителя
традиционной духовной культуры,
что позволяло конституционному
монарху Японии сохранять в неявном
виде важное место в системе
националистической символики.
Вместе с
тем после окончания оккупации
Японии в 1952 г. император стал
публично выступать как символ
независимой Японии. Кульминацией
усилий в данном направлении стал «первый
бум императорской семьи»,
начавшийся церемонией
совершеннолетия и введения в сан
наследного принца Акихито в 1952 г.,
когда синтоистскому обряду был, по
существу, придан официальный
статус. С этого момента молодой
кронпринц должен был, по замыслу
властей, выступать символом возрождения
Японии. В марте 1953 г. наследный
принц в качестве представителя
императора присутствовал на коронации
принцессы Великобритании
Елизаветы, после чего совершил
полугодовое путешествие по странам
Европы.
Поднятию
престижа императорского дома
служила и шумная идеологическая
кампания, развернутая в
«Символическая»
монархия, используя этот бум, стала
вновь завоевывать социальную опору
в массах. В результате был
практически преодолен кризис
императорской системы, возникший в
первые послевоенные годы: «символическая»
монархия упрочила свои позиции.
Одновременно
под прикрытием пропаганды «неполитической
роли императорской семьи» уже в
первой половине 50-х годов, в
условиях общего поворота к реакции
после начала войны США против
Корейской Народно-Демократической
Республики (
В 1955 г. при
Либерально-демократической партии
(ЛДП) был основан комитет по
пересмотру конституции, одной из
основных его задач провозглашалось
наделение императора
прерогативами высшей политической
власти.
В
интересах возрождения позитивного
отношения масс в целом к императору
как к личности и институту обыгрывались
положения о «символической
монархии». Еще в 1951 г. тогдашний
министр просвещения Амано
опубликовал документ под
названием «Суть практики народа» («Кокумин
дзиссэн ёрё»), в котором, в
частности, говорилось: «Мы, как
самобытная страна, имеем
императора в качестве символа
государства. В том, что в течение
длительного исторического периода
в нашей стране был император,
особенность Японии. Положение
императора в качестве символа
государства обеспечивает ему
значение сердцевины морали» (цит.
по [133, с. 128]). Такого рода
высказывания легко проникали в
общественное сознание, прежде
всего социальных слоев, не
стремившихся к переустройству общества
и нуждавшихся в утверждении
преемственности в истории страны.
Важнейшим
направлением деятельности
правящих кругов по реанимации
культа императора было
целенаправленное воздействие на
сознание народа через сферу
идеологии. Особое внимание
обращалось на восстановление роли
традиционных культурных ценностей,
соответствующие реформы в области
образования, создание необходимого
общественного мнения при помощи
средств массовой информации.
В связи с
заключением японо-американского «договора
безопасности», ознаменовавшего
окончание оккупации страны, все
чаще стали раздаваться голоса,
выступавшие с призывом к
возрождению национализма.
Начавшееся после отмены
ограничений, наложенных
оккупационными властями, заметное
оживление традиционной японской
культуры и резкое усиление
интереса к классическим формам
национальной культуры было
использовано властями для
пробуждения националистических
настроений среди народа.
В
совместном заявлении,
опубликованном после японо-американских
переговоров
С 50-х годов
начинается осуществление
государственной политики по
введению централизованного
контроля в сфере просвещения,
выразившееся в принятии реакционных
законов об образовании. Еще в
декабре 1955 г. была изменена
методика преподавания
общественных предметов в
начальных и средних школах.
Министерство просвещения ввело в
курс социальных предметов в начальных
школах сведения об императоре и
императорском строе. В школьное
воспитание стали усиленно внедрять
понятия об уникальности Японии, об
особом положении императора, о
государственных праздниках. А с 1958
г. методика преподавания была вновь
пересмотрена и приобрела характер
обязательной для всех школ, при
этом подчеркивалась необходимость
«воспитания блестящих японцев» для
«процветания нации и развития
государства» [159, с. 64]. В результате
в школьном образовании стало
обязательным изучение материалов
об императоре как символе единства
нации и в то же время начало
замалчиваться положение о том, что
суверенитет в стране по
конституции принадлежит народу.
Новый
импульс к определенным
идеологическим и политическим
инициативам правительства дал 1960
год, когда подъем борьбы народных
масс против «договора безопасности»
показал высокий уровень накала
классовых антагонизмов в стране. В
этих условиях был принят «План
удвоения национального дохода»,
наряду с задачей достижения
высоких темпов экономического
роста правящие круги поставили
перед собой цель добиться единства
народных масс на
националистической основе.
В 60-х годах
в Японии получила широкое
распространение «теория
модернизации», разработанная
американскими учеными и высоко
оценивавшая особенности
капиталистического развития
Японии как модели для модернизации
развивающихся стран. Эта теория
содержала положительную оценку
императорской системы и
национализма как факторов,
ускоривших модернизацию. Так
послевоенная идеология тэнноизма
«обогатилась» имевшими вполне
научный вид положениями «теории
модернизации»2.
С начала 60-х
годов было вновь введено табу на
критику императора и «символической
императорской системы». Отныне
любое сообщение, статья или книга,
касавшиеся в той или иной мере
личной жизни императора и членов
императорской семьи или их
общественной деятельности,
подвергались строгой цензуре
Управления императорского двора,
канонизировавшего образ
императора. В японской литературе
это явление получило образное
название «табу на хризантему» (кику-но
табу)3.
В первой
половине 60-х годов вновь на
авансцену политической жизни
выходит император, личный
авторитет которого благодаря
принятым в предыдущее десятилетие
мерам был в значительной степени
восстановлен, а наследный принц
начинает играть вспомогательную
роль.
В ноябре
1960 г. впервые после окончания войны
император дал в своем дворце
аудиенцию высшему командному
составу «сил самообороны». А чуть
раньше, в октябре того же года, на
любование хризатемами в императорском
парке были приглашены командующие
сухопутными, морскими и воздушными
силами японской армии с женами.
Другими словами, в некоторой
степени восстанавливались связи
императора и армии, бывшие столь
близкими в довоенный и военный
периоды.
В
В 1964 г.
император выполнял роль почетного
председателя во время открытия
Олимпийских игр. С этого же года
была восстановлена практика
награждения орденами от имени
императора лиц, достигших
определенного возраста.
Таким
образом, к середине 60-х годов
наметилась тенденция усиления
власти «символической
императорской системы», со стороны
правых, реакционных сил начали
поступать предложения о
превращении императора в действительного
главу государства. Однако на словах
часто, напротив, подчеркивался «неполитический»
характер деятельности императора
как символа единства нации. Общим
для выступлений многих
политических деятелей ЛДП стали
утверждения о том, что традиционно
император не являлся обладателем
реальной политической власти, а был
«центром единства нации» как
хранитель традиционной морали, и
именно благодаря этой особенности
института императорской власти он
не только «гармонично сочетается»
с принципом народного суверенитета,
но даже может способствовать «взаимному
процветанию» монархической
власти и власти народа [159, с. 64—65].
В целом в
период с конца 40-х до середины 60-х
годов исподволь создаются
предпосылки для возрождения
националистических тенденций в
стране в условиях новой демократической
конституции, что в какой-то мере
должно было заполнить тот духовный
вакуум, который образовался в связи
с разрывом привычных социальных
связей в результате поражения
Японии в войне.
Ритуализация
общественной жизни
Второй
этап возрождения тэнноизма, с
середины 60-х до конца 70-х годов,
характеризовался прежде всего политикой
консерваторов, направленной на
ритуализацию общественной жизни и
узаконение тех ее проявлений,
которые могли служить
культивированию поклонения
императору. В
Вскоре после
принятия конституции 1947 г. праздник
«кигэнсэцу» был отменен. Однако по
инициативе синтоистского
духовенства и националистических
элементов почти сразу же началось
движение за возрождение «дня
основания империи», в котором
активную роль стали играть
правящие круги страны. 9 марта
1951 г. тогдашний премьер-министр
Сигэру Ёсида, отвечая на вопрос:
«Как повысить патриотический дух
в стране?», заявил, в частности:
«После достижения независимости
я хочу восстановить
празднование дня основания империи»
[75, с. 37].
В
Однако
благодаря различным
пропагандистским уловкам, а также «необычайной»
решимости премьер-министра Эйсаку
Сато правящим кругам все же удалось
в 1966 г. провести через парламент
закон о новых праздниках [204, 03.07.1966].
Празднование «дня основания
государства» 11 февраля каждого
года расширило возможности
пропаганды тэнно-изма и милитаризма
среди населения Японии. Во время
церемонии, как и до войны,
исполняются гимны «кимигаё» и «кигэнсэцу»,
славящие «идеальный
государственный строй, увенчанный
императором», и воспевающие
доблести японской нации. Храм
Касивара в преф. Нара, посвященный
императору Дзимму, посещают
ветераны войны на Тихом океане,
звучат призывы пересмотреть
конституцию с целью изменения
статуса императора и изъятия
антимилитаристской 9-й статьи.
«С
возрождением дня основания империи,
— говорил один из активных
милитаристов, председатель Лиги
ветеранов войны (Гою рэммэй)
генерал Рэнкити Уэда, — сбылось
наше заветное желание. Следующая
цель — оздоровление системы
образования, иными словами,
возрождение Императорского
рескрипта об образовании. Кроме
того, пересмотр конституции. Как
можем мы доверять защиту своей
родины иностранным войскам?
Помолимся же в день основания
империи об успешном выполнении
нашей задачи» [209, 20.01.1967].
Демократические
силы продолжают выступать против
празднования «дня основания
государства». Каждый год 11 февраля
проводятся митинги протеста, в
которых принимают участие
профсоюзные, женские организации,
прогрессивные деятели истории и
культуры, а также христианские
организации.
Тем не
менее церемония празднования 11
февраля вводится и в японских
школах. Министерство просвещения
составило специальную инструкцию,
которая предписывает закрывать в
этот день школы, разъяснять детям
значение праздника. Министерство
также сочло «желательным», чтобы во
время празднования вывешивались
национальные флаги, а школьники
пели гимны «кимигаё» и «кигэнсэцу».
В некоторых школах, руководимых
директорами правого толка,
учащихся, не явившихся на церемонию,
исключали из школы [194, 1969, N 3, с. 116].
После
возрождения празднования «кигэнсэцу»
в учебный материал в школах вновь
были включены мифы об основании
японского государства, о «божественном»
происхождении императорской
династии. Учебники, содержавшие
научное объяснение древней истории,
подвергались цензуре министерства
просвещения. А во введенном еще в 1958
г. курсе «морального воспитания»
явно начал усиливаться акцент на
привитие почтительного отношения к
императору. Содержание курса «морального
воспитания» стало определяться
положениями «Программы
формирования желательного образа
человека», утвержденными
Центральным советом по образованию,
во главе которого стоял Масааки
Косака, один из идеологов «философии
мировой истории» в годы
милитаризма, отстаивавший наиболее
открыто расистские идеи. Упор в
этой программе делался на
воспитание у японского народа «любви
к своей стране — самой органичной и
сильной общности», а для этого
прежде всего японцы должны были
осознать важность роли императора
как символа государства и единства
нации. В программе прямо говорилось:
«Почитание императора,
символизирующего Японию, означает
почитание Японии, символом которой
он является. В том, что символ
Японии — император стоит во главе
нашей страны, особенность
японского государства» [77, с. 38].
С конца 60-х
годов в школах и вузах страны все
активнее насаждаются идеи
превосходства японской нации и
величия императора. Например,
общественности стало известно, что
директор одной из начальных школ
преф. Тиба Харумицу Кобаяси
выступал перед своими учениками с
откровенно
ультранационалистическими
призывами, заставляя их слушать
старые военные марши [217, 29.02.1980].
Такие
случаи в японских школах перестали
быть редким явлением, и это
вызывает беспокойство среди
учителей и родителей прогрессивных
взглядов. Ученики старших классов
часто отказываются принимать
участие в церемониях, носящих
националистический характер. В
частности, в одной из полных
средних школ в преф. Гумма ученики
не стали петь гимн «кимигаё»,
обязательное исполнение которого
было введено вновь назначенным
директором школы [217, 29.02.1980].
С конца 70-х
годов даже министры просвещения
начинают позволять себе
высказывать откровенно
националистические идеи. Например,
назначенный в 1979 г. на пост министра
просвещения Ёсабуро Найто во время
пресс-конференции заявил, что для
японцев уважение к гимну «кимигаё»
и флагу «хи-но мару» (считающимися в
Японии символами милитаристского
прошлого) вполне естественно.
Главным недостатком послевоенного
образования министр просвещения
назвал «отсутствие в нем духа „Императорского
рескрипта об образовании"»,
копию которого Найто повесил в
своем кабинете. Он подчеркнул также
важность насаждения «японского
духа среди молодого поколения» в
условиях, когда «материальное
процветание обедняет людей
морально» [217, 09.12.1979].
С 1978 г.
правительство начало открыто
поощрять организацию церемоний
празднования «дня основания государства»
в столице и на местах, при этом
средствами массовой информации
всячески подчеркивались «идеалы
духа основания империи». Вновь в
приветственных речах
консервативных политиков и
бизнесменов зазвучали ссылки на
мифы «Кодзики» и «Нихон секи» о
создании японского государства
императором Дзимму в 660 г. до н.э. [180,
с. 158].
Со второй
половины 60-х годов празднованию
«дня основания государства» все
больше придавался характер
государственного ритуала, что
свидетельствовало о намерении правящих
кругов постепенно приучить
общественное мнение к официальным
торжествам, подобным тем, которые
проводились в ходе празднования «кигэнсэцу»
до
Большое
внимание, уделяемое ритуалам и
обрядам по сравнению со средствами
прямого идеологического воздействия
на общественное сознание,
позволяет периодически
регулировать и закреплять нормы и
ценности «символической
императорской системы» на уровне
подсознания. В то же время это дает
повод поборникам возрождения
государственного статуса
синтоизма утверждать, что поскольку
упор делается на ритуал в
противовес проповеди догматики,
то синтоизм якобы сводится к
системе привычных для простого
народа обычаев и обрядов,
потерявших свое религиозное
значение.
Использование
праздничных обрядов, часто
воспроизводящих структуру
синтоистских «мацури», как
средства социально-психологического
регулирования поведения масс
ориентируется на свойственный
массовому сознанию большинства
японцев иррациональный тип
мышления, в котором глубокое
подсознательное впечатление
оставляют разного рода ритуалы.
Впрочем, эта иррациональная
ориентация не является уникальной
особенностью японцев, а представляет
собой лишь обусловленную
исторической спецификой более
ярко выраженную черту, наблюдаемую
во многих других культурах.
Восстановление
в виде общенациональных праздников
многих обрядов государственного
синтоизма преследовало цель
развить ощущение общности у
японцев в современном отчужденном
обществе. При участии в празднестве,
в котором зафиксирована
определенная националистическая
символика, приобщение к
национальному единству происходит,
минуя сознание, через подсознательную
сферу, и в результате
формируются подсознательные
националистические стереотипы, обладающие
большой устойчивостью. Вследствие
бездумного, подражательного
участия в праздничном обряде
культивируется отношение к нации
как к живому организму,
подсознательно усваивается
традиционное представление об
императоре как хранящем знание
об «истинном пути» японской нации,
как обладающем мистической способностью
сохранить порядок в стране. Кроме
того, как известно, в процессе праздничного
ритуала снимается чувство
разъединенности, возникающее в
процессе каждодневной жизни в
современном обществе. Таким
образом, снятие посредством
церемоний социальной напряженности
в обществе, можно сказать, задает определенный
ритм жизни всему национальному
организму. Другими словами,
праздничные ритуалы выполняют роль
подсознательного проповедника «националистического
коллективизма», когда
националистические стереотипы не
осознаются, как таковые, но
существуют в подсознании и
контролируют поведение вернее, чем
разум.
Крупномасштабные
пропагандистские кампании, развернутые
правительством при поддержке
промонархических сил в 1968 г. в связи
со столетием «реставрации Мэйдзи»
и в 1976 г. по поводу 50-летия правления
императора Хиро-хито, призваны были
подогреть националистические настроения
в массах, в какой-то мере
эмоционально подготовленных
благодаря обрядам государственных
праздников к восприятию «символического»
тэнноизма, фактически
распространявшегося в виде новых
социальных и политических мифов.
Во второй
период возрождения тэнноизма (середина
60-х — конец 70-х годов) были
восстановлены также некоторые
церемонии довоенного синтоизма,
связанные с культом японской
государственности. Так, в октябре
1973 г. в храме Исэ была проведена
церемония «сэнгу» (осуществляется
каждые 20 лет по поводу возведения
на новом месте «внутреннего
святилища» — «найку»), а третья
дочь императора принцесса Кадзуко
Такацукаса отправляла во время «сэнгу»
синтоистское богослужение как
высшая священнослужительница Исэ.
В 1974 г. в
ходе паломничества императора и
императрицы в храм Исэ был
возобновлен ритуал «кэндзи додза»,
существовавший до войны и
отмененный оккупационными
властями. Этот обряд выполняется по
случаю путешествия императора,
когда две из «трех божественных
регалий» императорского трона —
меч и яшмовые подвески — сопровождают
монарха во время длительных
отлучек из дворца. Следующим шагом
в направлении возрождения культа
императора стало заявление
императора в 1977 г. о том, что он не
отрекался в 1946 г. от концепции своей
«божественной сущности» [180, с. 158].
Все эти
меры были призваны вновь утвердить
связь между императором и народом
как основу национальной
государственности, представить
синтоизм выражением самобытности
«пути японского духа».
Систематически
культивировать обновленную
тэнноистскую символику призвана
была и система летосчисления «гэнго»
по эрам правления императоров,
которая была законодательно
закреплена в
Как уже
отмечалось в гл. 2, эта система была
введена в массовый обиход
правительством Мэйдзи в 70-х годах XIX
в. Постепенно она стала настолько
привычной, что и в настоящее время
большинство японцев пользуются ею.
Влиятельные круги требовали
сохранить императорскую систему
летосчисления как «ценную традицию
исконно японского образа жизни»,
стремясь таким образом способствовать
укреплению культа императора.
Подготовка к принятию закона
сопровождалась усиленной
идеологической обработкой
общественного мнения. При этом
чрезвычайно активно использовался
весь пропагандистский арсенал.
Особенно
массированный характер пропаганда
приобретала в дни празднований 11
февраля.
14 июля 1978 г.
была создана Ассоциация по проведению
в жизнь «гэнго», в которую вошли 411
членов ЛДП, Партии
демократического социализма (ПДС) и
Нового либерального клуба (НЛК), а
вслед за этим 18 июля был образован
Народный конгресс за легализацию «гэнго»,
объединивший представителей 536
организаций [217, 15.01.1979].
Привычным
методом обработки общественного
сознания стало ведение пропаганды
органами местного самоуправления.
В результате активной деятельности
сторонников легализации «гэнго»
резолюцию с этим требованием
приняли 46 префектуральных (кроме
Окинавы) собраний и большинство
муниципальных и сельских собраний (более
1600 местных собраний страны) [197, 06.02.1980,
веч. вып.].
Это должно было подтолкнуть
развитие движения за легализацию
императорской системы
летосчисления. Коммунисты и
социалисты, профсоюзы, выступавшие
всегда против узаконения «гэнго»,
не раз указывали, что ее принятие
противоречит принципам
конституции, что истинной целью
выработки закона об императорской
системе летосчисления является
стремление правящих кругов усилить
пропаганду тэнноизма.
В
выступлениях лидеров движения за «гэнго»
содержались высказывания,
разоблачавшие связь отстаиваемого
ими законопроекта с попытками
упрочить положение института
императорской власти. Так, во время
одной из бесед Кадзуто Исида (бывший
председатель Верховного суда),
возглавлявший Народный конгресс за
легализацию «гэнго», заявил, что
она «послужит объединению народа
под эгидой императора» [196, 15.09.1978].
По всей
стране развернулось движение
против законопроекта о «гэнго»,
организованное демократическими
силами, и прежде всего КПЯ и СПЯ. В
1976 г. прогрессивные историки
опубликовали «Заявление против
сохранения гэнго», под которым
поставили подписи около 40 тыс.
профессоров и преподавателей
университетов. Кроме того,
проводились многочисленные
митинги, собрания, лекции. Во время
обсуждения законопроекта в парламенте
кампания протеста не прекращалась
ни на один день [98, с. 4-5].
И все же
правительству удалось провести
этот законопроект через парламент,
что в значительной мере отражало
господствовавшие в массах
настроения. Принятие закона о
летосчислении «гэнго» стало вслед
за возобновлением празднования «дня
основания империи» еще одним шагом
к возрождению тэнноизма.
Поборники
насаждения «истинно японского духа»
в этот период вели также
систематическую деятельность по
восстановлению государственной
поддержки синто. С конца 60-х годов
свою основную задачу они видели в
том, чтобы добиться возрождения
довоенного статуса храма Ясукуни. В
1969 г. депутаты ЛДП внесли в
парламент законопроект о передаче
храма Ясукуни в ведение
государства. С тех пор и до 1974 г.
этот законопроект пять раз был
предметом ожесточенного
обсуждения, но натолкнулся на
решительный протест как внутри
парламента, так и вне его и не был
принят [92, с. 91—92].
После
этого консерваторы выработали
новый законопроект о «поклонении
отдавшим жизнь за родину», который
был призван легализовать
официальное посещение молебнов в
храме Ясукуни императором и
государственными деятелями,
участие в молебнах почетного
караула «сил самообороны». Исходя
из этих задач, весной 1980 г. ЛДП
впервые включила в число важнейших
пунктов своей предвыборной
декларации обещание сделать
официальными посещения молебнов в
храме Ясукуни императором, премьер-министром
и членами кабинета и взять храм под
государственную защиту [214, 01.10.1980].
До этого, начиная с премьер-министра
Такэо Мики (т.е. с 1975 г.), глава
правительства совершал
паломничество в храм в качестве
частного лица, а правящая партия
воздерживалась от обнародования
своей позиции по вопросу об
изменении статуса храма, опасаясь
обвинений в нарушении 20-й статьи
конституции, провозглашающей
отделение религии от государства.
В конце 70-х
годов заметно оживилась
деятельность милитаристских
организаций во главе с Обществом
почитания душ погибших на войне (Эйрэй-ни
котаэру кай) по проведению через
парламент законопроекта о храме
Ясукуни. В уставе этого общества
записано, что его главной целью
является развертывание широкого
народного движения за преклонение
перед духами погибших воинов [197, 06.02.1980,
веч. вып.]. Общество имеет филиалы в
46 префектурах страны, к которым в
августе
Марксистские
и прогрессивные буржуазные ученые
Японии не раз указывали, что, ставя
вопрос о храме Ясукуни, инициаторы
восстановления синто в его былых
правах хотят создать в стране такую
обстановку, которая открыла бы
широкие перспективы для
реабилитации военных преступников
[214, 09.05.1979]. Тем не менее тогдашний
премьер-министр Масаёси Охира
продолжал посещать храм. Это
вызвало многочисленные протесты и
критику со стороны миролюбивых сил
Японии, борющихся против
возрождения милитаризма.
Чтобы
читатель получил целостное
представление о непрекращающихся
и все наращивающихся усилиях
японских правящих кругов в
направлении легализации
официального статуса храма Ясукуни
с его обрядами, культивирующими
национализм и милитаризм,
являющимися важным орудием
внедрения в сознание масс
тэнноистской идеологии, мы, выходя
за установленные хронологические
рамки, отметим основные вехи
дальнейшего развития событий,
связанных с возвращением храму
Ясукуни его прежнего, официального
статуса.
В 1985 г.
премьер-министр Ясухиро Накасонэ
отметил 40-ю годовщину поражения
Японии во второй мировой войне,
нарушив устоявшуюся позицию
правительства по этому вопросу,
заключавшуюся в том, что «участие
министров кабинета в молебствиях
в храме Ясукуни в качестве
официальных лиц противоречит
конституции», и стал первым из
послевоенных японских премьер-министров,
расписавшимся в книге посетителей
как глава правительства [216, 09.01.1986].
Перед этим в 1984 г. Исполнительный
совет ЛДП принял решение,
фактически узаконившее такие
посещения официальными лицами.
В своей
речи в г. Каруидзава 27 июля 1986 г.
премьер-министр Накасонэ, сравнив
храм Ясукуни с могилой
Неизвестного солдата на
Арлингтонском национальном
кладбище в США, заявил, что все
нации имеют места, где
соотечественники могут выражать
свою благодарность тем, кто отдал
жизнь за родину. Иначе, по мнению
премьер-министра, никто не захочет
отдавать жизнь за свою страну [200, 1985,
N 9, с. 36].
В этой
связи надо отметить, что премьер-министр
умолчал о той особенности, что в
отличие от других стран в Японии
существует религиозный культ «павших
героев», что в храме Ясукуни, как и
до войны, проводятся «митама мацури»
— церемонии вызова и встречи духов
павших, носящие мистический
характер. «Обожествленные» в храме
Ясукуни принадлежат государству.
Согласно верованиям, после «обожествления»
духи погибших должны стать «ками»
— покровителями нации. Постоянное
воздействие на рядового японца
пропаганды, спекулирующей на
чувствах людей, потерявших своих
близких на войне, дает определенные
плоды. В ходе исследования
общественного мнения,
осуществленного газетой «Иомиури»
в октябре 1985 г., 51% опрошенных
одобрили официальные визиты
Накасонэ в храм Ясукуни, лишь 25%
были против (23% не дали ответа). Во
время другого опроса, проведенного
также в октябре 1985 г. газетой «Асахи»,
более 60% лиц в возрасте 50 лет и
старше поддержали официальные
визиты Накасонэ в Ясукуни, тогда
как среди молодежи (до 30 лет)
подобные визиты одобрило менее 35%.
Таким образом, активизация сил,
выступающих за придание храму
Ясукуни официального статуса,
обусловлена опасением, что по мере
уменьшения в населении Японии доли
старших поколений, прошедших
довоенную тэнноистскую обработку,
популярность храма Ясукуни будет
падать.
В связи с
острой критикой в азиатских
странах, и прежде всего в КНР,
премьер-министр Накасонэ был вынужден
отказаться от официального
паломничества в храм Ясукуни и в 1986
г., и в 1987 г. Тем не менее Накасонэ
подчеркнул, что японский премьер-министр
может на законном основании
официально посещать храм Ясукуни, а
его отказ сделать это — лишь акт
доброй воли в отношении Китая.
Все
большее число японцев сходятся во
мнении, что они не обязаны без конца
извиняться за прошедшую много лет
тому назад войну и они обладают
такими же правами, как и все другие
народы, чтить память погибших.
Такая
позиция сказалась, в частности, в
том, что ббльшая часть членов
кабинета (16 из 20 министров) молились
15 августа 1987 г. в храме Ясукуни, даже
несмотря на то что сам премьер-министр
отсутствовал на церемонии. Кроме
того, около 200 членов парламента от
правящей ЛДП посетили в этот день
храм [217а, 16.08.1987].
Сменивший
Накасонэ на посту премьер-министра
в ноябре
Со второй
половины 60-х годов в Японии
наблюдается обострение интереса к
проблемам этнической психологии, к
вопросам культурной и социальной
специфики, связанного, по всей
видимости, с изменившимся
положением страны. Если сразу после
войны подчеркивалась азиатская
отсталость японской культуры и
недостаточное самосознание народа,
что было вызвано потерей
уверенности японцев в себе в
результате поражения, то
экономический бум 60-х годов вернул
эту уверенность, одновременно
вызвав возобновление массовых
поисков «национальной
идентичности». Вновь широко
заговорили об особенностях
японского национального
характера. Волна бума «нихондзин
рон» («теорий о японцах»)
знаменовала собой подъем
националистических настроений в
стране в обстановке духовного
кризиса, переоценки основных
ценностей буржуазного общества,
потери модели для подражания в лице
развитых государств Запада.
В
некоторых концепциях, пытающихся
объяснить сущность «японского» на
основе иррационального интуитивного
«чувствования», появляются
интерпретации роли института
императорской власти в
национальной интеграции. Так,
профессор Токийского университета
Хадзимэ Накамура, задавшийся целью
выявить особенности японского
образа мышления, видит одно из
проявлений этих особенностей в
культе императора. Он пишет: «С
самой древности императорская
семья являлась источником
прогресса страны. Отношение
японцев к императорскому дому было
скорее дружественным, чем
враждебным... и правящий класс
весьма благожелательно относился к
народу. В общем, атмосфера семейно-образной
близости всегда существовала в
Японии. Люди Запада, а также индийцы
и китайцы такой термин, как „семейное
государство", например,
отклонили бы, поскольку он
заключает в самом себе
противоречие. Японцы, однако, не
восприняли его как противоречивый
термин, они считали его хорошим и
вполне обоснованным. Как религия
была основой этического мышления
индийцев, семья — основой
практической морали китайцев, так и
государство было основой мышления
японцев. Японский образ мышления
претерпевает сегодня изменения, но
в нем есть своя преемственность,
своя традиция. Для японцев важно
знать, что эта традиция никогда
вновь'не приведет к росту
антигуманного ультранационализма»
[182, с. 156—157].
Таким
образом, X. Накамура несколько
идеализирует историю и утверждает,
что в традиционном японском
обществе господствовали принципы
гармонии. Подобная трактовка
исторического значения императора,
выдающая традиционные
политические идеалы за
действительность, стала типичной
для буржуазной науки страны, она
пришла на смену старым
тэнноистским мифам.
Известный
психиатр, профессор Токийского
университета Такэо Дои, автор
теории «структуры амаэ», согласно
которой «детская» психология,
опирающаяся на стремление
полагаться на снисходительность
другого человека, является
стержнем модели поведения японца,
выдвинул свою психологическую
концепцию императорской системы.
Дои доказывал, что главные понятия
японского национализма — «дух
Японии», «дух Ямато» связаны с
психологией «амаэ». По словам Дои,
японцы идеализировали амаэ и
считали мир, где господствует «амаэ»,
истинно человеческим, и «именно его
институционализацией явилась
императорская система» [56, с. 64].
Стремление
японцев к «амаэ» удовлетворялось
за счет «благосклонно-отеческого»
отношения императора к своим
подданным, напоминающего отношение
родителей к своему ребенку. Другими
словами, согласно теории Дои,
благодаря наличию института
императорской власти управление в
стране осуществлялось без
насильственного принуждения.
Поскольку император, подобно
родителю, брал на себя реальную
ответственность за поведение
подчиненных ему людей, у последних
возникала иллюзия единения с императором,
приводившая к идентификации или
ассимиляции. Психологически это
приносило успокоение, вызванное
ощущением отеческой защиты и
опеки со стороны императора, от
которого ждали милости и
благодеяний, подобно тому как их
ожидали от «ками». Исходя из таких
рассуждений, Дои считал верной
позицию Хиробуми Ито, одного из
составителей конституции Мэйдзи 1889
г., утверждавшего, что единственным
связующим звеном в японском
обществе, легко раскалывавшемся на
целый ряд замкнутых кругов, могла
стать концепция нации как семьи с
императорским домом в качестве «главной
семьи».
Фактически
теория Дои явилась результатом
чисто психологической
интерпретации японской истории,
что при недооценке социально-экономических
и политических факторов развития
во многом превращало ее в
осовремененный научными
выкладками вариант старой
концепции «оябун — кобун» (отношения,
подобные связям между родителями и
детьми).
Наряду с
такого рода академическими
интерпретациями традиционного
института императорской власти в
конце 60-х годов окончательно
складывается националистическая
теория известного писателя Юкио
Мисима, выступившего в последние
годы своей жизни в роли идеолога.
После
совершения им харакири в ноябре 1970
г. вокруг имени Мисима
националистической пропагандой
был создан миф «национального
героя», отдавшего свою жизнь ради
возрождения духа нации и культа
императора. Несмотря на то что сам
Мисима, веря в исключительную роль
сильных личностей в истории,
ориентировался в своей
деятельности на узкий круг
сообщников созданного им Общества
щита (Татэ-но кай), его идеи
благодаря его незаурядному
литературному таланту стали
известны очень широкой аудитории и
оказывают заметное влияние на
массовое сознание.
Наиболее
полно теория императорской системы
Мисима раскрывается в его
публицистических статьях «В защиту
культуры» («Буйка боэй рон», август
1968 г.) и «Контрреволюционная
декларация» («Ханкакумэй сэнгэн»,
февраль 1969 г.), вышедших в апреле 1969
г. отдельным изданием [90]. Именно
эту книгу используют в своей деятельности
Общество изучения Мисима (Мисима
кэнкюкай) и Общество по изучению
идей Мисима (Мисима сисо кэнкюкай) [154,
с. 17]. В указанных статьях
обосновывается необходимость
защиты императорского строя во что
бы то ни стало, а также раскрывается
содержание понятия «императорской
системы» как понятия «уникальной
японской культуры».
Мисима
выдвигает положение о трех
измерениях, свойственных лишь
японской культуре. Первое
измерение, обозначенное как «способность
к самовозрождению» (сайкисэй),
Мисима аргументирует следующим
образом: культура — это «прозрачный
кристалл, через который
просматривается народный дух», а
японская культура (и в этом ее
особенность) включает в себя не
только произведения искусства, но и
способ действия, обеспечивая тем
самым «способность к
самовозрождению». Второе измерение,
по Мисима, принято называть «цельностью»
(дзэнтайсэй), заключающейся в том,
что японская культура не делает
различия между исконно
оригинальным и копией. Третьим
измерением выступает «независимость»
(сютайсэй). Для японской культуры
характерна свобода созидающего
субъекта, вдохновляемого самой
культурной традицией. Если
прервать где-то путь от источника к
народным субъектам творчества, то
произойдет истощение культуры.
По мнению
Мисима, непрерывность культуры
находится в противоречии с понятием
диалектического и прямолинейного
прогресса. Мисима также не раз
утверждал, что основы культуры с
самого начала иррациональны,
алогичны, поэтому бессмысленно
пытаться их уразуметь. Тем не
менее он дает свою модель развития
японской истории как вечной цепи «хризантемы
и меча». «Итак, все та же древняя
аллегория — хризантема и меч,
символы „японского духа", воплощающие
разные стороны самурайского
кодекса чести бусидо. В наши дни,
как полагает Мисима, меч предан
забвению и спасти нацию может
только одно: „Император — вот что
свяжет в единое целое хризантему и
меч". До поры до времени, возможно,
будет преобладать хризантема, но
затем меч возьмет свое... Синтоизм в
качестве государственной религии,
тэнноизм в качестве государственной
идеологии, японизм в качестве
государственной политики — такие
мечты лелеял Мисима...» [18, с. 212].
Другими словами, согласно теории
Мисима, три измерения японской
культуры — вечной цепи «хризантемы
и меча» — воплотились в
императорской системе, являющейся,
таким образом, «понятием культуры».
Императорская система — это «самоценность»,
стоящая выше всяких политических
факторов, и символ идентичности
японца. Ее внутренняя сущность лучше
всего, согласно Мисима, может
быть выражена термином «мияби» (категория
эстетики, связанная с классической
культурой придворной аристократии;
означает «простой», «элегантный»,
«изысканный», «строгого вкуса». —
Т.С.-Н.), восходящим к истокам
традиций японской культуры, а народная
культура существует просто как
«мияби-но манэби» («красота
подражания „мияби"»). Поэтому,
делал вывод Мисима, императорский
дом был тем центром, вокруг которого
сформировались эстетические
принципы Японии. Наличие
императорской системы обеспечивает
также «цельность» японской культуры,
одно из трех ее измерений,
которому Мисима придавал самое
большое значение, так как
считал, что она гарантирует
временную и пространственную
непрерывность культуры. Временная
непрерывность поддерживает
традицию, красоту и вкус, а
пространственная непрерывность
выражается в разнообразии жизни.
Самым
непримиримым врагом императорской
системы Мисима считал
коммунистическое движение страны.
О практической направленности его
теории сохранения культа
императора свидетельствовала «Антикоммунистическая
декларация», бывшая программой
действий Общества щита, члены
которого проходили
военизированную подготовку к
правоэкстремистскому мятежу под
руководством самого Мисима.
Социолог-марксист Нодзому Кавамура
в своей статье пишет, что в призыве
Мисима к защите Японии от
коммунизма и от сочувствующих ему «можно
обнаружить политические и
идеологические позиции теорий „японской
культуры" и теории „о японцах"»
[213, 1975, N 4, с. 256].
Таким
образом, к концу 70-х годов в
обстановке подъема
националистических настроений в
стране, в атмосфере бума «нихондзин
рон» появляются новые теории,
обосновывающие роль института
императорской власти в истории,
психологии и культуре страны. В
этот период политика правительства
по воссозданию тэнноизма проявилась
преимущественно в упорядочении
системы государственных
праздников с тем, чтобы добиться
распространения среди населения
почитания императора.
Возрождение
идеологии тэнноизма
С конца 70-х
годов в истории тэнноизма
наступает качественно новый этап,
когда японское правительство
пытается сконструировать в русле
традиционных ценностей целостную
идеологическую платформу
национального единства. При этом в
новых идеологических построениях
можно проследить возрождение
некоторых идейно-мифологических
комплексов довоенного тэнноизма,
но подвергшихся переработке в
соответствии с сегодняшними
задачами японского буржуазного
общества.
В
послевоенный период, до 80-х годов,
правящие круги обходились
социальной мифологией, в основном
заимствованной у западных
идеологов консерватизма. Они лишь
добавляли определенные элементы
японской специфики к
распространенным в западных
капиталистических странах
духовным фикциям, предназначенным
для обработки массового сознания
в духе «социальной гармонии». С 60-х
годов в японской буржуазной
идеологии получили хождение
консервативные концепции «общества
средних классов», «качества жизни»,
«участия в управлении» и т.п. Они
содержали в себе и элементы «умеренного»
национализма, поскольку, как
правило, служили доказательству
преимуществ характера
общественных отношений в Японии
перед «западной» традицией.
Разработкой же традиционных мифологических
конструкций, рассчитанных
преимущественно на
психологические методы
воздействия, занимались обычно
неофициальные консервативные
идеологи. Иными словами, реальная
официальная политика по
возрождению тэнноизма не
подкреплялась развернутым
идеологическим обоснованием.
Впервые на
официальном уровне идеологически
целостную систему национального
единства, базирующуюся на тен-ноистских
традициях, попыталась дать «теория
японской культуры». Свое название
эта теория получила в связи с тем,
что в докладе Комиссии по изучению
политических проблем при кабинете
премьер-министра Охира (
Правительство
консервативной Либерально-демократической
партии, таким образом, впервые в
послевоенные годы в официальном
документе попыталось выделить в
культуре страны тот комплекс
ценностных установок, который в
конечном счете явно копирует в
несколько осовремененном и
завуалированном виде многие
компоненты тэнноистской идеологии.
С довоенным «японизмом» «теорию
японской культуры» роднит также
стремление придать этим ценностным
установкам неправомерно
преувеличенное значение как
отражающим суть национального
характера и культуры.
С приходом
в 1982 г. на пост премьер-министра
Ясухиро Накасонэ, отстаивавшего
каноны традиционализма,
националистические тенденции в
общественной жизни усились,
интенсифицировалась
идеологическая обработка
населения при помощи официальных
националистических стереотипов, с
тем чтобы добиться единства масс на
националистической платформе.
Подъем официальной пропагандистской
активности сопровождался
централизованными шагами,
направленными на формирование
идеологической базы проводившейся
политики. По существу, основой
идеологической платформы
правительства стала право-консервативная
концепция Я. Накасонэ.
Ясухиро
Накасонэ относился к тем
политическим лидерам, которые
давно не скрывали своих
промонархических взглядов. Еще
более 30 лет тому назад он заявил во
время выборов в органы местного
самоуправления: «Установление
императорской системы и семейного
государства — это порождение
мудрости японской нации, которым
можно гордиться перед всем миром» (цит.
по [80, с. 268]).
В статье
Накасонэ, опубликованной в газете «Санди
майнити» в 1973 г., в бытность его
министром внешней торговли и
промышленности, раскрываются
главные тезисы его «концепции
императора». Накасонэ пытается
возродить мифологемы, подобные
довоенной тэнноистской идеологии
об уникальном государственном
строе Японии. Но в противовес
довоенным идеологам, игравшим
ведущую роль в выработке массовых
социально-психологических и политических
стереотипов императора — «живого
бога» и высшего правителя, Накасонэ
утверждает, что «на протяжении
более двух тысяч лет император был
главным фактором управления
страной, являясь, по существу, символической
экзистенцией» [206, 24.06.1973].
В отличие
от позиции членов специального
Комитета по изучению конституции
при ЛДП, отстаивающих идею
превращения императора в реального
главу государства, Накасонэ
являлся сторонником более тонко
рассчитанного курса на
преимущественно идеологическое
использование института
императорской власти. Он проводил
мысль о том, что «император-символ»
искони существовал в Японии, не
обладая реальной властью, «он сиял,
возвышаясь над всеми силами»,
будучи «духовным центростремительным
стержнем», скреплявшим общество [206,
24.06.1973]. Такие статус и роль
императора, согласно Накасонэ,
обеспечивали неизменную
стабильность государства как «живого
организма» на протяжении двух
тысяч лет (цит. по [138, с. 11]).
Кроме того,
Накасонэ утверждал, что «изменение
статуса императора как символа
было ошибкой конституции Мэйдзи», а
после поражения в войне и создания
новой конституции император «отошел
от власти, лишился богатства...
именно такой император более всего
соответствует облику, характерному
для японских императоров с древнейших
времен». По мнению Накасонэ, это
восстановило его статус «традиционного
харизматического духовного
стержня», который позволит Японии «существовать
вечно и в будущем, независимо от
того, что кабинет Сато сменится
кабинетом Танака» [206, 24.06.1973].
Обеспечиваемую сохранением
института императорской власти «преемственность»
истинных японских традиций
Накасонэ определял как главное
условие «духовного прогресса символической
императорской системы».
Еще один
тезис теории Накасонэ — это в
разных вариантах муссируемое им
утверждение, что император «всегда
был объектом любви и почитания со
стороны народа — и до реставрации
Мэйдзи, и во времена действия
конституции Мэйдзи, и теперь» и что
сам «народ всегда бережно охранял
императора как духовную основу
нации» (цит. по [138, с. 11, 12]).
Уже тогда,
в начале 70-х годов, Накасонэ
стремился создать миф о социальной
гармонии и уникальности Японии,
прибегая к глубоко укоренившейся в
стране привычке трактовать
введение нового как возврат к
исконно самобытному. Это был очень
хитроумный прием, во-первых,
делавший положения Накасонэ более
привлекательными для масс как не
имеющими ничего общего с узколобым
национализмом прошлого, во-вторых,
дававший возможность мобилизовать
многие символы и функции
довоенного тэнноизма, объявив на
словах отказ от них как ошибочных.
Накасонэ
пытался вновь использовать
императора как средство социальной
интеграции, сплачивающее и воодушевляющее
людей, вновь приучить к «самоотречению
во имя интересов нации», но
концентрируя на этот раз
социальные мифы своей идеологии
вокруг императора-символа,
императора — хранителя
национальных традиций,
национального духа японцев.
Содержание же этого символа во
многом напоминало идеалы
довоенного тэнноиз-ма, но только
имело десакрализованный, светский
вид. Другими словами,
подчеркивалась роль императора как
первоисточника «национальной
самобытности», как символа,
благодаря которому вновь должно
возникнуть чувство уникальности
японской этничности, но уже не на
основе религиозного поклонения
императору — «живому богу», а на
базе консолидации вокруг
пассивного монарха-символа.
Накасонэ упрощал и искажал факты
японской истории. Говоря же о
двухтысячелетней истории
императорского правления и о «вечно
существовавших» у японского народа
чувстве благоговения перед
престолом и традиции почитания
императора, он попросту возрождал
мифы довоенной тэнноистской
пропаганды.
В 1983 г.
Накасонэ, став премьер-министром,
дал свое определение японского
государства, назвав его «национальной
общиной» (миндзоку кёдотай).
Высказывая свое беспокойство по
поводу отсутствия у многих жителей
страны реального представления о
размерах кризисных явлений в
сегодняшнем японском обществе,
премьер-министр указал на главную
причину этого — плюрализм и
разнородность ценностных
ориентации японцев. Необходимо,
считал премьер, культивировать у
них единую ценность — «интересы
государства», а для этого надо «воспитывать
у японцев сознание того, что Япония
— это государство-нация, имеющая
двухтысячелетние традиции» [207, 1983, N
1, с. 6].
Программа
«окончательного подведения итогов
послевоенной политики», о начале
осуществления которой Накасонэ
объявил летом 1983 г., нацелена была
прежде всего на выработку новых
основ государственного
национализма. Об этом не раз
недвусмысленно заявлял сам премьер-министр.
Выступая 27 июля 1985 г. перед
функционерами ЛДП с речью на
семинаре в г. Каруидзава, Накасонэ
подчеркнул необходимость еще раз «проанализировать
и определить, в чем же самобытность,
сущность Японии», обратив внимание,
что Япония — самая стабильная в
политическом отношении страна в
мире.
Говоря о
том, что «теперь, когда отмечается 60-летие
правления императора (Хирохито) и 40-летие
окончания войны, пришло время
воссоздать сущность Японии»,
премьер призывал обратиться к
сокровищницам «Кодзики» и «Нихон
секи», чтобы «прославить свою
родину и оставить славу потомкам».
Именно с этой целью Накасонэ считал
«необходимым учредить Международный
центр по изучению японской
культуры, сотрудники которого
будут трудиться над разработкой положений
новой науки, именуемой „нихонгаку"
— „наукой о Японии"» [200, 1985, №
9, с. 36]. По представлению Накасонэ,
эта «наука» призвана «утвердить сущность
Японии исходя из самых научных
основ, подобно тому как составители
„Кодзики" и „Нихон секи"
создали сущность древней Японии» [200,1985,
N 9, с. 37]. Каким же образом, по
мнению Накасонэ, должна
утверждаться «сущность Японии
исходя из самых научных основ»? Как
явствовало из последующих высказываний
премьер-министра, работникам планировавшегося
Международного центра по изучению
японской культуры надлежало, опираясь
на достижения современной археологии
и этнографии, доказать, что все
изложенные в «Кодзики» и «Нихон
секи» события имеют вполне реальный
исторический смысл. Кроме того,
Накасонэ многозначительно
подчеркивал, что успехи правящей ЛДП
за послевоенное время можно
объяснить «покровительством духов
предков и духов 2 млн. 600 тыс.
героев, погибших в войне на
Тихом океане» [198, 1986, N 2, с. 294—295].
В своей
речи в г. Каруидзава Накасонэ
откровенно говорил также о целях
создания такой «науки»: «От экономики,
базирующейся на удовлетворении
ненасытных желаний в 40-е годы
Сева5, мы за последние пять
лет перешли к сдержанному бюджету,
к жизни с терпением. Сознание
народа должно измениться от
стремления к удовлетворению желаний
к экономности, к жизни с заботой о
будущем страны, с заботой о
потомках. Поэтому встает
проблема морали и дисциплины.
Решение ее обеспечивает реформа
образования... Специальный совет
по вопросам образования должен
перейти... к организованной,
планомерной, систематической
деятельности по формированию определенного
духовного облика человека» [200,
1985, N 9, с. 36].
Премьер-министр
выделил из предполагаемых будущих
сотрудников Международного центра
по изучению японской культуры
Сюмпэй Уэяма, Киндзи Иманиси, Такэо
Кувахара (все трое — почетные
профессора Киотоского
университета), Такэси Умэхара (бывший
ректор Университета Гэйдай в г.
Киото), Нобуо Умэтаку (директор
этнографического музея в г. Осака),
Сигэки Кайдзука и Тиэ Наканэ (социоантрополог
и автор известной теории «вертикального
общества»). Первые пять ученых —
это наиболее видные фигуры из
группы, сложившейся при
исследовательском центре
гуманитарного факультета
Киотоского университета и
получившей в японской печати
название «новой Киотоской школы».
По мнению профессора Университета
Кансай Макото Адзисака, указанная
группа до сих пор держалась на
определенном расстоянии от
политики и в идеологическом плане
слыла либеральной. Многие из
названных Накасонэ ученых были
связаны с Научно-исследовательским
обществом по идеологии и были
против возобновления «договора
безопасности» в
В
современных условиях наблюдается
стремление использовать эти
концепции как основу новых
идеологических принципов единства
народа на националистической
платформе, связав их с положениями
великодержавной концепции о роли
Японии как «международного
государства».
Необходимо
отметить ради объективности
картины, что этот центр будет
прежде всего выполнять такую
важную задачу, как координация
японоведческих исследований в
странах всего мира, но все же явно
прослеживается тенденция
использовать центр и для
ненавязчивой, завуалированной
пропаганды японского национализма.
Идею
создания Международного центра по
изучению японской культуры в 1978 г.
выдвинули Такэо Кувахара и Такэси
Умэхара. Подробности, связанные с
деятельностью центра, обсуждались
осенью 1984 г. и весной 1985 г. на двух
встречах ученых с премьер-министром
Накасонэ, на которую были
приглашены Т. Кувахара, Т. Умэхара, К.
Иманиси, С. Уэяма, Н. Умэтаку. В марте
1985 г. был опубликован проект
Международного центра по изучению
японской культуры, подготовленный
Т. Умэхара, и премьер-министр дал
указание рассмотреть этот проект
соответствующим министерствам и
ведомствам. Министерство культуры
выделило 20 млн. иен на «проработку»
проблемы и учредило вскоре после
этого Совет по вопросам
Международного центра по изучению
японской культуры и Совет по
изучению вопроса о центре. ЛДП
также сформировала Подкомиссию по
обсуждению результатов изучения
японской культуры.
При
составлении государственного
бюджета на 1986/ 87 фин.г. на
организацию Международного центра
по изучению японской культуры
было ассигновано 64 млн.иен. В апреле
Среди семи
ученых, названных Накасонэ в речи в
г. Каруидзава, своими попытками
усилить идеологически модернизированную
«символическую императорскую
систему» выделяются Т. Умэхара и С.
Уэяма. Рассмотрим подробнее
главные положения их концепций.
Такэси
Умэхара выдвинул «теорию японской
культуры» еще во второй половине
60-х годов. В этот период,
основываясь на изучении Японии VII—VIII
вв., он сформулировал концепцию,
получившую название «идеологии
жизни» (сэймэй-но сисо) и
опиравшуюся на его фундаментальный
тезис о том, что синто «как
почитание природы» представляет
собой «центральное звено мировоззрения
японцев» [139, с. 19, 20]. Позднее Умэхара
разработал такое «новое» понятие,
как «идеология умиротворения
мстительных духов» (онрё тинкон-но
сисо). Во «Введении в науку о
Японии» он пишет: «Представления о
мстительных духах и заупокойная
служба для их умиротворения являются
самыми древними, а также самыми
фундаментальными в японской мысли. И
если не пролить свет на эти идеи,
то нельзя судить о японских концепциях
вообще» [140, с. 135]. Умэхара в своем
восхищении «идеологией
умиротворения мстительных духов»
доходит даже до того, что считает ее
совершенно необходимой для
высокодуховного образа жизни
современных людей на всей планете.
Мотивируя призыв к отказу от достижений
цивилизации во имя возврата к
примитивной анимистической вере,
Умэхара заявляет: «Может ли
человечество вести высокодуховное
существование без веры в такого
рода духов? И большим вопросом,
на который должна ответить
современная цивилизация,
представляется вопрос о том, не
скатывается ли человек к грубому
алчному существованию, когда у него
теряется вера в духов?» [140, с. 147].
Стремление
выявить единую глубинную сущность
сегодняшней и древней культуры
Японии, возвеличить японскую
культуру, представить ее в качестве
образца для подражания, «пути
спасения» человечества, «пораженного
недугом» цивилизации, с особой
силой проявляется в творчестве
Умэхара после того, как в конце 70-х
годов он обращается к исследованию
культуры «дзёмон»6. (Не располагая
достаточным материалом для
научного анализа культуры такого
древнего периода, он ограничился
изучением культуры района Тохоку. а
также культуры айнов.) «Сейчас
нельзя не чувствовать, — пишет
Умэхара, — что чрезмерная
индустриализация завела культуру
человечества в тупик... Стало ясно,
что есть предел европейскому
образу мышления, четко
разделяющему человека и животных...
и появилась необходимость
рассмотреть глубинные принципы,
лежащие в основе различных мировых
культур. А для анализа культурных
принципов в Японии лучше всего
подходит район Тохоку, так как он
хранит древнюю культурную традицию
эпохи дзёмон» [141, с. 199]. По мнению
Умэхара, именно район Тохоку «для
японцев чаще всего олицетворяет
образ родины», «бессознательное
воспоминание о высокой культуре
прошлого коренится внутри сердца
каждого жителя района Тохоку» [141, с.
22, 21].
Умэхара
формулирует «глубинные принципы»
японской культуры, называемые им
общим термином «дух дзёмон» (сокращенно
— «дзёкон»). В качестве первого
принципа он выдвигает «целостное
восприятие жизни» (сэймэй-но иттай-кан),
лежащее в основе отношений
человека и природы в Японии. Для
раскрытия содержания этого понятия
Умэхара привлекает современные
материалы, характеризующие духовную
культуру айнов, поскольку не видит
различия между их образом жизни и
охотничье-собирательской
культурой «дзёмон». «У айнов, —
пишет он, — не говоря о животных,
даже растения рассматриваются
наравне с человеком. Их дух
первоначально витал где-то в
безбрежном небе, поэтому и животные,
и растения ведут такую же жизнь, как
и люди. Их дух, придя в тот мир, где
мы живем, лишь случайно принял вид
животных и растений. Думается, что
это удивительная идеология. И может
быть, ее надо назвать не пантеизмом,
а пангуманизмом» [141, с. 166].
Именно «идеология
пангуманизма» и оказывается важнейшим
принципом японской культуры. Этот
принцип, характерный для культуры
периода «дзёмон», по утверждению
Умэхара, «сохраняется в духе
японцев и впоследствии»,
составляя его «самобытную» черту,
не имеющую аналогий в мировой
истории [205, 1985, № 5, с. 31].
Тесно
связанным с «целостным восприятием
жизни» предстает из рассуждений
Умэхара второй компонент «духа
дзёмон» — взгляд на мир как на «вечное
повторение кругов жизни и смерти» (сэйси
дзюнкан), или «космический
круговорот» (утю-но дзюнкан). Такой
взгляд, характерный, по мнению
Умэхара, для мировоззрения японцев
эпохи «дзёмон», также оказывается
существенным элементом «глубинного
слоя» современной японской
культуры.
Представление
о «космическом круговороте» на
деле означает, как можно судить по
работам Умэхара, вечную циркуляцию
духов между миром живых и миром
мертвых, а заупокойная служба
призвана обеспечить благополучное
общение между этими мирами. Такое
представление коренится в
синтоистских верованиях, и сам
Умэхара указывает на это в беседе с
Ситихэй Ямамото, опубликованной на
страницах журнала «Войс»: «В основе
синто лежит мышление, согласно
которому потусторонний мир
находится на небе, сюда и
возносятся духи умерших. Духи наших
предков живут на небе так же, как мы
живем в этом мире. Время от времени
они нисходят к нам, защищают нас. И
мы после смерти отправимся туда же.
Не только мы, но и все живое, подобно
человеку после смерти, попадает на
небо. Все туда уходят, а потом
возвращаются. Я думаю, что такая
теория природного круговорота —
сердцевина синто» [218, 1985, № 4, спец.
вып., с. 160].
Подобные
построения нужны Умэхара для
выдвижения концепции «гармонии» (ва),
достаточно стандартной для теорий
самобытности японской
социопсихологической традиции.
Прототипом этой концепции Умэхара
считает «целостное восприятие
жизни», свойственное «духу дзёмон»
и определяющее отношения между
людьми и природой в Японии. Он пишет:
«Из мировоззрения целостного
восприятия жизни родилась
концепция „ва", которая означает,
что все совершается согласованно, в
гармонии» [205, 1985, N 5, с. 31].
Умэхара
доказывает, что свобода в ее
буржуазно-демократическом
понимании не стала в японском
обществе высшей ценностью, так как
ее утверждение подорвало бы «гармоничные»
отношения между правителями и
управляемыми, якобы присущие
Японии с незапамятных времен. Он
рисует идиллическую картину
человеческих взаимоотношений в
стране, имеющую мало общего с
исторической реальностью. Для
Умэхара принцип «гармонии» —
структурообразующий для японского
общества с периода правления
Сётоку-тайси (572—622), воплотившего
этот принцип в известном «Уложении
Сётоку». Умэхара подчеркивает, что
именно мораль «ва пронизывает
историю Японии» и «проявляется то
как моно-но аварэ7 эпохи Хэйан,
то как гири-ниндзё8 эпохи Эдо»,
а также «в моральных построениях
таких известных в Японии ученых,
как Тэцуро Вацудзи» [205, 1985, N 5, с. 29].
Это утверждение Умэхара
согласуется с высказыванием
Накасонэ, что как раз «гармоничность
и стремление к симбиозу, или,
другими словами, философия
сосуществования, — основа образа
жизни, сформированного японской
нацией за ее длительную историю» (цит.
по [199, 1986, № 4, с. 119]).
В беседе с
Накасонэ, озаглавленной «Развитие
мировой цивилизации и роль Японии.
Встречая 61-й год Сева» (
Умэхара
призывает оживить принцип «гармоничных
взаимоотношений» в японском
обществе и сконструировать на его
основе мировую, универсальную
мораль, которую он предлагает
внедрить в современных японских
школах в качестве подготовки
будущих граждан страны к новой
культуротворческой миссии Японии в
международном масштабе.
Умэхара в
некоторых своих работах откровенно
подчеркивает значение
традиционных культурных ценностей
Японии для «спасения» всей
современной цивилизации. В статье «Воскресающая
дзёмон» Умэхара пишет: «Европейская
культура господствует в
современном мире. Если она придет в
упадок, разрушится, что будет с
миром в целом?.. Надо немедленно
искать спасения от такого кризиса
цивилизации. И разве не существует
лекарства для цивилизации среди
принципов, коренящихся в
традиционной культуре Японии?» [213,
1985, N 11, с. 156]. По его мнению, в Японии
сохраняются дух и многие обычаи
первобытной эпохи, главным из
которых он считает институт императорской
власти, символизирующий «японскую
культурную сущность» [218, 1985, N 4, с. 164].
При этом Умэхара особо оговаривает,
что смысл этой «культурной
сущности» нельзя познать разумом,
но он «таит в себе важные моменты
для всего человечества» как «символический
принцип единения», как «символическая
экзистенция» великой миссии Японии
по спасению всего мира в будущем [218,
1985, N 4, с. 164].
Таким
образом, Умэхара трактует японскую
культуру как некую исключительно
устойчивую, изначально существовавшую,
внеисторическую категорию,
обнаруживая чисто идеалистический
подход, во многом опирающийся на
синтоистские представления о роли
духовных факторов в развитии
японского общества.
Выдвинутая
этим идеологом концепция «гармонии»
непосредственно указывает, что он
проповедует идеи традиционного
тэнноизма, умело приспособленные к
нынешним условиям развитого
капитализма, когда император
выступает не как объект
религиозного почитания, а как
носитель «культурной
непрерывности» японской нации, ее
исключительных свойств. Умэхара
выстраивает принципы японской
культуры на фундаменте сугубо
субъективных интерпретаций,
использующих эмоциональную
символику.
В своих
попытках представить выдвинутые им
принципы японской культуры как
имеющие интернациональное значение
для спасения от кризиса мировой
капиталистической системы Умэхара
отражает новые тенденции в
эволюции японского национализма,
выступающего за распространение
ценностей японской культуры в
других странах. Эта теория
обосновывает особую способность
японской культуры к выживанию в
современных условиях духовного
кризиса мировой цивилизации, ее
миссию стать тем спасительным
источником духовности, которая
изменит судьбы всего мира.
Некоторые
тезисы «теории японской культуры»
Сюмпэй Уэяма перекликаются с
центральными положениями Умэхара.
Уэяма также подчеркивает
особенности и превосходство путей
исторического развития Японии,
которые, как и Умэхара, он
прослеживает вплоть до древней
охотничье-собирательской культуры
«дзёмон». «Внутри такой культуры,
— пишет Уэяма, — развилась
самобытная религия природы, и следы
ее сохранились в синтоистских
храмах и императорской системе. Как
раз эта очень глубокая
идеологическая тенденция,
обеспечившая сохранение культа
природы, стала, вероятно, тем
источником энергии, который
возвращал к простой природности
пришлые теории» [148, с. 104].
Особенности
охотничье-собирательской культуры
«дзёмон», или, как назвал ее Уэяма,
«культуры глянцелиственных лесов»,
позволяют, по мнению ученого,
отнести ее к культуре «вогнутого
типа». Согласно Уэяма, в отличие от
индийской, китайской,
средиземноморской и европейской
культур, которые активно
воздействовали на становление
сельскохозяйственных или же
промышленных цивилизаций (он
определяет их как культуру «выпуклого
типа»), японская культура играла
пассивную роль, вследствие чего в
Японии была «полая» цивилизация [148,
с. 103]. Пассивная культура не
покоряла природу, а реализовывалась
в гармонии с ней. «Вогнутый»
характер японской культуры
предопределил ее особенности,
среди которых Уэяма выделяет
наивную готовность к восприятию
чужих достижений, связанную с тем,
что цивилизованность была чуждым
принципом для Японии; высокую
способность к поглощению иноземных
культур; способность «восстанавливать
чистый лист бумаги», т.е. «восстанавливать
пришлую культуру до ее
естественности» [146, с. 335].
Упомянутые особенности
первобытной культуры сохранили, по
мнению Уэяма, в несколько
измененном виде свое значение и в
дальнейшем, оставаясь в «глубинных
слоях» и сегодняшней японской
культуры. Как уже указывалось,
Уэяма видит проявление упомянутых
«глубинных слоев» прежде всего в
синтоизме и императорской системе.
Исходя из
этого положения, Уэяма строит свою
теорию японского государства, в которой
наиболее ярко прослеживается его
стремление обосновать
исключительность и необходимость
существования «символического»
монархического строя в стране. Он
утверждает, что современное
японское государство имеет «трехслойную
структуру». «Нынешнее японское
государство строится на более чем
1200-летних традициях государства
системы законов ри-цурё и гармонично
с ними сочетающимися более
чем 100-летними традициями конституционного
государства... Структура [государства]
представляет собой толстый глубинный
слой государства системы законов
рицурё, который покрывается
внешним слоем конституционного
государства... Еще более глубоким
слоем... является слой
государства периода до системы
рицурё» [145, с. 7, 8]. Теория трехслойного
государства Уэяма призвана
доказать, что «прошлая история
кроется в глубинных слоях
современности и обладает силой
воздействия на современность» [145, с.
9]. Историю японского государства Уэяма
рассматривает, исходя из своего
центрального тезиса «о постоянстве
императорской системы»,
пронизывающей все три слоя
структуры государства. Этот тезис
Уэяма все же далек от довоенной трактовки
японской истории националистами,
которые интерпретировали историю
страны как историю императорского
дома, считавшегося в официальной
историографии неотъемлемым и
неизменным институтом высшей
власти, принявшей в Японии
уникальную форму «кокутай».
Воздействие на современность «глубинных
слоев» японской культуры (т.е. синто
и императорской системы) Уэяма
расценивает как предопределяющее
влияние некой бестелесной «силы»
на новые, более поверхностные слои.
Он считает, что императорский строй
— это «государственная система,
вершиной которой является
император» [149, с. 3], и подразделяет
историю тэнноистской системы на
три стадии, соответствующие трем
слоям государства. Третью стадию
Уэяма обозначает как «конституционную
императорскую систему» и датирует
ее, начиная с «реставрации Мэйдзи»
(1867—1868) и до наших дней. Таким образом,
исходя из периодизации Уэяма, между
довоенной структурой политической
власти конституции Мэйдзи и
послевоенной государственностью,
когда, согласно конституции
В речи в
Сорбонне в 1985 г. Накасонэ также
откровенно рассматривал историю
Японии после эпохи Мэйдзи как
непрерывное целое и качественно
единый процесс. «Я обрисовал 120-летнюю
историю современной Японии. В ней
не так сложно проследить
постоянный поток этноса. Это —
ощущение отставания от развитых
стран Европы и США, а также чувство
нетерпения в стремлении
ликвидировать отсталость, это —
единое согласие в необходимости
самоотверженности и усилий ради
такой цели... Поистине японцы за эти
120 лет, говоря словами самого
известного нашего писателя,
пишущего на исторические темы, „завидев
на вершине холма стайку облаков, с
непоколебимым сердцем взошли на
этот холм"» [207, 1985, N 10].
Необычность
действующей в Японии конституции
Уэяма видит в сочетании не имеющей
в мире аналогий императорской
системы, подобной древнему
государству с монархом-священнослужителем
(сайситэки кунсю), и 9-й статьи, провозглашающей
отказ от вооружений [147]. Уэяма
искажает смысл 1-й статьи нынешней
конституции, которая устанавливает,
что император выступает лишь как
символ нации, приписывая
императору (как это было по
конституции Мэйдзи) права
религиозного главы государства.
Согласно Уэяма, между 1-й статьей
конституции 1947 г. и 9-й мирной
демократической статьей нет
никакого «логического противоречия»
[147, с. XV—XVI]. Иначе говоря, Уэяма
провозглашает в отличие от
воззрений консервативного лагеря («тэнноизм
— милитаризм») и в противовес
позиции прогрессивных сил («суверенитет
народа — пацифизм») свою «реалистическую»
теорию — «императорская система —
пацифизм». Уэяма указывает на
длительную традицию своего рода
конституционной монархии в Японии.
Именно таким, по его мнению, было
правление непрерывной
императорской династии.
Подчеркивая, что и в нынешней
конституции сохраняется название
императора — «тэнно», он делает
вывод: наследие средневековых
законов «рицурё», вошедшее в плоть
конституции Мэйдзи, продолжается
конституцией Сева [145, с. 152, 153].
Концепция
Уэяма, утверждающая уникальность и
превосходство японской «полой»
цивилизации, имеющей в своей основе
культуру «вогнутого типа», и
его теория «трехслойной
структуры» государства,
подчеркивающая тезис о «постоянстве
императорской системы», вполне
могут составить в будущем тот комплекс
националистических идей, который
послужит модифицированным
обоснованием «нового воплощения
изначальной сущности Японии», с
императором-символом в его центре.
Теория императорской системы,
которую отстаивает Уэяма, ведет к
возрождению национализма, хотя
и аранжированного на новый
лад. Анализ концепций Умэхара и
Уэяма, выдвигаемых на позиции ведущих
идеологов Международного центра
по изучению японской культуры,
позволяет предположить, что одной
из задач этого центра будет
создание современной националистической
идеологии, в которой, по всей
видимости, не последнюю роль будут
играть не лишенные своей
государственно-синтоистской
оболочки положения тэнноизма.
Внимание,
уделяемое разработке идеологии
национализма, не означает
пренебрежения правящих кругов к
ритуальным средствам воздействия
на массовое сознание. Государственные
праздники в 80-х годах приобретали
все более откровенный
националистический характер, в
первую очередь это относится к «кэнкоку
кинэмби».
Хотя
официальные лица не раз заявляли,
что церемония будет постепенно
терять государственный и религиозный
характер, превращаясь в «народное
торжество» (кокумин сикитэн), на
деле официальная окраска празднования
год от года лишь усиливается. Об
этом свидетельствует прежде всего
состав участников празднования и
содержание выступлений.
Значительно расширилось представительство
правительственных деятелей: если в
1985 г. в церемонии вместе с Накасонэ
приняли участие лишь четыре
министра, то в 1986 г. — 16 из 20 членов
его кабинета. В 1986 г. слова
приветствия произнесли премьер-министр
Накасонэ, председатель палаты
представителей Саката,
председатель палаты советников
Кимура. В качестве представителя
дипломатического корпуса выступил
посол США в Японии Мэнсфилд (присутствовали
послы 57 стран). Наиболее
показательна речь Накасонэ, в
которой он говорил о 60-летнем
правлении императора, патриотизме
японского народа и предков
нынешних японцев, стоявших у
истоков нации. Он также подчеркнул,
что «день основания государства»
символизирует благодарность
гражданам Японии, которые с
необыкновенной
целеустремленностью
способствовали успехам страны.
Продолжением их дела он
провозгласил усилия по реализации
главной цели сегодняшней Японии —
превращению ее в мировую державу [212,
08.02.1986]. В заключительных призывах
церемонии процветание страны и
счастье народа непосредственно связывались
с мудрым 60-летним правлением
императора, которому все
присутствовавшие пожелали долгих
лет жизни.
Об
усилении государственного
контроля над церемониями
национальных праздников, и прежде
всего «дня основания государства»
и «дня рождения императора», можно
судить также по принятому в феврале
1986 г. решению правительства и ЛДП
об учреждении фонда юбилейных
церемоний. На создаваемую в связи с
этим группу будет возложена задача
унификации проведения
всевозможных церемоний и
формирования за счет взносов
предпринимательских,
экономических и культурных
организаций, в том числе женских и
молодежных, а также отдельных лиц
общего фонда в несколько сот
миллионов иен, предназначенного
для финансирования праздников. По
оценкам японских журналистов, за
этим скрывается стремление
консервативного правительства
превратить праздничные и юбилейные
церемонии в государственные,
декларируя на словах «всеобщее
народное участие» [212, 08.02.1986].
В больших
масштабах была развернута
тэнноистская пропаганда во время
празднования 60-летия правления
императора Хирохито в 1985—1986 гг. 13
ноября 1985 г. в Токио состоялось «праздничное
собрание народа», на котором
присутствовало около 12 тыс. человек.
Было проведено широко
практиковавшееся до второй мировой
войны «поклонение на расстоянии»
императорскому дворцу, когда все
присутствующие застыли в долгом
почтительном поклоне. Затем с речью,
выдержанной в духе довоенного
культа императора, выступил
Мунэнори Токугава (член
оргкомитета по празднованию 60-летия
Сева), возвеличивший деяния
императора за всю историю его
правления как главы государства и
заявивший в заключение, что «божественные»
добродетели японского императора «глубоко
запечатлены в сердцах людей всего
мира» [201, 26.11.1985]. В свою очередь, и
выступавший от имени правительства
секретарь кабинета министров
Фудзинами сделал акцент на великих
деяниях императора во имя
сохранения государства и
спокойствия народа. Он приписал
императору решение об окончании
войны и решающую роль в воодушевлении
народа на восстановление страны и
достижение небывалых успехов за
послевоенные 40 лет. Фудзинами
подчеркнул также, что «чувства
почитания и любви народа по
отношению к его величеству
становятся все горячее, все глубже
становится чувство благодарности»
[201, 26.11. 1985]. Была принята декларация
«праздничного собрания народа», в
которой, в частности, говорилось: «Испытывая
чувства глубокой благодарности к
императору за его благодеяния, мы
твердо клянемся в сложных
внутренних и внешних условиях
крепить традиционный дух нашей
страны, средоточием которого
является императорский дом, и
способствовать вечному развитию
нашей родины — Японии» [201. 26.11.1985].
В таком же
духе неприкрытого культа
императора была проведена
общенациональная праздничная
церемония по поводу 60-летия
восшествия на престол императора
Хирохито, приуроченная к дню
рождения императора 29 апреля
Пропагандистская
кампания в связи с празднованием 60-летия
правления императора явно
преследовала цель поднять на более
высокий уровень почитание
императора в самых широких слоях
населения. В политических целях эту
церемонию использовали также и
неофициальные реакционные
организации. Так, почетный член
Комиссии по празднованию 60-летия
правления его императорского
величества Сюнъити Касэ (бывший
посол Японии в ООН) заявил: «Развивая
движение народа за празднование
годовщины правления, мы
способствуем решению задачи по
пересмотру конституции» [195, 19.01.1986].
Императорская
система в массовом сознании
Воздействие
официальной идеологии на массовое
сознание в современной Японии —
актуальнейшая проблема. Материалы
для ее изучения предоставляют как
опросы общественного мнения,
обильно проводимые в Японии по всем
буквально вопросам, так и
произведения искусства и
литературы. Но, поскольку анализ
последних выходит за рамки жанра
данной работы, мы ограничимся лишь
анализом результатов опросов
общественного мнения, позволяющим
проследить определенные тенденции
и сдвиги в отношении масс к
институту императорской власти.
До
поражения во второй мировой войне
всеохватывающая система
тэнноистской пропаганды, как
говорилось выше, внедряла в
сознание народа образ императора —
«живого бога». В сентябре 1956 г.
журнал «Тисэй» опубликовал итоги
исследования общественного мнения,
согласно которым императора
считали «ками» 33% опрошенных,
представляли существом, обладающим
сверхъестественными качествами, —
48%, обычным человеком, но подобным
главе семьи император был в глазах
12%, а по мнению 8% опрошенных, он был
обычным человеком [211, 1956, сентябрь].
В 1985 г. ответы на аналогичные
вопросы распределялись так:
император — «ками» — 2%;
сверхъестественное существо — 19,
подобен главе семьи — 33, обычный
человек — 46% [143, с. 56]. Сравнение этих
двух опросов свидетельствует о
значительном скачке в массовом сознании
— 79% опрошенных ныне относят
императора к обычным смертным,
тогда как в 1956 г. 81% опрошенных
приписывали императору
сверхъестественные качества.
Хирохиса
Уэно, проанализировав данные
опроса
Проследим,
как менялось в послевоенный период
отношение японцев к императорской
системе довоенного образца и к
существованию монархии в Японии
вообще. Почти сразу после
капитуляции Японии «Асахи симбун»
провела опрос среди пострадавших
во время войны, и выяснилось, что за
сохранение монархии выступали: в
форме «кокутай» — 26% опрошенных,
как обычай — 43, в форме «монархической
демократии» — 5, в других формах — 4%.
За ликвидацию же монархии
высказалось всего 5% опрошенных (по
сравнению с 78%, так или иначе поддержавшими
ее) [197, 04.12.1945].
Приблизительно
в то же время был проведен опрос
среди студентов Университета
Васэда. Результаты оказались
следующими: за сохранение статус-кво
выступали 36% опрошенных; за
монархию, но несколько реформированную,
— 36; за монархию, но в другой форме
— 16; за ликвидацию монархии — 3%.
Иначе говоря, в поддержку монархии
высказались 89% [143, с. 58].
Незадолго
до публикации проекта новой
конституции опрос общественного
мнения выявил: за императорскую
систему выступали 91% респондентов,
а против — 9%. Из тех, кто ратовал за
сохранение монархии, 45% объясняли
свое мнение тем, что «император не
имеет отношения к политике, отец
всей нации, средоточие нравственности»;
28% отстаивали императорскую
систему из соображений, что «монарх
и народ едины» и можно создать
такой строй, при котором «будут
сосуществовать парламент, имеющий
политическую власть, и император».
Остальные 16% просто высказались за
сохранение статус-кво [204, 04.02.1946].
Из
неофициальных проектов новой
конституции требование
ликвидации монархии содержал лишь
проект Коммунистической партии
Японии. Штаб оккупационных войск
предложил проект, близкий к проекту
Общества по изучению конституции (Кэмпо
кэнкюкай), выступавшего за
сохранение института
императорской власти для исполнения
государственных ритуалов.
В ходе
опроса общественного мнения,
проведенного газетой «Майнити» в
мае 1946 г., после опубликования
проекта конституции, в поддержку «символической»
монархии выступило 85%, против — 13,
против ликвидации монархии — 86, за
ликвидацию — 11% [204, 27.05.1946].
Таким
образом, массового движения против
императорской системы в стране не
наблюдалось. Практически не
изменилась ситуация и после
принятия новой конституции. Это
относилось и к личности императора
Хирохито. Согласно данным
исследования, организованного
газетой «Иомиури», в 1948 г.
ликвидировать императорскую
систему предлагало лишь 4%
опрошенных, передать трон
наследному принцу — 18, а 69% считали,
что «нет необходимости в смене
императора» [202, 15.07.1948]. Среди
японцев в результате эффективной
пропаганды широко
распространилось мнение, что
император не был активным
сторонником развязывания войны, а «благодаря
высочайшему соизволению
императора во время окончания
войны сто миллионов японцев были
избавлены от необходимости
предпочесть смерть бесчестью» [143, с.
59].
Во время
воздушных налетов сгорел
императорский дворец, что в глазах
народа делало императора жертвой
войны. Кроме того, с 1946 г. император,
отказавшись от торжественной
охраны довоенного времени,
запросто ездил по стране и
встречался с простым народом не как
«арахито гами», а как «нингэн тэнно»
(«император-человек»). Все это
повлияло на формирование у многих
японцев дружеских, теплых чувств к
императорской семье. К тому же
официальная пропаганда стала
привлекать внимание к наследному
принцу, не имевшему отношения к
развязыванию войны, а после его
женитьбы на девушке незнатного
происхождения дружеские чувства к
императорской семье еще более
усилились.
В 1948 г. 90%
опрошенных полагали, что положение
императора должно быть определено
по конституции в качестве «объекта
поклонения народа» (акогарэ) и как «символа
государства», и только 4% хотели
отмены монархического строя (остальные
6% не дали ясного ответа) [202, 15.07.1948].
Перед
подписанием Сан-Францисского
мирного договора, в апреле 1952 г., 27%
опрошенных желали усиления власти
императора, 56% не хотели никаких
перемен, 1% выступал за то, чтобы
ослабить власть императора, и 1% —
за то, чтобы совсем отменить
императорскую систему [202, 16.04.1952].
В ходе
опроса, организованного
правительством в 1956 г., 82%
респондентов высказали мнение, что
император нужен Японии (из них 61% —
из-за того, что без него будет «грустно»,
а 44% утверждали: «если есть
император, есть и Япония»). Лишь 3%
считали, что лучше бы было без
императора, 2% не дали ясного ответа,
13% обнаружили безразличие к этой
проблеме [143, с. 60].
В феврале
1974 г. радиотелевизионная
корпорация Эн-эйч-кей попыталась
выяснить, как японцы оценивают роль
императора. Она получила следующие
результаты: император является
центральной фигурой в политике — 4%,
служит духовной опорой народа — 42,
выполняет ритуальную роль — 41, не
играет никакой роли — 7% (5% —
неясные ответы) [143, с. 61]. Как видно
из приведенных данных, в общей
сложности 83% респондентов
выступали за «символическую»
монархию.
Сравнение
итогов опросов 1956 и 1974 гг.
показывает, что в те годы
подавляющая часть населения Японии
(соответственно 82 и 83%) была
убеждена в необходимости
существования императора. Но
значит ли это, что отношение
японцев к императорскому дому
оставалось неизменным? Попытаемся
ответить на этот вопрос, сопоставив
данные опросов общественного
мнения (%) (составлено по [143, с. 60]):
| Отношение
к императору |
Август
1961 г. |
Декабрь
1975 г. |
Декабрь
1985 г. |
| Почтение,
трепет, восхищение |
24 |
17 |
14 |
| Дружелюбие
|
40 |
50 |
34 |
| Антипатия,
ненависть |
1,1 |
4 |
3 |
| Безразличие
|
30 |
24 |
46 |
| Неясное |
4 |
5 |
6 |
Приведенные
данные показывают, что в 60—80-е годы
неуклонно уменьшалось число
японцев, воспринимающих императора
как объект религиозного поклонения9.
Несколько снизилась и доля людей,
дружелюбно относящихся к нему (с 64%
в 1961 г. и 67% в 1975 г. до 48% в 1985 г.). При
анализе рассматриваемых данных
бросаются в глаза еще два момента.
Во первых, удельный вес лиц,
дружелюбно и почтительно
относящихся к императору, особенно
резко упал в 1975—1985 гг. (в 1961—1975 гг.
он повысился с 64 до 67%, а в 1975—1985 гг.
— уменьшился до 48%). Во-вторых,
именно в указанный период доля
неинтересующихся императорским
институтом поднялась почти в 2 раза:
с 24 до 46%. Казалось бы, подобные
тенденции противоречат описанным
выше мерам правящих кругов по модернизации
и внедрению тэнноистской идеологии
в массы. Однако, на наш взгляд,
причинно-следственная связь здесь
обратная: именно наметившаяся
тенденция к ослаблению стереотипов
традиционного мифомышления
японцев в условиях повышения
уровня жизни, интенсивного
воздействия зарубежной буржуазной
культуры побудила правящие круги
предпринять шаги в направлении
возрождения традиционного
мировосприятия.
Такой
вывод подтверждают данные других
опросов. В частности, в ходе одного
из них, проведенного в 1983 г. газетой
«Асахи», 9% опрошенных заявили, что
дружеские чувства к императорскому
дому будут расти, 41% — что
уменьшатся, а 43% — что не изменятся [197,
04.09.1983]. Скептическое отношение
более чем 80% опрошенных к
перспективам престижа императора
среди японского народа вполне
объяснимо: постепенно уходит из
жизни поколение японцев,
воспитанных на тзнноистской
идеологии, а у поколения,
родившегося и воспитанного в
условиях новой конституции,
наблюдается равнодушное отношение
к императорской семье. Согласно
данным «Асахи симбун», среди лиц
старше 60 лет 70% испытывают симпатию
к императору, а среди лиц моложе 25
лет более 80% не испытывают к нему
никаких теплых чувств [197, 03.01.1983].
Именно поэтому, чтобы усилить
поддержку «символической» монархии
со стороны молодежи, правящий класс
активизирует пропаганду
модифицированной тэнноистской
идеологии.
Вместе с
тем выявившееся некоторое падение
религиозного и духовного
авторитета императора отнюдь не
означало, что японцы все больше
склоняются к необходимости
ликвидации института монархии. Вот
какие результаты дали опросы
общественного мнения,
проводившиеся в 70—80-е годы с целью
выяснения отношения населения к
статусу императора (%) (составлено
по [204, 15.08.1970; 204, 16.10.1975; 204, 26.12.1979; 204, 03.04.1981;
143, с. 60; 203,04.01.1985]):
| Ваше
отношение к тому, чтобы |
Август
1970 г. |
Октябрь
1975 г. |
Декабрь
1979 г. |
Апрель
1981 г. |
Январь
1985 г. |
| Сделать
императора абсолютным
монархом, как до войны |
- |
- |
- |
- |
- |
| Дать
императору несколько больше
политической власти |
8 |
7 |
8 |
6 |
9 |
| Оставить
в положении «символа» |
81 |
80 |
77 |
77 |
77 |
| Ликвидировать
институт императорской власти |
9 |
10 |
13 |
14 |
10 |
| Итого... |
98 |
97 |
98 |
97 |
97 |
| Доля
ответивших нечетко или не
давших ответа |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
Как можно
судить по приведенным данным,
поддержка населением императора в
роли «символа» незначительно
ослабла после 1975 г. Но в последнее
десятилетие она все же
поразительно стабильно держится на
уровне 77%. За 1981—1985 гг. несколько
уменьшилось число японцев,
выступающих за ликвидацию монархии,
и возросла доля лиц, считающих
необходимым расширить
политические прерогативы
императора, что, видимо,
объясняется до некоторой степени
эффективностью тэнноистской
пропаганды и общим подъемом
националистических настроений в
стране. В целом же совершенно
очевидно, что подавляющая часть
населения Японии одобряет
существование «символической»
монархии.
Этот вывод
подтверждают и результаты опросов,
проводившихся с целью выяснить,
как представляют себе японцы
будущее императорской системы (%) (составлено
по [204, 15.08.1970; 204, 16.10.1975; 204, 26.12.1979]).
| Императорская
система |
Август
1970 г. |
Октябрь
1970 г. |
Декабрь
1979 г. |
| Будет
существовать долго |
70 |
66 |
68 |
| Когда-нибудь
подвергнется изменениям |
27 |
30 |
29 |
| Итого... |
97 |
96 |
97 |
| Доля
ответивших нечетко или не
давших ответа |
3 |
4 |
3 |
В ходе
исследования общественного мнения,
осуществленного «Майнити симбун»
в
Профессор
Хиросимского университета
Хирохиса Уэно, проанализировавший
огромный материал опросов, считает,
что сохранение императора-«символа»,
активная роль «императорской
дипломатии», те функции, которые
были сохранены за ним по
конституции, и те, которые он выполняет
в нарушение конституции, служат
консервации в народе «сознания
слуг его императорского величества»
(«синдзю-но исики»). Стремление
правящих кругов представить
императора главой японского
государства по отношению к
иностранным державам, подчеркивает
он, также не дает народу четко
осознать себя как суверена страны.
В результате, отмечает Уэно, в
значительной мере сохраняется
консервативное сознание, а
опирающееся на него стремление
восстановить синто в его
государственном статусе чревато
возрождением государственного
национализма и милитаризма [143, с. 63].
* *
*
Когда уже
была написана эта книга, в Японии
произошли события, самым
непосредственным образом связанные
с проблемами культа императора. 7
января 1989 г. после тяжелой и
продолжительной болезни скончался
87-летний император Хирохито.
Болезнь и смерть императора
вызвали большой резонанс в Японии и
на международной арене, пролив
дополнительный свет как на
отношение японцев к «символической
императорской системе», так и на
место и роль этой системы в
политической жизни японского
общества. Разумеется, по свежим
следам, когда еще продолжает
поступать пестрая и обильная
информация, невозможно дать ее
всесторонний научный анализ. Но
некоторые тенденции имеющиеся
сведения выявить все же позволяют.
С 19
сентября
Члены
императорской семьи, политические
деятели, в том числе премьер-министр
Нобору Такэсита и члены его
кабинета, а также зарубежные
дипломаты нанесли визиты в
императорский дворец.
В эти дни
многие японцы выстаивали под
проливными дождями в огромных
очередях у императорского дворца,
чтобы расписаться в книге
пожеланий скорейшего
выздоровления императору. Средства
массовой информации вынесли тему
здоровья монарха на передний план
во внутриполитических новостях.
Многие органы местного
самоуправления призвали население
отменить все крупные празднования,
депутаты парламента не покидали
столицу.
Но уже к
концу октября стали заметны
признаки того, что большинство
населения устало от напряженной
атмосферы, царившей в стране. Жизнь
стала входить в свое обычное русло,
а чрезмерный ажиотаж в печати и на
телевидении в связи с перипетиями
состояния императора стал
раздражать многих жителей Японских
островов, видевших в них помеху
собственным делам и излишнюю
нервозность. Некоторые стали
проявлять даже циничное отношение
к умирающему Хирохито, получили
распространение довольно
сомнительного содержания шутки и
карикатуры. Конечно, это не значит,
что такого рода настроения были
характерны для всех. Отмечалось, в
частности, усиление интереса к
проблемам монархии, в большем, чем
обычно, количестве раскупались
серьезные исследования
императорской системы в стране.
Одним словом, чем дольше
затягивалась болезнь императора,
тем более пестрой была и реакция
со стороны японцев, что свидетельствует
об отсутствии монолитного единства
мнений нации.
Болезнь
императора Хирохито послужила
поводом для возобновления
общенациональных дискуссий по
вопросу о роли монархии, начало
которым положили публикации 21
сентября 1988 г. в английских
газетах «Сан» и «Дейли Стар».
Статья в «Сан» предрекала, что «ад
ждет этого императора зла», так
как он умирает «ненаказанным за
некоторые из самых ужасных
преступлений нашего жестокого века».
В «Дейли Стар», также возлагавшей
на императора ответственность за
преступления Японии в войне, он
назван «сыном зла, правившим
империей крови».
Сочтя
содержание этих статей «оскорбительным»
для Хирохито, тем более в такой
критический момент для его
здоровья, правительство Японии
потребовало от издателей этих
газет публикации извинения. Посол
Великобритании в Японии Джон
Уайтхед выступил на страницах
японской печати с заявлением, в
котором подчеркнул, что статьи в «Сан»
и «Дейли Стар» написаны в «дурном
вкусе» и не отражают мнения
большинства жителей Великобритании.
А посол Японии в Великобритании
направил протест в адрес двух
названных газет, в котором именовал
императора японским монархом.
Последнее
вызвало в Японии обострение
многолетних дебатов между
оппозиционными партиями и
правительством ЛДП по вопросу о том,
является ли в соответствии с
действующей конституцией
император главой государства.
В начале
октября 1988 г. представитель
кабинета министров на слушаниях в
парламенте заявил, что «император
является главой государства, когда
дело касается внешнеполитических
вопросов». Депутат от СПЯ Манаэ
Кубота обратился с запросом по
этому поводу к правительству, и
председатель Бюро по
законодательным делам Ойдэ Такао
подтвердил, что император
считается главой государства,
когда дело касается
внешнеполитических вопросов, но
не обладает властью, как до войны.
По мнению КПЯ, ссылка на императора
как на главу государства даже в
дипломатических протокольных
процедурах является нарушением
конституции. СПЯ также выразила
обеспокоенность в связи с тем, что
такой прецедент может привести к
отходу от конституционного статуса
императора как символа
государства. Но высокопоставленный
представитель МИД заявил, что,
несмотря на протесты, министерство
будет по-прежнему использовать
этот термин в «некоторых
обстоятельствах» [216, 12.10.1988].
Но в
правящем лагере были высказаны и
противоположные мнения. В
интервью агентству Ассошиэйтед
Пресс депутат парламента от ЛДП
Седзи Нисимура отказался назвать
императора главой государства и
заявил, что ему не нравится идея
публичной схватки с оппозицией. «Консерваторы
в ЛДП, как и многие японцы,
выступают за сохранение
императорской системы в ее
нынешнем состоянии, — заявил
Нисимура, который возглавляет две
группировки в парламенте,
выступающие в поддержку императора.
— Поэтому у ЛДП нет необходимости
начинать подобные дебаты в
парламенте».
В октябре
1988 г. в пресс-центре для иностранных
журналистов была проведена серия
из трех брифингов, посвященных
проблеме роли императора в истории
и современном обществе. Наиболее
типичными были мнения профессора
литературы Масакадзи Ямадзаки и
историка Нобору Код-зима. Ямадзаки
построил свою позицию на том, что «император
— это символ культурного единства»,
а его религиозные функции не
приходят в конфликт с конституционным
требованием отделения религии от
государства, так как император —
представитель религии «здравого
смысла, а не
институционализованной религии с
ее догмами». Кодзима заявил, что «японцы
видят в императоре носителя
верховной власти, не связанной с
властью политической» [217, 26.10.1988].
Одним из
самых острых вопросов была
постановка проблемы о степени
персональной ответственности
императора Хирохито за
агрессивные войны, которые вела
Япония в первые 20 лет его правления.
Наблюдалась крайняя поляризация
точек зрения — от однозначного
объявления Хирохито военным
преступником (наиболее
последовательно этой позиции
внутри Японии придерживалась КПЯ)
до стремления представить его «миротворцем»,
пытавшимся сдержать милитаристов и
проявившим решимость
противостоять большинству,
ратовавшему за продолжение войны в
1945 г. Впервые в Японии эта тема
дискутировалась столь остро и
откровенно, хотя в значительной
мере к этому японское
общественное мнение подталкивала
реакция в зарубежных странах,
особенно ветеранов войны на Тихом
океане.
В целом
дебаты во время болезни императора
показали, что император Хирохито
был важным символом для японцев:
символом милитаристского величия
Японии — для крайне правых,
символом самобытности и сохранения
культурных традиций — для
умеренного большинства и символом
тирании — для людей
леворадикальных позиций.
Эти выводы
подтверждаются опросами
общественного мнения, проведенными
16—19 февраля 1989 г. компанией «Токио
бродкастинг систем», а также
газетой «Иомиури» 7 января 1989 г.
Согласно данным первого
исследования, 77% опрошенных
поддержали императорскую систему.
73% считали императора национальным
символом, и только 2% все еще
относились к нему как к «человеко-богу».
Многие японцы (42%) полагали, что
император Хирохито был слишком
удален от них, а большинство (59%)
хотели бы, чтобы новый император
Акихито был ближе к народу [217а, 23.02.1989].
Более
подробные данные предоставил опрос,
осуществленный газетой «Иомиури»:
свыше 80% респондентов одобрили
роль императора — «символа наций»,
9% хотели бы, чтобы функции
императора были более четко
определены и ему было бы
предоставлено больше власти, 5%
высказались за ликвидацию
монархии. Интересно, что в этом
опросе учитывалась партийная
принадлежность. Из респондентов,
поддерживающих правящую ЛДП, 87%
выступили за сохранение
символической роли императора, 10%
хотели бы увеличения власти
монарха, 1% высказался против императорской
системы. Сходные результаты дал
опрос сторонников СПЯ: 77% — за
статус-кво, 11% — за бoльшую
власть императора, 9% — за
ликвидацию монархии. Иной
оказалась реакция сторонников КПЯ:
лишь 56% высказались за сохранение
«символической императорской
системы», а 44% выступили за ее
ликвидацию (214а, 10.01.1989). И вот 7
января
Но при
самой первой церемонии
престолонаследования «сэнсо»,
когда императору Акихито через три
с половиной часа после смерти
императора Сева вручались «божественные
регалии» хризантемового трона, а
также государственная и
императорская печати, крен был
сделан скорее «вправо».
Генеральный секретарь кабинета
министров Кэйдзо Обути откровенно
религиозную церемонию не признал
таковой и этим объяснил решение
правительства проводить ее как
государственный акт.
Вторая
церемония престолонаследования «сокуи-но
го тё-кэн-но ги» — первый прием
императором высокопоставленных
должностных лиц и провозглашение
перед ними своего «занятия трона»
также в нарушение конституции была
проведена как государственный акт.
На церемонии, состоявшейся во
дворце 9 января, присутствовали
представители политических
кругов во главе с премьер-министром
Нобору Такэсита. Однако 44 человека
из 287 приглашенных на первую
аудиенцию императора не явились.
Большинство из них, включая пять
представителей СПЯ и одного
представителя КПЯ, выразили свое
неодобрение церемонии как
связанной с синтоистским ритуалом.
В ходе этой церемонии новый
император выступил с трехминутной
речью, в которой заявил о своем
стремлении к обеспечению
всеобщего мира и дальнейшего
развития страны, а также о желании «вместе
со всем японским народом соблюдать
конституцию, в которой
провозглашается отказ Японии от
войны на вечные времена, а
император характеризуется как „символ
государства и единства"». В отличие
от своих предков император Акихито
говорил не на церемониальном, а на
обычном языке [214а, 10.01.1989].
Более
гибкий подход, учитывая мнение
общественности, проявило
правительство при организации
похорон и связанных с ними
ритуалов (всего их было 34). Было
формально разграничено проведение
синтоистских обрядов и гражданской
панихиды.
До 24
февраля (дня похорон) тело монарха
хранилось в запечатанном
кипарисовом гробу в тайных покоях
дворца. Дело в том, что, по поверьям,
именно около 45 дней необходимы,
чтобы дух усопшего приобрел «небесный
облик». За этот период проводилось
множество мелких обрядов, таких,
например, как перемещение гроба из
одних покоев в другие, очищение
места погребения и т.д.
В день
похорон гроб с телом императора
Сева был установлен на кубический
паланкин, который нес 51 носильщик
в черных одеяниях, отобранные из
специальной полицейской части,
охраняющей дворец. За ними
шествовали синтоистские
священники с оранжевыми и белыми
штандартами, рядом с ними высший
чиновник императорского дворца нес
завернутые в парчовый чехол
священные туфли, предназначенные,
согласно синтоистским верованиям,
для вознесения на небеса
императора Сева. Звучала и похоронная
придворная музыка флейт и
барабанов, а также вдоль следования
кортежа 10 оркестров «сил
самообороны» играли мелодию «На
вершине скорби».
Предполагалось,
что проводить императора в
последний путь придет около 1 млн.
человек, но, по сообщениям полиции,
собралось немногим более 570 тыс.
участников. Конечно, свою роль
сыграла и промозглая дождливая
погода, но многие не вышли на улицу
и потому, что смерть императора
оставила их равнодушными и они
решили использовать день похорон,
объявленный выходным, для отдыха.
Разумеется, реакцию токийцев
трудно сравнить с тем, что
творилось в 1927 г., во время похорон
императора Тайсё, когда в
полуторамиллионной толпе были
раздавлены 7 человек и несколько
сотен получили ранения.
Ритуальный
марафон в общей сложности
продолжался 13 с лишним часов,
начавшись у императорского дворца
и закончившись церемонией
опускания гроба под своды мавзолея
Мусасино-но мисасаги на
императорском кладбище в
токийском пригороде Хатиодзи.
Крупнейшие церемонии проводились
в столичном парке Синдзюку гёэн. На
траурном событии присутствовали
более 10 тыс. гостей, из которых
около 700 представляли 163 страны, 27
международных организаций. 55 глав
государств, 11 премьер-министров, 14
представителей королевских
фамилий всего света отдали свой
последний долг императору Сева. Это,
безусловно, свидетельствует о
возросшей роли Японии в
международном сообществе.
Сначала в
специальном траурном павильоне (Содзёдэн)
состоялась синтоистская церемония
(Содзёдэн-но ги), в ходе которой
новый император, отвесив поклон,
обратился с траурной речью к духу
усопшего. Затем все остальные члены
императорской семьи выполнили свой
ритуальный долг. После этого
понадобился десятиминутный
перерыв, во время которого сняли
синтоистское убранство — тем самым
подчеркивался переход к
государственной церемонии «тайсо-но
рэй». Но новый император играл
центральную роль и в этой церемонии,
как было указано, в соответствии с
конституционными полномочиями.
Члены парламента от СПЯ ожидали
окончания ритуала «Содзёдэн-но ги»
в отдельном павильоне и приняли
участие лишь в «тайсо-но рэй».
Остальные присутствующие были
свидетелями обеих церемоний, что
фактически сделало разделение их
формальным. После окончания
процедур в парке Синдзюку гёэн
кортеж со скоростью 10 км в час
двинулся в сторону мавзолея
Мусасино-но мисасаги, где все
кончилось только к 9 часам вечера [214а,
25.02.1989].
Во время
процессии были совершены две
неудавшиеся попытки помешать
похоронам. Несмотря на то что еще в
преддверии похорон в Токио были
стянуты 32 тыс. полицейских,
экстремистам все же удалось на
скоростной автомобильной трассе «Тюо»
взорвать бомбу. К счастью, никто не
пострадал, хотя была повреждена
бетонная эстакада дороги. Кроме
того, были арестованы двое, попытавшиеся
преградить путь машинам с
синтоистскими священниками на
улице Аояма-дори [214а, 25.02.1989].
В стране
состоялось несколько собраний и
митингов (в Токио, например 3 тыс.
человек приняли участие в 11 таких
мероприятиях), в ходе которых
обсуждался вопрос о
конституционности ритуала похорон
и высказывались протесты
относительно их организации.
Особенно заметно антиимператорские
настроения проявились в день
похорон среди студенчества и
ветеранов второй мировой войны [214а,
25.02.1989].
Судя по
специальной программе Эн-эйч-кей 24
февраля 1989 г., реакция в зарубежных
странах на проведение церемонии
похорон не была однозначной. Наряду
с нейтральным и официально-вежливым
освещением этих событий
средствами массовой информации
наблюдались и оценки другого рода.
Так, в одном из парков
южнокорейской столицы состоялся
митинг, в котором приняли участие
представители всех возрастных
групп. Он прошел под лозунгами
протеста против отдавания почестей
умершему императору.
Китайские
пресса и телевидение обошли
молчанием это событие, поэтому
многие пекинцы ничего не знали о
происходящих в Токио церемониях,
несмотря на то что для участия в
похоронах был делегирован министр
иностранных дел КНР Цянь Цичэнь.
Смерть
императора Сева расценивается
многими аналитиками как одна из
важнейших вех в послевоенной истории
Японии. «Иомиури симбун» писала: «Конец
эпохи Сева и начало эпохи Хэйсэй
предоставляют нам историческую
возможность вновь подтвердить нашу
решимость внести вклад в дело мира
и стабильности во всем мире в духе
конституции» [202, 10.01.1989]. А газета «Джапан
таймс» высказалась еще более
определенно: «Со смертью его величества
императора закончилась самая
продолжительная и драматическая
эра в японской истории. Вряд ли
когда-нибудь вновь Японии
предстоит пережить столь тяжелые
испытания и такой триумф, как за
последние 62 года. Эра Сева сделала
современную Японию тем, чем она
является сейчас. Практически ни
один поворотный момент в этот исключительный
период нельзя представить без
покойного ныне императора. Война и
мир, кризис и процветание способствовали
появлению, а затем уходу
впечатляющей плеяды национальных
лидеров: генералов, политических
деятелей и бизнесменов. В Японии
многое менялось, но император
оставался» [216, 08.01.1989].
Две трети
62-летнего правления императора
Сева выпало на послевоенный период,
и, несмотря на спорность для
некоторых слоев общества значения
его личности, образ императора
укоренился в массовом сознании как
символ государства и единства
нации. Факты политической жизни,
анализ социальной психологии
подтверждают, что сохранение
монархии не носит искусственного
характера, оно отражает реальную
потребность современного
японского общества в мифах и
священнодействиях. Ни всевозможные
нововведения, ни сдвиги в
мировоззрении японцев оказались
не в состоянии сокрушить древние
традиции страны, в том числе
средоточие этих традиций —
императорскую систему.
Реакция,
последовавшая со стороны японцев и
всего мира на смерть императора
Сева и восшествие на престол нового
хозяина хризантемового трона,
многое рассказала об этой стране и
ее сегодняшнем месте в мире. Однако
опасения, что правые воспользуются
этим благоприятным моментом для
расширения своего влияния в
обществе, на наш взгляд,
малообоснованны. Напротив, приход
на престол императора Акихито, не
отягощенного негативным грузом
прошлого, скорее будет использован
правительством, чтобы похоронить
это прошлое и, «очистившись», устремиться
в будущее.
Новый
император Акихито представляет
собой уже иную эпоху — эпоху
демократической конституции и
высокоразвитого индустриального
общества. Будет ли в связи с этим
происходить модернизация «символической
императорской системы»?
Наследного
принца Акихито более полувека
готовили стать преемником своего
отца. С самого начала его воспитания
были нарушены вековые традиции. В
отличие от своих августейших
предков, которые в основном
воспитывались в изоляции строгими
наставниками, исповедовавшими
конфуцианство, Акихито учился
сначала в школе с представителями
аристократии, а затем с детьми
самого обыкновенного
происхождения. Во время
американской оккупации наряду с
японским воспитателем Синдзо
Коидзуми у наследного принца была
также американская наставница
Элизабет Грей Вайнинг, которая,
как считается, параллельно с
уроками английского языка передала
ему европейские представления о
монархии.
Затем
традиции нарушил уже сам наследный
принц, создав своего рода «императорский
прецедент», настояв на своей
женитьбе в 1959 г. на девушке
незнатного происхождения Митико
Седа, дочери мукомольного магната.
Уже вдвоем они изменили уклад жизни
в императорской семье. Вместо того
чтобы отдать своих детей на
попечение кянек и камергеров, они
вырастили их сами. Сыновья Акихито
— Хиро и Ая были отправлены для
получения высшего образования в
Оксфорд. Принц Ая еще не закончил
свое обучение там. Акихито придает
большое значение семейной жизни,
которой посвящает значительную
часть своего свободного времени.
Митико во многих отношениях можно
назвать нетрадиционной
императрицей. Она окончила католическое
учебное заведение — Университет
святой души, свободно владеет
английским языком, заядлая
теннисистка и превосходно играет
на фортепиано и арфе. Кроме того,
она почетный вице-президент
японского общества «Красного
Креста».
Но самое
главное, что Акихито отличает
широко известная личная
приверженность открытой,
демократической и пацифистской
монархии. Общественные контакты
его в бытность кронпринцем были
несравнимы с затворнической жизнью
его отца. Он встречался каждый год
примерно с полутора тысячами
человек, представляющими все слои
общества, давал по три пресс-конференции
в год. Акихито побывал во многих
зарубежных странах: в Великобритании,
Иордании, Югославии, Непале,
Бангладеш и Бразилии.
Два года
назад Акихито потребовал отменить
привилегии для императорской
машины при проезде городских
магистралей, с тем чтобы шофер
соблюдал все правила уличного
движения, как обычные японцы. Он
также привел в шоковое состояние
охрану Управления императорского
двора, когда воспользовался
общественным транспортом во время
загородных поездок с семьей. Одним
словом, новый император не раз
демонстрировал готовность быть
ближе к простым людям и стараться
жить проще.
Новый
наследный принц Хиро (или
официально — На-рухито) также
высказал пожелание, чтобы стена
между императорской семьей и
общественностью страны была как
можно ниже [214а, 15.01.1989].
Судя по
опросу общественного мнения,
проведенному газетой «Иомиури
симбун» 7 января 1989 г., это отвечает
устремлениям большинства
респондентов, 51% которых высказались
за то, чтобы императорский дом стал
более открытым, чтобы отношения
между императорской семьей и
народом носили более тесный
характер. 70% опрошенных выразили
чувства любви по отношению к новому
императору, 17% — уважение, лишь 1% —
неодобрение. Для сравнения: в ходе
опроса, организованного той же
газетой в 1986 г., лишь 35% опрошенных
признались, что испытывают
чувства любви к императору Сева [202,
10.01.1989].
Газета «Дейли
Иомиури» писала в своей
редакционной статье в связи с этим:
«Когда императорскую семью от
народа отделяет чрезмерное число
барьеров, это наносит большой вред
демократическому обществу. Однако
это не означает, что все, что
касается императорского двора,
должно быть известно
общественности. Провести грань
очень непросто» [214а, 15.01.1989].
Мнения
ведущих интеллектуалов страны
разделились. Так, еще в 1984 г.
профессор Киотоского университета
Юдзи Аида, осудив прозападное
воспитание Акихито, доказывал, что
японскому народу не нужен «король
европейского типа, который
является украшением
дипломатических и социальных
кругов, чья жена занимает положение
первой дамы в стране». По его мнению,
это не отвечает представлениям
японцев о самих себе. «Нам нужен
духовный лидер, который не привязан
к собственности, власти, статусу и
другим ловушкам этого мира, молится
богам за счастье японского народа»,
— заявил Аида [198, 1984, N 5, с. 123].
Сходные
мысли высказал известный в стране
критик и писатель Хидэаки Касэ,
который также не хотел бы, чтобы
новый император походил на членов
британской королевской семьи. По
его словам, в обязанности императора
не входит развлекать других. Он —
священная фигура, считает Касэ. В
связи с этим он предполагает, что
императору не следует показываться
на людях слишком часто.
Совсем
иного мнения придерживается
популярный социолог Хидэтоси Като,
считающий, что Акихито «стал
символом хороших сторон
послевоенной демократической
системы», и выступающий за то, чтобы
он «мог действовать так и в
будущем» [198, 1984, N 5, с. 121].
Крайне
правые выступили с требованием,
чтобы Акихито был провозглашен
главой государства. Левые, и прежде
всего КПЯ, которая опубликовала
специальное заявление 7 января 1989 г.,
напротив, выдвинули задачу полного
отказа от императорской системы,
опасаясь, что японские
политические деятели попытаются
использовать нового императора в
целях возрождения милитаризма [195, 07.01.1989].
Судя по
личности Акихито, представляется,
что он сторонник того, чтобы
совместить элементы современности
с традициями японской монархии, не
посягая на ореол таинственности,
ритуалы и священнодействия.
Император Акихито, совершенно
очевидно, не будет стремиться выйти
за рамки установлений конституции,
запрещающей императору исполнять
функции, связанные с правлением, и
строго ограничивающей пределы его
власти формальной деятельностью,
получившей название «представительских
функций». Будучи свидетелем
разгоревшихся в стране споров о
судьбе таких национальных символов,
как император, флаг с изображением
восходящего солнца (хиномару),
гимна «кими-гаё», новый император,
по-видимому, будет вынужден учесть
последствия феномена интенсивных
социопсихологических переоценок,
когда многие японцы, в том числе
крупные официальные деятели10,
начали выступать с открытой критикой
императора, что еще несколько лет
тому назад было бы немыслимым.
Вопрос об
изменении роли императора в
политической и социокультурной
сферах жизни японского общества
после вступления на престол
Акихито будет зависеть не только от
характера и решимости самого
нового императора, но и от того,
какие политические группы займут
лидирующее положение в
правительстве. Но, конечно, мы не
должны сбрасывать со счетов и такой
консервативно настроенный
институт, как Управление
императорского двора, которое во
время болезни императора Сева и при
решении ритуальной стороны
престолонаследования показало и
свою относительную независимость
от правительства, и видимую власть
над делами управления
императорской семьи, хотя бы потому,
что оно распоряжается финансовыми
делами императорской семьи.
В связи с
этим встает вопрос о том, что
император не пользуется всеми
основополагающими правами человека,
которые гарантированы каждому
гражданину. Например, он не может
участвовать в политической деятельности
и делать политические заявления.
Даже женитьба членов императорской
семьи должна быть одобрена специальным
комитетом императорского двора.
Поскольку в определенных пределах
император является общественным
деятелем, у него меньше, чем у
обычных людей, прав на охрану
личной жизни. «Однако, — как пишет
газета „Дейли Иомиури", — в
соответствии с утвердившимися
сейчас толкованием конституции
императора необходимо также
рассматривать как личность и
настолько, насколько это возможно,
необходимо гарантировать его права
на жизнь, свободу и стремление к
счастью. Кроме того, у
императорской семьи должны быть ее
собственные частные дела, которые
она не хотела бы предавать огласке»
[214а, 15.01.1989].
Церемониал
смены императоров еще не завершен.
В настоящее время Управление
императорского двора занято
подготовкой к важнейшему ритуалу
престолонаследования — «дайдзёсай»,
который состоится лишь осенью 1990 г.
после многих подготовительных
обрядов. Поскольку до этого времени
в императорской семье будет
соблюдаться траур, то все возможные
шаги в плане модернизации
императорской системы, как
представляется, могут быть предприняты
лишь в дальнейшем.
Пока можно
с определенностью предсказать лишь,
что приход на престол нового
императора Акихито несомненно
облегчит процесс
интернационализации Японии. Уход
императора Сева, образ которого в
сознании миллионов людей, и прежде
всего жителей Юго-Восточной Азии,
ассоциировался с действиями
японской императорской армии,
принесшей много горя народам мира,
означает разрыв с этим тяжелым для
Японии прошлым.
Современный
климат в мире и позиция Японии в
международных делах позволяют
надеяться, что имя императора
никогда не будет использовано
вновь в милитаристских целях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На
протяжении более чем тысячелетней
истории до эпохи Мэйдзи идеология
института монархической власти
прошла сложный путь эволюции — от
культа «священного царя» через
заметное ослабление своего влияния
на духовную жизнь общества в период
средневековых междоусобиц к
постепенному возрождению в новое
время в качестве центральной идеи
национального самосознания.
За это
время сформировались «сквозные»
идеи, связанные с представлениями
о роли института императорской
власти в жизни общества, они стали
оказывать непосредственное
влияние на национальную психологию,
включая массовое политическое
сознание.
Особенностью
японского института монархии можно
считать его поразительную
способность гибко реагировать на
многочисленные перемены в обществе
и сохранять в качестве главного
ядра черты, свойственные ему на ранних
этапах, а следовательно, и
ритуально-мифологический комплекс,
характерный для института «священных
царей». Неизменная на протяжении
веков и ставшая впоследствии
ведущей функция императора как
верховного священнослужителя
синтоистского культа прочно
утвердила в сознании японцев
представление о тэнно как
воплощении мистической силы
космических масштабов, способной
оказывать определяющее влияние на
жизнь всего общества. В содержании
и функциях института императорской
власти на первых порах
становления государственности в
Японии можно проследить (несмотря
на огромный временной промежуток)
некоторые исторические параллели с
египетскими фараонами, а также
институтами «священных царей»
других государств Африки и Азии (например,
Хеттское царство). Однако в Японии в
отличие от указанных «священных»
царств политическая деградация
древней монархии не привела к ее
исчезновению, а способствовала
абсолютизации сакральных функций
монарха на фоне потери им власти
верховного правителя.
Думается,
что такая ситуация объясняется
особенностями социальной
структуры японского общества.
Длительность относительно
независимого пути развития Японии
в уникальных условиях отсутствия
внешних вторжений обеспечила
устойчивое существование общины
поливного рисоводства, но
общинная форма социальности,
характерная для традиционного
Востока в целом, в Японии оказалась
существенно видоизменена
гипертрофированной ролью кровнородственных
и псевдородственных уз и старших
возрастных групп. Все это
обусловило незаурядную
стабильность особой японской
коллективистской структуры,
вековые традиции которой, на наш
взгляд, не смогли размыть ни
универсализм привнесенного
буддизма, ни (позже) развитие
капиталистического способа
производства.
Сразу
после окончания второй мировой
войны среди прогрессивных японских
ученых наблюдалась тенденция к
оценке такого рода традиционных
принципов социальной организации
коллектива (чаще всего
обозначавшихся расплывчатым
термином «феодальное наследие»)
как обреченных на скорое
исчезновением (см. [117]). Однако в
дальнейшем дискуссия приняла очень
широкий характер, и на этих страницах
нет возможности даже в общих чертах
проследить ее ход.
С нашей
точки зрения, наиболее
плодотворной оказалась концепция
Кэйити Сакута. Сакута ввел термин «иерархическая
община» (мибункайсосэй-о томонау
кёдотай), который, на наш взгляд,
точно передает особенности традиционной
социальной структуры Японии. Сам
Сакута, определяя «иерархическую
общину», указывает, что это термин
довольно высокого уровня обобщения:
«иерархическую общину» не надо
путать с исторической формой
традиционной «сельской общины» (кёдотай,
последний иероглиф «тай» — другой,
хотя фонетически звучит так же).
Понятие «иерархическая община»,
характеризующее определенный тип
взаимоотношений, охватывает
отношения и в традиционной
деревне, и в соседских ассоциациях,
и в патриархальной семье (иэ), и на
мелких предприятиях, в различных
кликах и фракциях, а также (в
фиктивной форме) в самом
государстве [117]. Государственный
уровень подобных отношений и
представляет интерес для нашей
темы. Содзо Фудзита определяет
установившиеся иослг революции
Мэйдзи государственные порядки как
«кгдк тай кокка» («общинное
государство») [150, с. 10; 109; 126].
Восприятие
национального государства Мэйдзи
как «государства-общины», или «государства-семьи»,
явилось закономерным итогом
развития Японии в средние века.
Гипертрофированная,
с нашей точки зрения, роль
се-мейно-образных общинных уз в
японском обществе обусловила
устойчивое существование
синтоистских верований с их упором
на культ предков и связанную с его
функционированием такую
особенность «иерархических общинных»
отношений в Японии, как «освящение»
групповой жизни [117]. С незапамятных
времен в японском обществе
поведение в согласии с волей
«ками» — покровителей группы
того или иного уровня считалось
сакральным. С появлением классов
и государственности официальная
идеология складывается на основе
общенародного культа предков
верховных правителей — тэнно,
которые для узаконения своей
власти монополизируют обладание
социально значимыми сакральными прародителями.
Однако это не приводит в силу
указанного выше своеобразия
развития, как во многих других культурах,
к деградации семейно-родового
культа предков.
Постепенно
с иерархизацией отношений в
обществе в определенную
иерархическую структуру
выстраивается и мифологическая
структура синтоизма. Сфера влияния
культа предков не сужается и под
воздействием буддийской идеи о
перевоплощении душ. В Японии
наблюдается сложное
синкретическое переплетение
синтоизма и буддизма, но культ
предков и его субституты
продолжают занимать заметное место
в религиозных верованиях.
Особенности
внутри- и межгрупповых отношений,
базирующихся на четкой иерархии,
привели к укреплению групповой
ориентации и лояльности к
вышестоящим. Эти социальные
ориентации облегчали управление
массами, и господствующие классы в
течение всего исторического
периода сознательно
культивировали их как часть общественной
морали, что обеспечило их особо
прочное закрепление в массовом
сознании. На идеологическом уровне
социально обусловленная
невычлененность индивида из коллектива
способствовала сохранению
значимости мифа для
функционирования общественной
системы.
Описанные
условия существования японского
общества отразились в
мифологической нерасчлененности
мироощущения японцев. Известный
американский филолог Х.У. У-эллс,
исследовав драмы театра Но, пришел
к выводу, что в их основе лежит
чисто мифологическая концепция
бытия (см. [192]). Вообще характерная
для мироощущения японцев, она в
несколько иной форме
прослеживается и в наши дни. Причем
если в Индии в центре
мифологического сознания
находится вселенная, в Китае —
семья, которая сама по себе «может
быть вселенной» [192, с. 139], то, на наш
взгляд, в центре японского
мифологического сознания можно
обнаружить государство,
естественно воспринимаемое по
правилам мифомышления. Смысл
такого понимания государства можно
передать лишь мифологическими
средствами, что мы и наблюдаем при
изложении главной мифологемы — «кокутай».
Это кардинальное понятие
националистической идеологии
Японии потому и не поддается
однозначному переводу, что
обладает исключительной
мифологической емкостью, оно
непосредственно причастно
конкретному бытию японского
государства.
На уровне
политической культуры
мифологическая концепция бытия
предопределила сохранение
института императорской власти,
связанного с государственным
религиозно-ритуальным комплексом
синтоизма и с «вторичной» (государственной)
мифологией сакральных генеалогий.
В те периоды, когда перед Японией
вставали задачи создания
стабильного централизованного
государства, интеграция оказывалась
осуществимой лишь на основе
квазиобщинного принципа.
Постепенно своеобразие
исторического развития страны
способствовало превращению
института императорской власти в
сакральный символ государства, в
модель идеальной структуры власти,
согласно которой управление
осуществляется не грубой силой, а
при помощи морального авторитета,
убеждением и патерналистской
благожелательностью. Такое
управление, построенное по схеме отношений
между верующими и «ками», должно
было в идеале вызывать у
управляемых внутреннюю
потребность ответного
благодарного и беззаветного
служения.
Тот факт,
что в течение длительного времени
средневековья социальное
значение института императорской
власти определялось прежде всего
религиозным престижем тэнно как
верховного священнослужителя
синтоистских обрядов, привел к
утверждению в политической
культуре традиции, когда
номинальный глава иерархии не
обладал реальной властью; он
воспринимался как духовная
харизматическая сила,
осуществлявшая власть через
моральный долг, а фактическая
верховная власть (сегуны) опиралась
на разветвленный
административный аппарат
принуждения.
Институт
императорской власти стал служить
для узаконения власти реальных
правителей, при этом основой для
сохранения сакральной
императорской власти в
средневековой Японии служила
устойчивость традиционной социальной
структуры.
Это не
означало, что политическая система
не менялась, она, конечно, и
менялась, и усложнялась, но
происходил эволюционный процесс
трансформации традиций, что вообще
характерно для развития японской
культуры. Новые элементы всегда
лишь добавлялись к старой
структуре, но никогда не разрушали
ее. Постепенно новые элементы,
видоизменявшиеся по мере
приспособления к старой структуре,
вызывали и перестройку всей
системы. Эволюционный характер
трансформаций очень хорошо
прослеживается на примере истории
императорской власти, крайний
консерватизм которой
диалектически уживается с
поразительным умением
приспособиться к самым разным
переменам.
Итак,
неизменным фактором, обусловившим
сохранение сакральной
императорской власти, можно
считать то, что идеологическая
власть над всем японским обществом
не могла осуществляться без
единого ритуально-мифологического
комплекса синтоизма.
Приблизительно
с XVII в. наблюдается формирование
национального самосознания
японцев, сначала — в среде
ограниченного круга
представителей образованной элиты.
Всем этноцентрическим
общественным доктринам этого
периода свойственны представление
об императоре как «священном»
символе национального коллектива,
особая мифологичность в осмыслении
задач японской нации и тех
элементов, что делают ее единым
целым. Наиболее откровенно такой
подход к проблемам формировавшейся
нации проявляли мыслители и ученые
школы «национальной науки» (кокугакуха).
Они обращались непосредственно к
текстам классической мифологии, к
древней литературе, воссоздавая
на основе архаической
мифологической системы преобразованную
националистическую мифологию, где
главным символом единения
естественно оказывался сакральный
тэнно.
В таком
трансформированном виде и начинает
существовать мифология японской
нации, воплощением которой в
неразрывном единстве чувственного
и духовного (свойство
мифомышления) предстает император.
Но поскольку к этому времени миф
уже не единственная форма мировосприятия,
на мифологические по своей
структуре элементы, составляющие
корпус национального сознания,
причудливо переплетаясь,
наслаиваются чисто идеологические
элементы самого разного
происхождения: тут прежде всего
конфуцианское рациональное
морализаторство, уживающееся с
иррациональной природой
синтоистских мифологем, и
буддийское и даосское чужеземное
наследие, переплавленное в ровном
огне национальных традиций, —
словом, весь духовный комплекс
национальной культуры, но в им-ператороцентристской
редакции. В работах «императорских
лоялистов» периода Токугава
император предстает как «священный»
символ, почитание которого
рассматривалось как необходимое
условие благополучия государства.
Довольно
стремительный процесс
формирования национального
самосознания не сопровождался
параллельным обособлением
личности. Наблюдался
преимущественно повышенный
интерес к внутреннему миру нации,
граничивший с националистическим
нарциссизмом. Для теории национального
спасения было характерно
утверждение самоценности японской
нации при умалении значения
отдельных ее членов вне задач
нации. И такой перекос в оценках
общественного и личного,
генетически связанный с традиционными
нормами поведения индивида в
обществе, восходящими к общинным
формам социальной организации (а
при столкновении с угрозой
превращения Японии в зависимую от
западных держав полуколонию
превратившийся в условие выживания
всего национального организма), на
долгие годы определил систему
социальных ориентации в Японии.
Существовавшая
до этого иерархическая система
обязательств, опиравшаяся на
главную социальную идею синтоизма
— о «священном» долге, обязанности
отплачивать за благодеяния
вышестоящему (по аналогии с долгом
перед «камшнпокровителями),
начинает складываться в единую
систему моральных обязательств,
где главным провозглашается «священный»
и неоплатный долг перед
государством, персонифицируемым в
лице, императора. Другими словами,
вырабатывавшиеся веками морально-этические
нормы повиновения старшим и
преданности вышестоящим через религиозное
почитание императора, которое
опиралось на мифологическое
синтоистское сознание, должны были
сплотить нацию в единое целое,
развить у японцев чувство причастности
к национальной общности на основе
лояльности по отношению к
государству. Коллективные цели,
занимавшие центральное место в
традиционной системе ориентации,
идеологи национального спасения
последних лет правления сёгуната
Токугава трактовали на уровне
национальной общности, которая, по
их представлению, могла
складываться по модели «иерархической
общины», возглавлявшейся сакральным
императором.
Незавершенная
буржуазная революция Мэйдзи не
случайно оказалась неотделимой от
реставрации императорской власти.
Для успешной пропаганды
национального единства, обеспечения
целостности государства правящие
круги воспользовались всем
предшествующим опытом и прибегли к
конструированию доктрины
государственного национализма в
форме идеологии тэнноизма.
Центральным компонентом понятия
государственно-национального
единства провозглашалась
синтоистская идея «божественного»
происхождения императора. Таким
образом, мэйдзийское правительство
взяло на вооружение уже в
достаточной мере разработанные
оппозиционными сёгунату
идеологами тэнноист-ские
построения, уходившие своими
корнями в классическую японскую
мифологию «Кодзики» и «Нихон секи»
и опиравшиеся на традиционные
морально-нравственные
представления, добавив лишь
формальные завершающие штрихи к их
унификации в единую мифолого-идеологиче-скую
систему. На основе синто была
создана политическая религия,
обслуживавшая культ императора,
провозглашавшегося «живым богом».
Перестройка
производства на капиталистический
лад не сопровождалась в Японии
модернизацией морально этических
установок, напротив,
господствующие классы сознательно
и целенаправленно сохраняли и
укрепляли традиционные принципы
социальной организации коллектива,
стремясь повысить эффективность
капиталистического производства.
Это выражалось в том, что при
создании капиталистических
промышленных предприятий именно
патриархальная семья-клан,
крестьянская община служили прототипом
взаимоотношений между хозяевами и
работниками. Патерналистские
отношения до такой степени
пронизали новые капиталистические
связи в обществе, что существенно
замедлили вызревание самосознания
угнетенных классов и слоев, включая
японский пролетариат. Так
сложилась парадоксальная ситуация,
когда традиционные, добуржуазные
ценности не только оказались
совместимыми с развитием капитализма,
но и были активно использованы для
его ускорения.
Искусно
выстроенная лидерами Мэйдзи
императорская система может
рассматриваться, согласно
определению Р. Белла, как «проекция
идеального образца коллективной
жизни на всю нацию в целом». Р. Белла
также совершенно справедливо
указывает, что, хотя императорской
системе на деле «никогда не
удавалось преодолеть серьезные
трения и фракционную враждебность,
она смогла выступить как символ
глубокого единства японского
народа, общества и культуры» [164, с.
592].
Государственно-националистическая
идеология тэнноизма, ориентируясь
на вышеописанные особенности
культурно-психологического
климата, сумела сохранить
изначально присущую синтоистской
мифологии недифференцирован-ность
различных областей духовной жизни,
провозгласив единство веры,
государственно-правовых
установлений, политических форм
культуры, а также образования.
Ценностная
система тэнноизма опиралась на «концентрическую
идеологию», обеспечивавшую
воспроизводство мировоззрения,
согласно которому индивид
оказывается в центре комплекса
всеобъемлющих общественных
взаимоотношений, которые могут
быть представлены серией концентрических
кругов. Самый маленький круг
представлен домом, или семьей,
самый большой соответствует
государству, а промежуточные круги
— различным уровням общественных
групп, в которые входит индивид.
Индивид до такой степени
оказывался поглощенным этой
связкой кругов, что его
индивидуальная идентичность
практически не просматривалась.
На верхушку конуса, основанием
которого служил самый большой круг,
ценностная система тэнноизма помещала
императора; степень приближенности
к последнему определяла и иерархию
положения в обществе [81, с. 20— 21].
В
результате тэнноистского
воспитания японец должен был
относиться к своей нации в целом
как к семье и испытывать чувство
благодарности и долга по отношению
к ней. Олицетворением нации
выступал в системе
государственного мифа император,
правивший как «отец» нации и как
высший духовный глава —
священнослужитель
государственного культа. Служение
императору, а также преданность
особой миссии японцев по
распространению власти «божественного»
императора на весь мир стали
психологическим фундаментом
национального самосознания
японцев.
Если в
период Мэйдзи (1868—1912), можно
признать, идеология тэнноизма
была довольно эффективной в силу
искусного использования
господствующими кругами
ценностных ориентации общинно-группового
характера, фактически регулировавших
поведение индивидов и групп в
Японии того времени, то по мере
развития капитализма сфера влияния
этой идеологии начинает сужаться.
Для
поддержания эффективности
идеологии государственного
национализма в Японии 1920-х годов
были возможны три пути: либо, как
полагали наиболее демократично
настроенные буржуазные идеологи,
пересмотреть всю структуру
тэнноизма, либо продолжать
совершенствовать отживающую,
старую, что неминуемо должно было
дополняться ужесточением системы
подавления, либо, как считали сторонники
ультранационализма, внести в
тэнноизм откровенно
террористические, фашистские
элементы. После бурной борьбы
между сторонниками этих трех
направлений был избран
компромиссный путь преодоления
кризисной ситуации, тяготевший ко
второму варианту.
По мере
усугубления авторитарных
тенденций в управлении обществом
в связи с агрессивным курсом
правительства в 30-е годы японский
государственный миф становился
все более тоталитарным, наполнялся
все более враждебным человеку и
человечеству содержанием. Естественной
развязкой такого порядка мог быть
только крах сложившейся системы.
Прошло
почти 45 лет после капитуляции
милитаристской Японии. Социально-экономический
облик страны кардинально
изменился. Но и сегодня институт
императорской власти — органичный
элемент японской действительности.
Тэнноистская
идеология в ее усовершенствованном
варианте используется для
обоснования таких социально-мифологических
комплексов, как «предприятие —
одна семья», «человек, преданный
компании», «коллективизм по-японски»,
и других элементов патернализма.
Базой формирования единого
национального психотипа по-прежнему
остаются исконные, древние
традиции политической культуры в
виде апелляции к идеологическим
возможностям «символической
императорской системы» для
консолидации нации. Но в отличие
от довоенного периода «символический»
статус императора позволяет ему
более плодотворно служить
хранителем традиционных ценностей
жизни японского образа.
В связи с
экономическими успехами Японии и
стремлением ее лидеров к
превращению страны в мировую
державу наблюдается рост
националистических настроений
среди самых широких масс населения,
что позволяет правящему классу
прибегнуть к разработке и
пропаганде официальной доктрины
национализма (включающей в значительной
мере и элементы тэнноизма).
Необходимо подчеркнуть, однако,
что эта доктрина не носит
агрессивного, экспансионистского
характера.
Система
тэнноизма характеризуется в
послевоенное время усложненной
структурой. Как указывают многие
японские исследователи «символической»
монархии, идеологии императорской
системы придана «многослойная» (дзюсо
кодзо), или «мягкая» (ню кодзо),
структура (см., например, [199,1986, N 4, с.
59]), которая открывает возможность
распространять эту идеологию и
среди слоев, сохраняющих «старое»
сознание времен конституции Мэйдзи,
и среди более молодых поколений,
склонных рассматривать императорский
строй лишь как культурное
достояние или определенного рода «национальное
сокровище».
Что же
позволяет консерваторам не только
сохранить императорскую систему,
которая, казалось бы, была на грани
неминуемого краха в первый
послевоенный период и
расценивалась многими ее
исследователями лишь как
свидетельство отсталости
японского общества, но даже вновь
придать ей с 60-х годов политическую
и идеологическую значимость? В чем
причина такой парадоксальной
живучести японского монархизма?
Дело в том, как нам представляется,
что именно обновленный тэнноизм
дает возможность использовать в
интересах стабильного существования
буржуазии те особенности
национальной политической
культуры и социальной психологии,
которые культивировались
властями на протяжении веков.
Социально-психологические
предпосылки для распространения
политических мифов несколько
осовремененной императорской
системы сохраняются и в
сегодняшней Японии.
Хотя
массовое сознание японцев после
поражения в войне претерпело
значительные изменения в условиях
капиталистической трансформации
общественной структуры и под
воздействием широкого влияния
западной культуры, все же рано
говорить о радикальных
мировоззренческих сдвигах у
рядового японца, сознание которого
хранит еще множество традиционных
социопсихологических установок.
Ощущаются и неизжитые пока
долговременные последствия интенсивной
довоенной тэнноистской обработки
населения. Сказывается также
сохранение патернализма в
различных сферах общественной
жизни, прежде всего в трудовых
отношениях. Все это делает массовое
сознание современных японцев
питательной почвой для
распространения новой мифологической
символики императорского культа.
Соединение
в тэнноистской пропаганде
синтоистских способов приобщения
индивида к социальной среде со
строгой иерархической системой
обязательств на основе конфуцианских
принципов, доведенных до крайней
степени догматизма, заставляло
работать механизм лояльности до 1945
г. Но и сегодня своеобразный
коллективизм продолжает оста-
ваться важнейшей чертой японского
национального характера, что
позволяет завести пружину
механизма тэнноист-ской
идеологической системы, когда
сильная потребность в
идентификации с общностью
переводится официальной
пропагандой в плоскость
мифологической идентификации с
нацией, персонифицируемой в
императоре-символе. Если довоенный
тэнноизм зиждился на полной
сакрализации государственной
власти, а целостность «государства-семьи»
гарантировалась признававшейся
обязательной верой в установки
государственного синтоизма, то,
согласно концепциям «символического»
тэнноизма, главным фактором,
скрепляющим нацию,
провозглашается общность культуры,
а религия приобретает все более
секуляризированный вид традиции,
ей отводится второстепенная роль.
Мы, конечно, не должны упускать при
этом из виду, что, хотя религиозно-мировоззренческая
подоплека идеологических
установок современного тэнноизма
не бросается в глаза, политическое
мифотворчество официальных
идеологов по-прежнему опирается
на то или иное истолкование
символов традиционной
синтоистской мифологии.
Важность
раскрытия психологических основ
тэнноистской идеологии четко
аргументирует христианский
деятель антимонархического
движения Сигэо Кувахара. Он
обращает внимание читателей на
сохраняющуюся «религиозную власть»
императорской системы,
базирующуюся, по его определению,
на особой «религиозности»,
связанной с формированием
национального самосознания в
процессе идентификации японца с
этнической общностью [80, с. 274, 278].
Эта «религиозность»
мифологического сознания реализуется
во время ритуалов тэнноистского
культа в чувстве удовлетворения и
духовной наполненности, когда
участнику ритуала кажется, что он
обрел внутренние ориентиры,
внутреннюю свободу.
«Новые»,
скорректированные в соответствии с
велением времени,
националистические идеалы, хотя и
имеют внешне светский вид, по-прежнему
во многом опираются на культурно-религиозные
понятия довоенного тэнноизма.
Институт императорской власти все
еще имеет ореол «святости» в глазах
определенных слоев населения.
Другими словами, массовое сознание
в современной Японии в
значительной мере остается
восприимчивым к мифологической
символике императорского культа.
Император выполняет функцию
пассивного духовного-психологического
символа, хранителя нравственных и
религиозных ценностей нации.
Активизация
правительственных инициатив по
пропаганде националистических
установок с начала 80-х годов вновь
сопровождается использованием
мобилизующей силы синтоистского
по форме ритуала с его ориентацией
на мистицизм для культивирования
у японцев чувства уникальной
этничности. Эти ритуалы по-прежнему
призваны обеспечивать
бессознательное восприятие
националистических стереотипов.
Японская
культура, согласно современным
идеологам тэнноизма, трактуется
как надличностный дух, а хранителем
этого духа выступает император как
духовный глава нации. В условиях
видоизменения религии единодушная
моральная солидарность общества
должна обеспечиваться на основе не
столько религиозного переживания,
сколько эстетического,
преследующего ту же цель развития
чувства общности у японцев.
Культура Японии, хранителем
которой провозглашается
император, служит фундаментом для
возрождения чувства
сотоварищества и общности. Сегодня
мы наблюдаем создание утонченной,
«культурной» разновидности современного
государственного мифа Японии.
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава I
1 Мито
гакуха возникла в XVII в. в княжестве
Мито. Основателем школы считается
князь Мицукуни Токугава (1628—1700).
Идеи ученых «школы Мито» легли в
основу идеологии антисёгунского
движения, проходившего под
лозунгом «сонно дзёи» — «почитание
императора — изгнание варваров».
2 Ямато —
древнее название Японии. «Ямато
дамасии» употребляется в ранней
националистической литературе в
качестве эквивалента «японского
духа». Подробно об истории этого
термина см. [23, с. 120—191].
3 «Мацури»
— синтоистский обряд в широком
смысле слова, синтоистский
праздник. Земледельческие «мацури»
составляют сердцевину
синтоистской обрядности.
4 Перевод Г.Е.
Светлова. Он указывает также, что
термин «тэнно» заимствован из
древнекитайской мифологии. Так в
даосских сказаниях именовались
небесные владыки [42, с. 27].
5 Полное
название уложения — «Сётоку тайси-но
17 дзё-но кэмпо» («Сем-надцатистатейное
уложение наследного принца Сётоку»).
6 Согласно
принятой в японской исторической
литературе периодизации, это
период, когда столица Японии
располагалась в г. Нара.
7 Хэйан —
древняя столица Японии (ныне г.
Киото).
8 В г.
Камакура было расположено
правительство пришедшего к власти
дома Минамото.
9
Конфуцианский принцип, смысл
которого можно передать лишь описательно.
В идеологии императорского культа
— это строгое следование
подданного своему главному долгу —
почитанию монарха, а также соблюдение
своего места в иерархической
структуре общества. Буквально — «великий
долг — именная доля».
10 Одна из
школ синтоизма, сложившаяся в XIII—XIV
вв., каноном которой считается «Пятикнижие
синто» («Синто гобусё»).
11 Этот
период, когда во главе сёгуната
стояли военачальники из дома
Асикага, часто именуется в японской
литературе также «сёгунат Муромати»
— по названию квартала в г. Киото,
где размещалось правительство-бакуфу.
Относительно датировки сёгуната
Асикага у ученых нет единого мнения.
Наиболее приемлемой, с нашей точки
зрения, является датировка 1336—1568
гг.
12
Подробнее о ней см. гл. 2.
13 Коку —
мера объема. Один коку равен 180,391 л,
или примерно 150 кг риса.
14 Один из
синтоистских текстов. Г.И.
Подпалова называет его «священной»
синтоистской книгой [35, с. 171].
15 Учение
Конфуция в толковании китайского
неоконфуцианца Чжу Си (XI! в.).
Чжусианство (по-японски — сюсигаку)
получило статус официальной
идеологии в Японии в период
развитого феодализма.
16
Сохранились лишь отдельные
фрагменты этого документа,
основная часть сгорела во время
пожара.
17 «Пять
великих этических отношений» (или «пять
правильных отношений») —
отношения между правителем и
подданным, между старшими и
младшими братьями и сестрами, между
друзьями.
18 Мэйдзи («просвещенное
правление») — девиз годов
правления (1868— 1912) императора
Муцухито, а также его посмертное
имя.
Глава 2
1 В
советской литературе обычно
переводится как «государственный
строй», «государственное
устройство».
2 Об
исключительной емкости понятия «кокутай»
можно судить по тому, что
опубликованная в 1937 г.
министерством просвещения брошюра
«Ко-кутай-но хонги» («Основные
принципы кокутай» (целиком
посвящена официальной трактовке
содержания этого термина. Наиболее
краткая формулировка «кокутай»
содержится в официальной брошюре «Размышления
по поводу новой конституции 1946 г.».
В ней значение «кокутай» интерпретируется
как «основные характеристики нации»,
«основа существования нации,
объединяемой благоговением народа
перед императором» [173, с. 198].
3 Хотя в
Японии эпохи Мэйдзи полное
единство государства и религии
было невозможно, в официальной
идеологии этот принцип провозглашался
как неотъемлемая особенность
функционирования государственного
механизма страны.
4 «Магокоро»
— сердце, которое, следуя своим
желаниям, в то же время не нарушает
моральные установления [173, с. 100].
5 Говоря о
непокоренных им еще землях на
востоке Японских островов,
император Дзимму, согласно «Нихон
секи», воскликнул: «Я думаю, что эти
земли, без сомнения, подходят для
того, чтобы оттуда продолжать
распространение императорской
власти, заполнить ее светом всю
вселенную» [183, с. 77].
6 Тоёукэ («бог
обильной пищи») — объект культа в
святилище «гэку» в храмовом
комплексе Исэ.
8 Еще в
9 Камбун (по-китайски
«вэньянь») — древнекитайский
письменный язык, ставший с XIII в.
официальным в Японии.
10 Он был
основателем общенационального
журнала «Кокумин-но томо» («Друг
народа»), отстаивавшего передовые
общественные идеалы «движения
простого народа» (хэймин ундо).
11 Букв. «принципы
простого народа». В современных
словарях трактуются как «демократия».
12 Из этого
общества вышли многие ведущие
идеологи рабочего движения [174, с. 288].
13 Так в
японской литературе обозначается
движение прогрессивных сил за
демократизацию общества в эпоху
правления императора Тайсё (1912—1926).
14 В 30-е
годы в результате борьбы за власть
в армии сложились две
противостоявшие друг другу
группировки — «Кодоха» и «Тосэйха»
(«Группа контроля»). Первая,
возглавлявшаяся генералами Араки и
Мадзаки, опиралась в основном на
помещичьи круги и представителей «новых
концернов», а в армии — на «молодое
офицерство» и выступала за
осуществление программы «императорского
пути», под которой подразумевались
идеи Икки Кита о «государственном
социализме, основанном на культе
императора». Эта группировка
занимала оппозиционное положение к
стоявшим у власти.
В начале 30-х
годов «Группа императорского пути»
сумела на время захватить ряд
важных постов в государственном
аппарате. К
После
подавления мятежа «Группы
императорского пути» 26 февраля 1936 г.
доминирующую роль в политической
жизни стали играть военно-бюрократические
группировки во главе с «Тосэйха».
15 С
середины периода Мэйдзи ритуал «гэнсисай»
превратился в крупномасштабную церемонию,
длившуюся около пяти часов
[97, с. 40].
16 «Каннамэсай»
справлялся во внутреннем храме (найку)
в Исэ.
Глава 3
1
Выступление императора Хирохито по
радио 1 января
2
Прогрессивный японский
исследователь тэнноиэма Кадэуо
Хидэиката отмечает
националистический аспект этой
теории, заключающийся в активном
восхвалении «великой
экономической Японии» и в
подчеркивании «достоинств
великого народа» и «отваги нации» [154,
с. 79],
3
Хризантема с двойным рядом, из
шестнадцати лепестков каждый, была
официально утверждена как эмблема
японского императора в 1889г., но
историки свидетельствуют, что
первое появление «императорской
хризантемы» относится к правлению
императора Готоба (1183—1198) [169, с. 7].
4 В японо-русских
словарях слово «исин-дэнсин»
обычно переводится как «телепатия»,
но японские авторы трактуют
принцип «исин-дэнсин» как
иррациональную, мистическую
способность японцев передавать и
усваивать интуитивно, «от души к
душе» сокровенный смысл информации,
передаваемой невербальным путем (см.
[2, с. 111]).
5 Период
Сева продолжался с 1926 по 1989 г.
Соответственно в данном случае
речь идет о 1965—1975 гг. Накасонэ
непременно пользовался в своих
публичных выступлениях
летосчислением по системе «гэнго»,
демонстрируя таким образом свою
приверженность монархизму и
традиционализму.
6 «Дзёмон»
— древнейшая археологическая
культура Японии, именуемая по
названию веревочного орнамента
керамики, типичного для этого
периода.
7 «Моно-но
аварэ» («очарование вещей») —
литературный и эстетический
принцип, получивший наиболее
полное развитие в период Хэйан (794—
1185). «„Моно-но-аварэ", — пишет Т.П.
Григорьева, — одно из наиболее
ранних в японской литературе
определений прекрасного, оно
связано с синтоистской верой в то,
что в каждой вещи свое неповторимое
очарование» [14, с. 350].
8 «Гири-ниндзё»
(«долг — человеческие чувства») —
система человеческих отношений, в
идеале сливающая мир долговых
обязательств и сферу чувств в
гармоничное целое. Эта система
основана на взаимном чувстве
признательности и благодарности
при выполнении долга.
9
Разумеется, когда речь идет о 70—80-х
годах, можно говорить главным
образом о восхищении, почтении, но
никак не о религиозном преклонении.
Согласно опросу, проведенному в
январе
10 Имеется
в виду вызвавшее сенсацию
заявление в декабре 1988 г. мэра
Нагасаки Китоси Мотосима о том, что
император мог предотвратить
атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки, если бы он раньше
использовал свое влияние для того,
чтобы положить конец войне. Впервые
бывший офицер императорской армии,
член ЛДП, занимающий такой заметный
государственный пост, осмелился
сделать подобное заявление. (Подробно
об этом см. «Шпигель» за 6 февраля 1989
г., где помещено интервью с мэром
Нагасаки.) Реакция на это событие
была очень показательна — правые
открыто угрожали Мотосима
физической расправой, ЛДП
распорядилась, чтобы
дисциплинарная комиссия партии «изучила»
заявление мэра в качестве
подготовки к возможному решению о
его исключении из партии, а более 80%
телефонных звонков и почты,
поступивших в муниципалитет
Нагасаки по поводу этого
выступления, содержали одобрение
позиции Мотосима.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Справочные
издания
1. Мифы
народов мира. М., 1980, т. 1—2.
2. Кодэиэн (Толковый
словарь). Токио, 1980.
3. Кокуси
дайдзитэн (Большая историческая
энциклопедия Японии). Токио, 1983.
4. Нэндзю гёдзи
дзитэн (Энциклопедия японских
праздников). Токио, 1959.
5. Синто
дайдзитэн (Энциклопедия синто). Т. 1—2,
Токио, 1939.
6. Вiographical
Dictionary of the Japanese History. N.У., 1982.
7. Kodansha
Encyclopedia of Japan. Vо1. 1—9. Тоkуо, 1983.
8. Рарinot Е.
Historical and Geographical Dictionary of
Монографии,
статьи
9. Белоусов
Я. П. Праздники старые и новые (Некоторые
философские аспекты проблемы
празднования). Алма-Ата, 1974.
10. Бугаева
Д.П. Японские публицисты конца XIX в.
М., 1978.
11..Воробьев
М.В. Япония в III—VII вв. М., 1980.
12. Гейн М.
Японский дневник. М., 1951.
13.Герни О.
Р. Хетты. М., 1987.
14.
Григорьева Т.П. Японская
художественная традиция. М., 1979.
15.
Гришелева Л. Д. Формирование
японской национальной культуры (конец
XVI — начало XX века). М., 1986.
16.
Гришелева Л. Д., Чегодарь Н.И. Культура
послевоенной Японии. М., 1981.
17. Губер А.А.,
Ким Г. Ф., Хейфец А.Н. Новая история
стран Азии и Африки. М., 1975.
18. Долин А.А.
«Заветы» Мисима Юкио. —
Идеологическая борьба и
современные литературы
зарубежного Востока. М., 1977.
19. Иванова
Г.Д. «Дело об оскорблении трона». М.,
1972.
20.
Идеологические процессы и массовое
сознание в развивающихся странах
Азии и Африки. М., 1984.
21. И снова
Ю.В. Обряды, обычаи и их социальные
функции в Корее (середина XIX —
начало XX в.). М., 1986.
22. Изнага
Сабуро. История японской культуры.
М., 1972.
23. Кодзаи
Ёсисигз. Современная философия.
Заметки о «духе Ямато». М., 1974.
24. Конрад Н.И.
Избранные труды. История. М., 1974.
25. Конрад Н.И.
Очерк истории культуры
средневековой Японии. М., 1980.
26.
Кузнецов Ю.Д. Социально-классовая
структура современной Японии. М., 1983.
27. Курицын
А.Н. Управление в Японии.
Организация и методы. М., 1981.
28. Латышев
И. А. Внутренняя политика японского
империализма накануне войны на
Тихом океане. М., 1955.
29. Латышев
П.А. Конституционный вопрос в
послевоенной Японии. М., 1959.
30. Латышев
И.А. Роль императора в системе
господства правящих кругов Японии.
— Правящие круги Японии: механизм
господства. М., 1984.
31.Лещенко
Н.Ф. «Революция Мэйдзи» в работах
японских историков-марксистов. М.,
1984.
32.
Мещеряков А.Н. Древняя Япония:
буддизм и синтоизм (VI—VIII вв.). М., 1987.
33.
Нанивская В. Т. Система «морального
воспитания» в японской школе.
Диссертация на соискание степени
кандидата исторических наук. М., 1983.
34. Оэ
Кзндзабуро. Обращаюсь к
современникам: художественная
публицистика. М., 1987.
35.
Подпалова Г.И. Крестьянское
петиционное движение в Японии. М.,
1960.
36. Попов К.А.
Тайхорё. Законодательные акты
средневековой Японии. М., 1984 г.
37.
Поспелов Б.В. Очерки философии и
социологии современной Японии. М.,
1974.
38.
Программные документы
коммунистических партий Востока. М.,
1934.
39. Радуль-Затуловский
Я. Б. Конфуцианство и его
распространение в Японии. М.—Л., 1947.
40.
Развивающиеся страны в современном
мире. Единство и многообразие. М„
1983.
41.
Развивающиеся страны в современном
мире: пути революционного процесса.
М., 1947.
42. Светлов
Г.Е. Путь богов (синто в истории
Японии). М., 1985.
43.
Соловьев Н.П., Михалев А.А.
Философские взгляды Мики Киёси и
общественная мысль в Японии (в
конце 20-х — начале 30-х годов). М., 1975.
44. Тосака
Дзюн. Японская идеология. М., 1982.
45. Тзрнер В.
Символ и ритуал. М., 1983.
46. Человек
и мир в японской культуре. М., 1985.
47. Чугров С.
В. Влияние националистических
стереотипов на формирование
общественного мнения Японии (к
истории вопроса 1964—1974 гг.).
Автореферат диссертации на
соискание степени кандидата
исторических наук. М., 1976.
48.
Щетинина Е.В. Либерально-буржуазная
интеллигенция и формирование
идеологии экспансионизма в Японии (вторая
половина XIX в.). — Народы Азии и
Африки. 1985, N 1, с. 34—42.
49.
Эволюция восточных обществ: синтез
традиционного и современного. М., 1984.
50.
Японский милитаризм. М., 1972.
51.Абэ
Хиросуми. Нихон фасидзуму кэнкю
дэёсэцу (Введение в изучение
японского фашизма). Токио, 1975.
52. Бунка-но
дзидай. Охира сори-но сэйсаку
кэнкюкай хококусё (Эпохи культуры.
Доклады Комиссии по изучению
политических проблем при премьер-министре
Охира). Токио, 1980.
53.
Вакамори Тара. Тэнносэй-но рэкиси
синри (История и психология
императорской системы). Токио, 1973.
54. Гэнго-о
кангаэру (Размышления о «гэнго»).
Токио, 1977.
55. Гэндай
си сире (Материалы по современной
истории). Т. 23. Кн. 3. Токио, 1974.
56. Дзёсэй
то тэнносэй (Женщины и
императорская система). Токио, 1979.
57. Дои
Такзо. Амаэ-но кодзо (Структура амаэ).
Токио, 1974.
58. Ензяма
Тосинао. Нихондэин-но накама исики (Групповое
сознание японца). Токио, 1977.
59. Есида
Тёдзо. Син тэннорон. Кику-но катэн-о
хираку (Новая трактовка вопроса об
императоре. За занавесом
хризантемы). Токио, 1952.
60. Иваи
Тадакума. Дайдэёсай фуккацу то
сюкусай сэнряку (Предложение о
возрождении «дайдэёсай» и
стратегия праздников). — Бунка
хёрон. 1985, N 10.
61.Иида
Момо. Надзэ тэнносэй ка? (Почему
императорская система?). Токио, 1976.
62. Иида
Момо. Хирохито-но акай боси. Гэндай
уёку то сётё тэнно (Красная шляпа
Хирохито. Современные правые и
император-символ). Токио, 1977.
63. Иноуз
Киёси. Тэнно-но сэнсо сэкинин (Ответственность
императора за развязывание войны).
Токио, 1976.
64. Иноуз
Киёси. Тэнносэй (Императорская
система). Токио. 1953.
65. Иноуз
Мицусада. Нихон кокка-но кигэн (Происхождение
японского государства). Токио, 1960.
66. Иноуз
Тзцудзиро. Нихон сэйсин-но хонсицу (Сущность
японского духа). Токио, 1936.
67. Иноуз
Тзцудзиро. Тёкуго эиги (Разъяснения
к рескрипту). — Кёику тёкуго
кампацу канхэй сирёсю (Собрание
материалов, касающихся
провозглашения рескрипта об
образовании). Токио, 1939.
68. Исида
Кзйсукз. Сэнго-но тэнно ёгорон (Послевоенные
теории в защиту императора). Токио,
1970.
69. Исидо
Киётомо. Тэнносэй мондай кайсэцу-но
каги (Ключ к пониманию проблемы
императорской системы).— Асахи
дэянару. 1976, т. 18, N 33.
70.
Кавамура Нодзому. Идэороги-то-ситэ-но
«нихон бунка» рон (Концепция «японской
культуры» как идеологии). - Нихон
кагакуся. 1981, т 16 N6.
71. Каваути
Масаоми. Тэнно то сэкай хэйва (Император
и всеобщий мир). Токио, 1976.
72.
Камисима Дзиро. Тэнносэй-но сэйдзи
кодзо (Политическая структура
императорской системы). Токио, 1978.
73. Камзи
Сюнсукз. Амэрика-но кокоро. Нихон-но
кокоро(Душа Америки. Душа Японии).
Токио, 1975.
74. Катиона
Кзйдзи. Ниходзин-но кокоро-но надэо
(Загадка японской души). Токио, 1976.
75.
Кигэнсэцу мондай (Проблемы «кигэнсэцу»).
Токио, 1967.
76.
Кинугаса Ясуки. Бакухан сэйка-но
тэнно то бакуфу (Император и
сёгунат в условиях системы «бакухан»).
— Тэнносэй то минею (Императорская
система и народные массы). Токио, 1976.
77.
Китайсарэру нингэндзо (Желательный
образ человека). Токио, 1967.
78. Кокумин
бунка то минею бунка (Народная
культура и массовая культура). —
Кодза нихон си (Лекции по японской
истории). Токио. Т. 6, 1970.
79. Кояма
Хиротакз, Асада Мицутзру. Тэнносэй
кокка ронсо: нихон тэйкокусюги то
фасидзуму (Полемика о государстве
императорской системы: японский
империализм и фашизм). Токио, 1971.
80.
Кувахара Сигзо. Има тэнносэй то
ясукуни мондай-о мэгуттэ (По поводу
проблемы императорской системы и
храма Ясукуни). — Тэнносэй то нихон
сюкё (Императорская система и
японская религия). Токио, 1985.
81. Маруяма
Масао. Тёкоккасюги-но ронри то
синри (Логика и психология
ультранационалиэма). — Гэидай
сэйдзи-но сисо то кодо (Современная
политическая идеология и поведение).
Токио, 1964.
82. Маруяма
Тзруо. Сётё тэнносюги хихан (Критика
символического тэн-ноизма). Токио,
1973.
83. Масуда
Кацуми. Кадзан рэтто-но сисо (Идеология
архипелага вулканов). Токио, 1968.
84.
Мацудзава Тзцунари. Адэиасюги то
фасидэуму. Тэнно тэйкокурон хихан (Паназиатизм
и фашизм. Критика доктрины
тэнноистской империи). Токио, 1979.
85. Мацуо
Такзтору. Кокумин то кигэнсэцу (Народ
и «кигэнсэцу»). — Нихон-но кэнкоку (Возникновение
государства в Японии). Токио, 1966.
86. Мацуура
Содзо. Тэнно то масукоми (Император
и средства массовой информации).
Токио, 1976.
87. Минобз
Тацукити. Гикай сэйдэи-но кэнто (Изучение
парламентаризма). Токио, 1935.
88. Минобз
Тацукити. Тикудзё кэмпо сэйги (Постатейный
комментарий к конституции). Токио,
1927.
89. Минсю-но
нака-но тэнносэй (Императорская
система и народные массы). Осака,
1979.
90. Мисима
Юкио. Бунка боэйрон (В защиту культуры).
Токио, 1969.
91.
Миядзаки Итисада. Тэнно-нару сёмё-но
мосики-ни цуитэ (О молитвах,
обращенных к императору). — Сисо. 1978,
N 4.
92. Миядзи
Масахито. Хандока-ни окэру ясукуни
мондай-но ити (Место проблемы храма
Ясукуни в процессе усиления
реакции). — Сэнго си то хандо
идэороги (Послевоенная история и
реакционная идеология). Токио, 1981.
93. Мориока
Киёси. Гэндай сякай-но минею то сюкё
(Народные массы и религия в
современном обществе). Токио, 1975.
94. Мария
Фумио. Тэнносэй кэнкю (Исследование
императорской системы). Токио, 1980.
95. Мурака
ми Сигзёси. Ирэй то сёкон. Ясукуни-но
сисо (Поминовение и вызов душ
умерших. Идеология храма Ясукуни).
Токио, 1974.
96.
Мураками Сигзёси. Киндай тэнносэй-но
сюкё-тэки кино (Религиозные функции
императорской системы в новейшее
время). — Хогаку сэмина. 1977, N 1.
97.
Мураками Сигзёси. Кокка синто (Государственный
синтоизм). Токио, 1970.
98.
Мураками Сигзёси. Тэнно-но сайси (Богослужения,
совершаемые императором). Токио,
1977.
99.
Мураками Сигзёси. Тэнно то нихон
бунка (Император и культура Японии).
Токио, 1986.
100.
Накадзима Макото. Тэнносэй то сева
кокка (Императорская система и
государство в период Сева). Токио,
1976.
101.
Накадзука Акира. Кокумин то
кигэнсэцу (Народ и «кигэнсэцу»). Токио,
1967.
102. Накасэ
Хисаити. Киндай-но тэннокан (Учения
об императоре в новейшее время).
Токио, 1962.
103. Нисида
Китаро. Нихон бунка-но мондай (Проблемы
японской культуры). — Дзэнсю (Полное
собрание сочинений). Т. 6. Токио,
1953.
104.
Нихондзин-но сисо то кодо (Мышление
и поведение японцев), Токио, 1973.
105. Нихон-но
кэнкоку (Возникновение государства
в Японии). Токио, 1966.
106. Нихон-но
синдо. Амэрика-но кокуминсэй (Путь
верноподданного в Японии.
Американский национальный
характер). Токио, 1944.
107. Нихон
рэкиси (История Японии). Т. 4. Токио,
1962.
108. Нихон
рэкиси (История Японии). Т. 15. Токио,
1976.
109. Нихон
хокэнсэй то тэнносэй (Феодализм и
императорская система в Японии). —
Рэкиси хёрон. 1980, N 314.
110. Нздзу
Масаси. Сётё тэйкоку-но тандзё (Рождение
символической империи). Токио, 1961.
111. Ода Макото.
Ва гаку си то тэнно (Я и император).
Токио, 1975.
112. Окоти
Кадэуо. Сангёхо коккай-но маэ то ато
(Дои после сессии парламента, на
которой был принят закон о
промышленности). — Кин-дай нихон
кэйдзай сисо си (История
экономической мысли в Японии в
новейшее время). Т. 2. Токио, 1971.
113. Оэ
Синобу. Тэнносэй фасидзуму-но
рэкисикан кэйсэй то рэкиси кёику (Формирование
исторической концепции фашизма
императорской системы и
историческое образование). —
Рэкисигаку кэнкю. 1971, N 370.
114. Оэ
Синобу. Ясукуни дзиндзя (Храм
Ясукуни). Токио, 1984.
115. Секста
Ёсио. Мэйдзи дзэнханки-но насёнаридзуму
(Национализм начала эпохи Мэйдзи).
Токио, 1958.
116. Сакута
Кэйити. Кати-но сякайгаку (Аксиология).
Токио, 1972.
117. Сакута
Кэйити. Кёдотай то сютайсэй (Община
и автономность). — Киндай нихон
сякай сисо си (История общественной
мысли в Японии в новейшее время). Т. 2.
Токио, 1971.
118. Сева си-но
тэнно, нихон (Император и Япония в
истории эпохи Сева). Токио, 1975.
119. Син
нихон-но сисо гэнри (Идеологические
принципы новой Японии).— Мики Киёси.
Дзэнсю (Полное собрание сочинений).
Т. 17. Токио, 1968.
120. Симояма
Сабуро. Киндай тэнносэй кэнкю
дзёсэцу (Введение в изучение
императорской системы новейшего
времени). Токио, 1976.
121. Содзо
Коно. Дзингиси гайё (Очерки истории
синтоизма). Токио, 1927.
122. Судзуки
Андо. Нихон кэмпо си кэнкю (Исследование
истории конституции Японии). Токио,
1975.
123. Сэнго
си то хандо идэороги (Послевоенная
история и реакционная идеология).
Токио, 1981.
124. Сюкё,
сэйдзи, тэнносэй (Религия, политика,
императорская система). Токио, 1981.
125. Тада
Мититаро. Майхому-но эйко то хисан (Слава
и несчастье май-хому). — Канри сякай-но
кагэ (Оборотная сторона
управляемого общества). Токио, 1971.
126.
Таникава Тэцудзо. Нихондзин-но
кокоро (Душа японца). Токио, 1976.
127. Тома
Сзйта. Нихон миндэоку-но кэйсэй (Образование
японского этноса). Токио, 1951.
128. Тома
Сэйта. Сэйдзитэки сякай-но сэйрицу (Становление
политического общества). — Сякай
косэй си тайкэй (Очерки по истории
социальной структуры). Токио, 1949.
129.
Тэнносэй (Императорская система).
Токио, 1975.
130.
Тэнносэй (Императорская система). —
Синнихон бунгаку. 1977, N 1.
131.
Тэнносэй кокка то синва (Государство
императорской системы и мифы).
Токио, 1982.
132.
Тэнносэй-о тоицудзукэру (Вновь об
императорской системе). Токио, 1978.
133.
Тэнносэй-о тоу (Вопрос об императорской
системе). Токио, 1986.
134.
Тзнносэй то минею (Императорская
система и массы). Токио, 1976.
135.
Тэнносэй то нихон сюкё (Императорская
система и японская религия). Токио,
1985.
136.
Тэнносэй то ясукуни (Императорская
система и Ясукуни). Токио, 1976.
137. Тэнно
то кёсанто то нихондзин (Император,
Коммунистическая партия и японцы).
Токио, 1974.
138. Тэнно
то сэйдзи (Император и политика).
Токио, 1973.
139. Умэхара
Такзси. Дзигоку-но сисо (Идеология
ада). Токио, 1967.
140. Умэхара
Такэси. Нихонгаку котохадзимэ (Введение
в науку о Японии). Токио, 1985.
141. Умэхара
Такэси. Нихон-но синдэо (Глубинные
слои Японии). Токио, 1985.
142. Утимура
Кандзо. Дзэнсю (Полное собрание
сочинений). Т. 20. Токио, 1963.
143. Уэно
Хирохиса. Кокумин исики-ни миру
тэннодзо (Образ императора в
сознании народа). — Хогаку сэмина.
1977, N 1.
144. Уэсуги
Синкити. Кокутай сика хацуё (Повышение
значения «коку-тай»). Токио, 1919.
145. Уэяма
Сюмпэй. Нихон-но коккадзо (Образ
японского государства). Токио, 1980.
146. Уэяма Сюмпэй.
Нихон-но сисо (Идеология Японии).
Токио, 1971.
147. Уэяма
Сюмпэй. Тэнносэй-но синдзо (Глубинные
слои императорской системы). Токио,
1985.
148. Уэяма
Сюмпэй. Тэцугаку-ио таби кара (Из
путешествия в философию). Токио, 1979.
149. Уэяма
Сюмпэй. Уморэта кёдзо (Погребенные
гигантские статуи). Токио, 1977.
150. Фудзита
Содзо. Тэнносэй кокка-но сихай
гэнри (Принципы господства
императорской системы). Токио, 1966.
151. Хасиура
Ясуо. Фурусато-но мацури (Японские
праздники). Токио, 1971.
152. Хаттори
Унокити. Коси оёби косикё (Конфуций
и конфуцианство). Токио, 1916.
153. Хаяси
Фусао. Нихон-э-но кэйкоку (Предостережение
об опасности, грозящей Японии).
Токио, 1969.
154.
Хидзиката Кадэуо. «Нихон бунка рон»
то тэнносэй идэороги («Тео-' рия
японской культуры» и идеология
императорской системы). Токио, 1983.
155. Хогаку
сэмина. Гэндай тэнносэй (Юридический
семинар. Современная императорская
система). Токио, 1977.
156. Ябэ
Сюити. Кэнкоку кинэмби (День
основания государства). Токио, 1966.
157. Ядзава
Сюдзиро. Сайге сякай рон-но
сайкэнто (Пересмотр концепции
индустриального общества). —
Кэйдзай хёрон. 1981, т. 30, N 1.
158. Ямада
Норио. Ясукуни дэиндзя (Храм
Ясукуни). Токио, 1969.
159. Ямада
Такао. Сэнго сэйдзи хандо то гэндай
тэнносэй (Послевоенная
политическая реакция и современная
императорская система). — Бунка
хёрон. 1986, N 301.
160. Ямамото
Лкира, Имано Тосихико. Тайсё, сева
кёику-но тэнносэй идэороги (Тэнноистская
идеология в образовании в эпохи
Тайсё и Сева). Т. 1—2. Токио, 1976.
161. Я маори
Тэцуо. Дайдзёсай то тэнносэй («Дайдэёсай»
и императорская система). — Хогаку
сэмина. 1985, N 29.
162. Authority and
the Individual in Japan. Citizen Protest in Historical
Perspective. Tokyo, 1978.
163.Ballou R.O.
Shinto. The Unconquered Enemy. N.Y., 1945. \fA.Bellah R. Japan's
Cultural Identity. — Journal of Asian Studies. 1965, vol.
24, N 4.
165. Bellafi R.
Tokugawa Religion. The Values of Preindustrial Japan. Glencoe,
1957.
166. Brown DM.
Nationalism in Japan. Berkeley (Los Angeles), 1955.
167. Cho K.T. The
Dual Image of the Japanese Tenno: Conflicting Foreign Ideas about
the Remoulding of the Tennosei at the End of the War. —
Proceedings of the British Association for Japanese Studies. Vol.
1. Sheffield, 1976.
168. Earl D.M.
Emperor and Nation in Japan. Political Thinkers in the Tokugawa
Period. Seattle. 1964.
169. Emperor
Hirohito. A Pictorial History. Tokyo — New York — San
Francisco, 1975.
170. Koto G. A
Study of Shinto. The Religion of the Japanese Nation. London —
Dublin, 1971.
171.Kato M. The
Lost War. N.Y., 1946.
172. Kitabatake Ch.
A Cronicle of Gods and Sovereigns: Jinno Shotoki. N.Y.,1980.
173. Kokutai No
Hongi. Cardinal Principles of the National Entity of Japan.
Cambridge (Massachusetts), 1949.
174. Kuno O. The
175. Jansen M.B. The
Presidential Adress: Monarchy and Modernization in
176. Holtom D.X.
Modern
177. Marshall B.K.
Capitalism and Nationalism in Prewar Japan. The Ideology of the
Business Elite (1868—1941). Stanford, 1967.
178. The Meiji
Japan through Contemporary Sources. Vol. 1—3. Tokyo, 1969.
179. Morris I.I.
Nationalism and Right Wing in Japan. A Study of Post-War Trends.
L., 1960.
180. Murakami Sfi.
Japanese Religion in the Modern Century. Tokyo, 1980.
181. Murtliy P.A.N.
The Rise of Modern Nationalism in
182. Nakamura H.
Basic Features of the Legal, Political, arid Economic Thought of
Japan. — The Japanese Mind. Essentials of Japanese Philosophy
and Culture. Tokyo, 1973.
183. Nihongi:
Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697. —
Supplement I of the Transactions and Proceedings of the Japan
Society of London. Vol. 1. L., 1896.
184. Ono S. Shinto.
The Kami Way. Rutland — Vermont — Tokyo, 1976.
185. Picktn D.B.S.
Shinto:
186. Sources of
Japanese Tradition. Vol. 2. New York—London,
1964.
187. Starry R. The
Double Patriots. L., 1957.
188. Price W. Japan
and the Son of Heaven. N.Y., 1945.
189. TagorR.
Nationalism. N.Y., 1921.
190. Titus D.A. The
Making of the «Symbol Emperor System* in Postwar Japan. —Modern
Asian Studies. 1980, vol. 14, part. 4. 202
191. TVnu D.A.
Palace and Politics in Prewar Japan. New York—London, 1974.
192. Wells H.W. The
Classical Drama of the Orient. L., 1965.
193. Zori H. Japan's
Military Masters. N.Y., 1943.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ
194.
Международная жизнь.
195. Акахата.
196. Асахи
дзянару.
197. Асахи
симбун.
198. Бунгэй
сюндзю.
199. Бунка
хёрон.
200. Дэию
минею.
201. Дзию
симпо.
202. Иомиури
симбун.
203. Киото
симбун.
204. Майнити
симбун.
205.
Ринкёсин даёри.
206. Санди
майнити.
207. Сэйрон.
208. Сэкай
бунка.
209. Сюкан
Асахи.
210. Тайсё
нити-нити симбун.
211. Тисэй.
212. Тюо
корон.
213.
Юйбуцурон.
214. Asahi Evening
News.
214a. The Daily
Yomiuri
215. The Japan
Chronicle.
216.The Japan Times.
217. Mainichi Daily
News.
217a. The New York
Times.
218. Voice.
SUMMARY
T.
Sila-Novitskaya. The Cult of Emperor in
The
Introduction outlines the problems under study, explains the
historical context and defines basic concepts of the work.
Chapter
One considers the evolution of the emperor's cult, and reviews
major teachings concerning the emperor's rule in pre-bourgeois
Chapter
Two analyzes the mechanism of nationalist brainwashing to which
the population was subjected in the period of the imperial rule,
from the 1868 bourgeois revolution to the defeat of
Chapter
Three describes the revival of the tenno ideology in the
contemporary
As noted in the
Conclusion, the role and content of the tenno cult are
increasingly determined by the post-war parameters of
nationalism, i.e. by the concept of the "uniqueness" of
the Japanese culture in broad terms and the idea of "cultural
community of the Japanese". These two postulates have become
basic to the official nationalist doctrine. If before the war the
cult of the emperor relied on the sacralization of the state
power, now, in accordance with the new concept of "symbolic"
tenno cult, it is the community of culture that is proclaimed the
main factor consolidating the nation in which religion plays a
secondary role as a kind of secularized tradition.
Научное
издание
СИЛА-НОВИЦКАЯ
Татьяна Георгиевна
КУЛЬТ
ИМПЕРАТОРА В ЯПОНИИ: история,
доктрины, политика
Редактор
М.А.Унке
Младший
редактор Н.Н.Сенина
Художник
Б.Л.Резников
Художественный
редактор Э.Л.Эрман
Технический
редактор В.П.Стукоенина
Корректор
П. С.Шин
ИБ
№ 16461
Сдано
в набор 24.11.89. Подписано к печати 07.08.90
Формат
84x108 ,4г. Бумага офсетная V 1. Печать
офсетная
Усл.
п.л. 10,92 -1-0,84 вкладка на мелованной
бумаге
Усл.
кр.-отт. 12,39. Уч.-изд.л. 12,08. Тираж 5000
экз.
Изд.
№ 6862. Зак. № 761. Цена 1 р. 60 к.
Ордена
Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
Главная
редакция восточной литературы 103051,
Москва К-51, Цветной бульвар, 21
3-я
типография издательства "Наука"
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28