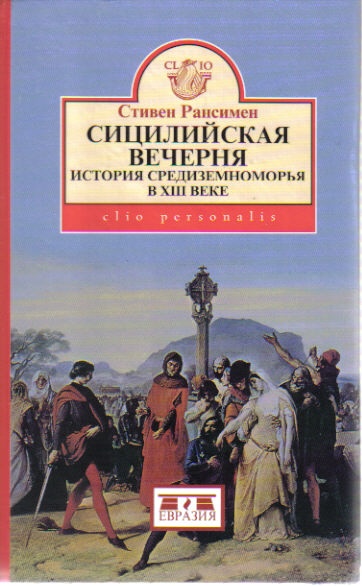
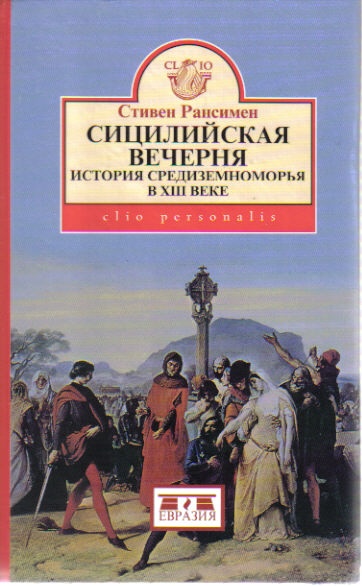
Рансимен
Стивен
СИЦИЛИЙСКАЯ
ВЕЧЕРНЯ:
ИСТОРИЯ
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ В ХIII ВЕКЕ
ЕВРАЗИЯ
Санкт-Петербург
2007
Научный
редактор:
к. и. н. Карачинский А. Ю.
Рансимен Стивен
Р
22 Сицилийская Вечерня:
История Средиземноморья в XIII в. Пер.
с англ. Нейсмарк С. В. — СПб.: Евразия,
2007. - 384 с.
ISBN 978-5-8071-0175-8
Сицилийскую
Вечерню можно назвать «итальянской
Варфоломеевской ночью». В
Книга изобилует яркими и интересными подробностями о средневековой политике, войне и жизни человека в XIII в. Для широкого круга читателей.
ББК 663.3(0)4 УДК 94
978-5-8071-0175-8
© Неймарк С. В., перевод, 2007
© Карачинский А. Ю., предисловие, 2007
© Лосев П. П., оформление, 2007
©
Евразия, 2007
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Пролог. Сицилия
Глава I. Смерть антихриста
Глава II. Наследство Гогенштауфенов
Глава III. На другой стороне Адриатики
Глава IV. В поисках короля: Эдмунд Английский
Глава V. В поисках короля: Карл Анжуйский
Глава VI. Вторжение Карла Анжуйского
Глава VII. Конрадин
Глава VIII. Король Карл Сицилийский
Глава IX. Средиземноморская империя
Глава X. Папа Григорий X
Глава XI. Взлет Карла Анжуйского
Глава XII. Великий заговор
Глава XIII. Вечерня
Глава XIV. Поединок королей
Глава XV. Смерть короля Карла
Глава XVI. Вечерня и судьба Сицилии
Глава XVII. Вечерня и судьба Европы
Примечания
Библиография
ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Вниманию
читателя представляется книга
английского историка С. Рансимена,
которая посвящена крупному
событию средневековой европейской
истории XIII в. — восстанию в
Сицилийская
Вечерня имеет долгую предысторию. В
XIII в. вся Италия стала ареной борьбы
за власть между папством и
германскими императорами. Своего
апогея эта борьба достигла в
правление императора и короля
сицилийского Фридриха II (1220-1250) из
династии Гогенштауфенов,
сосредоточившего в своих руках
власть над Германией, Северной и
Южной Италией. В каждом городе и
области за влияние боролись сторонники
императора (гибеллины) и
приверженцы папства (гвельфы).
После смерти Фридриха папство задумало
уничтожить его наследников и
призвало на помощь представителя
французского королевского дома
Карла, графа Анжуйского. В
С.
Рансимен — автор книг, давно
получивших репутацию
классических: «Истории крестовых
походов», «Падение Константинополя
в
Книгам С. Рансимена присущи образность повествования, подробное и красочное изложение деталей, что делает их доступными широкому кругу читателей. Не является исключением и «Сицилийская Вечерня», написанная так, чтобы передать весь накал страстей, трагичность и величие происходивших событий.
Карачинский А. Ю.
ПРЕДИСЛОВИЕ
О Сицилийской Вечерне редко вспоминают в наши дни. Обычного образованного человека это словосочетание разве что наводит на мысль об одной из малоизвестных опер Верди. В прошлом веке и ранее дела обстояли иначе. История Сицилийской Вечерни вдохновляла поэтов и драматургов; о ней было написано множество исторических трудов, что помогло Сицилии приобщиться к итальянскому Возрождению (Risorgimento). Не стоит рассчитывать, что любой сегодня осилит поэтические трагедии Казимира Делавиня или миссис Фелиции Геманс; но хочется надеяться, что никому не придет в голову изучать историю по либретто, написанному Скрибом для Верди. Это была неудачная работа. Либретто было заказано для гала-представления в Париже, но оскорбило Верди и итальянцев, поскольку традиционный герой Вечерни, Джованни да Прочида, был выставлен коварным и беспринципным интриганом; сицилийцев — поскольку их выписали одновременно жестокими и трусливыми; австрийцев — поскольку описывалось восстание итальянцев против власти захватчиков; и французов — поскольку кульминацией пьесы было заслуженное избиение их соотечественников.
«История
Сицилийской Вечерни» («Storia della Guerra del
Vespro Sciciliano»), написанная Амари и
впервые опубликованная в
На
самом деле история избиения
французов в Палермо 30 марта
Существует
множество источников, на которые
можно опираться в истории Вечерни.
Этот период изобилует хронистами
и историками различной степени достоверности.
Архивы правительств, игравших роль
в этой истории, уже все по большей
части изучены, а их постановления
опубликованы; хотя, возможно, еще
многое можно было бы отыскать в
беспорядочных архивах королей
Арагонских и кое-что — в утраченных
в ходе последней войны архивах
неаполитанских династий
Гогенштауфенов и Анжуйцев. Я также
глубоко обязан работам многих
современных историков. В частности,
я должен упомянуть недавно
опубликованный труд Э. Леонара об
Анжуйской династии в Неаполе,
пусть вынужденно краткий, но
бесценный с точки зрения учености
и здравого смысла. Современному
историку уже нечего добавить к
великолепной книге Э. Джордана об
Италии накануне вторжения Анжуйцев,
опубликованной в
Я постарался побывать в тех местах, где произошли важнейшие события этой истории, и теперь хотел бы поблагодарить моих друзей в Италии и на Сицилии, которые очень помогли мне в моих путешествиях. Я также хотел бы поблагодарить служащих Cambridge Univercity Press за учтивость и доброту.
Стивен
Рансимен
Лондон
Пролог
СИЦИЛИЯ
Остров Сицилия по форме напоминает треугольник; он расположен в середине Средиземного моря, разделяя его надвое и почти образуя перешеек, соединяющий Италию с Африкой. Мало найдется островов, более обласканных природой. Климат там мягок, а ландшафт, с его непроходимыми горами и лучезарными долинами и равнинами, прекрасен. Даже частые землетрясения и постоянная угроза извержения Этны, пусть и свидетельствуя о капризах природы, как бы в качестве компенсации обогатили почву на острове. Человек же был не столь предупредителен. Географическое положение сделало остров неизменным полем битвы между Европой и Африкой, к тому же любой, кто хотел контролировать Средиземноморье, должен был заполучить этот остров. История Сицилии — это история вторжений, войн и восстаний.1
Кто такие
сицилийцы (Siculi), давшие свое имя
острову, и действительно ли они
пришли из Италии и вытеснили
коренных островитян сиканов (Sicani)
— это предмет для спора
историков, изучающих древнюю
историю. История Сицилии
начинается с того момента, когда Siculi
сами осознали, что их землю
завоевывают и колонизируют два
великих народа античности,
знакомые с искусством мореплавания,
— финикийцы и греки. Греки пришли
примерно в
К тому времени финикийцы уже осели на Сицилии, они приплыли из своих колоний в Африке и заняли западную часть. Между этими двумя народами велись войны, в которых преимущество было на стороне греков. Но финикийцы с великой африканской империей Карфаген за спиной все равно оставались реальной угрозой для греков. В свободное от войны с финикийцами время греческие города-государства обращались к своему обычному времяпрепровождению: мелким междоусобным войнам и бунтам. Главным греческим городом были Сиракузы, прославившиеся тем, что его жители отразили нападение афинян; время от времени кто-нибудь из правителей Сиракуз, какой-нибудь Дионисий, укреплял свою власть настолько, что на несколько лет его правления устанавливались мир и порядок. Несмотря на некоторые трудности, это было счастливое время. Греки начали выращивать оливки и виноград. На огромной центральной равнине, с лугов которой Аид, бог подземного мира, похитил дочь богини плодородия, колосились нивы. На склонах гор паслись тучные стада. Беззаботная жизнь крестьян увековечена в идиллиях Феокрита. Однако уже тогда человек посягнул на богатства острова. Города, как греческие, так и финикийские, нуждались в кораблях для войны и торговли; и лесные деревья стали падать под топорами судостроителей. А пока Коридон развлекался в тени с Амариллисой, их козы пожирали побеги, которые могли бы возродить леса. Начались эрозия и высыхание. Почва была смыта со склонов гор, и славные ручейки, орошавшие долины, стали превращаться внизу в речушки, чьи русла наполнялись зимой, но оставались голыми и сухими под летним солнцем.
Идиллия
продолжалась недолго; из-за своего
географического положения
Сицилия была вовлечена в великие
войны между Римом и Карфагеном. К
Упадок Римской империи и ее угасание на западе принесли новые несчастья на остров. Шторм в Мессинском проливе спас остров от вторжения Алариха и вестготов, но вскоре после этого Сицилия была атакована и на некоторое время захвачена вандалами, пришедшими из Карфагена. Остров вновь был присоединен к Италии при Одоакре и после него при остготском короле Теодорихе Великом, причем оба они заботливо относились к Сицилии, поскольку вандалы перекрыли экспорт зерна из Африки и вся Италия зависела от хлеба, выращенного на сицилийских полях. Но, невзирая на то, что оба этих правителя были достаточно осторожны, старались не злить сицилийцев и не пускать готских и других варварских поселенцев на остров, их правление было непопулярным. Когда император Юстиниан прислал армию из Константинополя, чтобы присоединить Сицилию к Византийской империи, прежде чем двинуться на отвоевывание Италии у остготов, его войска повсюду на острове встретили радушный прием, и остготские гарнизоны отступили без боя. До окончания войны в Италии остготы совершали набеги на остров, но, в отличие от самой Италии, он избежал опустошения.2
Последовал
короткий период затишья, во время
которого, правда, судя ко всему, на
острове появились малярийные
комары, неся с собой страшную
болезнь, и в низко расположенных
районах население стало сокращаться.
В середине VII в. несчастья
продолжились. Мусульмане завоевали
Сирию и Египет, а поскольку они
планировали расширять свою империю
на запад, Сицилия была их
очевидной целью. Их первый набег на
остров датируется 652г., но только
после того, как они завоевали
противоположное побережье Африки в
начале VIII в., натиск стал по-настоящему
серьезным. Между тем был такой
момент, когда казалось, что Сицилия
может стать центром возрожденной
Европы. Император Констант,
отчаявшись удержать восток против
исламского нашествия, планировал
перенести столицу из
Константинополя обратно в Старый
Рим. Когда оказалось, что его идея
невыполнима, он обосновался в
Сиракузах. Но его чиновники были
напуганы тем, что он решил оставить
Константинополь, и в один день
В
течение VIII в. византийские
императоры смогли удерживать
власть над Сицилией. Произошло,
правда, несколько локальных
конфликтов из-за недовольства
островитян иконоборческой
политикой императоров Исаврийской
династии. Но в то же время греческая
составляющая на острове усилилась.
Не предпринималось никаких
попыток навязать иконоборчество на
острове; многие иконопоклонники с
востока нашли там убежище; к тому же
императоры в свете их конфликта с
Римской церковью, а также из
соображений административного
удобства перевели провинцию из
подчинения Римской епархии, к
которой Сицилия принадлежала
прежде, в Константинопольскую. В IX в.
мусульманские вторжения из Африки
приняли серьезный оборот. Поводом
было восстание одного из местных
правителей, Евфимия, который
провозгласил себя императором и
призвал на помощь арабов.
Захватчики высадились на острове в
Арабы
внесли оживление в сицилийский
уклад. Они привезли лимон и
апельсин, хлопок и сахарный тростник;
правда, они быстро довершили
начатое сицилийскими козами,
расточительно вырубая леса. Арабы
были прекрасными торговцами; в
период их правления Палермо
превратился в международный рынок,
где купцам из христианских
городов Италии были так же рады, как
мусульманским купцам из Африки и с
Востока. Многие поселенцы, арабы и
африканцы, пришли вслед за своими
армиями на остров, особенно на
восточную его часть; но христиан
это очень мало обеспокоило. И в
самом деле, с финансовой точки
зрения их жизнь стала, возможно,
даже лучше, чем при византийском
правлении, поскольку налоги были не
слишком высокие, и крестьянам не
приходилось оставлять свои поля
ради службы в армии. Правда, шли
многочисленные мелкие войны.
Вначале арабские эмиры сохраняли
верность африканским Аглабидам[1],
но когда Аглабидов сменили
неортодоксальные Фатимиды[2] и
Зириды, сицилийские правители
провозгласили независимость и
стали сражаться между собой и
против африканцев, пытавшихся
снова подчинить их. В начале XI в.
византийцы попытались отвоевать
остров и даже преуспели в этом на
какое-то время, но им пришлось
отвлечься на нормандцев,
вторгшихся в византийскую Италию.5
В
Рожер
умер в
Рожер
II унаследовал все могущество и все
амбиции своей семьи. Он был намерен
сделать Сицилию силой
международного значения,
господствующей в Средиземноморье.
Его попытки установить контроль
над акваторией Средиземного моря,
завоевав побережья Туниса напротив
Сицилии, оказались неудачными, но
он достиг своей цели, завладев
Мальтой и создав мощный флот. В 1127г.
правитель нормандской Италии Вильгельм
I, герцог Апулийский, внук Гвискарда,
умер. Несмотря на противостояние
папству и законные права князя
Антиохийского, другого внука
Гвискарда, Рожер завладел
итальянским наследством. В
Его
сын Вильгельм I, правивший в 1154—1166
гг., продолжил политику отца, хотя
был более постоянен в своей
поддержке папства, которому
угрожал император Фридрих
Барбаросса. Вильгельм I из-за своей
жестокости и непопулярности своих
советников получил прозвание «Злой»,
и в его владениях, как на Сицилии,
так и на материке, произошло
несколько бунтов. Но справедливость
и законность его правления не
вызывали сомнений. Правление его
сына Вильгельма II, пережившего
трудное время до своего
совершеннолетия, оказалось более
спокойным; его удостоили прозвания
«Добрый», Данте же отвел ему место
в Раю после смерти. Но в основном он
придерживался курса, выбранного
его отцом и дедом. Вильгельм II умер
в
Правление трех этих нормандских королей принято считать золотым веком в истории Сицилии. Около столетия остров был центром сильного и процветающего королевства, короли предпочитали его своим владениям на материке. Палермо был их столицей и их любимой резиденцией. И в самом деле, и Вильгельм I, и Вильгельм II нечасто покидали это место, где они вели жизнь, больше напоминавшую жизнь арабских султанов, чем жизнь средневековых христианских правителей, сознательно копируя в своих придворных церемониалах иератический стиль Византии. Их система правления основывалась на феодальных связях, что было необходимо для их территории на материке, где, в силу обстоятельств завоевания, находилось несколько крупных бароний, которые непрочно держались под властью короны, и королям приходилось постоянно прилагать усилия, чтобы их власть признавали. На Сицилии же, где графу Рожеру в его завоеваниях помогала лишь незначительная часть знати, было пожаловано мало феодов, и все они были небольшие по размеру. Этот правитель оставил большую часть острова в своем королевском владении. При византийцах и при мусульманах города являлись практически независимыми государствами со своим правительством. Когда король забрал себе большую часть острова, феодализация на Сицилии едва стронулась с места, но в будущем это должно было привести к лишениям и беспорядкам. Реальная власть над островом, а по мере возможности и материком, была сосредоточена в королевской курии, которая представляла собой любопытную комбинацию феодальной, византийской и мусульманской систем правления. Титулы были в большинстве своем арабские или греческие. Управление провинциями осуществлялось не местной знатью, а чиновниками, назначенными курией. За редким исключением, никому из вассалов не было позволено вершить суд, хотя они и пользовались всеми другими феодальными правами. Городами управляли люди, назначенные королем.
В королевстве говорили на нескольких языках. На материке, за исключением Калабрии, в общее употребление вошел один из диалектов итальянского, а на острове большая часть населения говорила по-гречески; были также большие колонии мусульман, говоривших по-арабски, и несколько еврейских поселений. Двор говорил на нормандско-французском наречии, и росло число чиновников и приезжих с материка, говоривших на французском и итальянском. Законы и указы выходили на латыни, греческом и арабском. У мусульман были свои суды, где судили по законам Корана, византийское право было сохранено для греков. Мусульманам разрешалось свободно молиться в мечетях. Были попытки насадить католицизм среди греков, но от них вскоре отказались: богослужения продолжали идти в соответствии с греческим каноном, но греческое духовенство должно было признать верховную власть Католической церкви. Поскольку новый правящий класс исповедовал католическое христианство, на Сицилии наблюдается постепенный сдвиг в сторону католицизма, что нашло свое отражение в разговорном языке. Короли жестко контролировали церковь в своем государстве. Папство даровало им право быть постоянными папскими легатами; они заявляли, что «коронованы самим Господом», и сомневаться в их законах и решениях считалось святотатством. Но Папа объявил себя верховным владыкой королевства, и был признан таковым.
Основной отличительной чертой нормандского правления было успешное привнесение гармонии в различные сферы жизни на Сицилии. Все заговоры и восстания были результатом деятельности чужеземной аристократии. Простой сицилиец с благодарностью относился к власти, которая хотя и была суровой и проявляла, быть может, чрезмерную опеку, но зато обеспечила ему справедливое правосудие и процветание, какого не знали его предки. Короли поддерживали торговлю и ремесла. Они создали и субсидировали большой торговый флот. Во время похода на Грецию Рожер II захватил в плен искусных ткачей шелка для развития зарождавшихся на острове шелковых мастерских. Оказывалось покровительство художникам различных стран и направлений. Великие храмы нормандской Сицилии служат идеальной иллюстрацией развивавшейся цивилизации: нормандские зодчие использовали искусство греческих и мусульманских каменщиков и византийские строительные приспособления, арабских декораторов и византийских мастеров мозаики; все это вместе объединилось в гармоничный и уникальный стиль. При дворе арабские портные вышили для короля христианские тексты арабскими буквами на парадной мантии. Придворные посты занимали люди разного происхождения: адмирал Георгий Антиохийский, урожденный грек, епископ Сиракуз Ричард Палмер, англичанин, или ставший епископом Агридженто венгерский еретик. На арабских путешественников (таких, как Ибн Джубайр) глубокое впечатление производило процветание мусульманских областей, подчиненных королю. Ибн Джубайр обратил особое внимание на госпитали и богадельни, содержавшиеся на средства и мусульман и христиан; он также с интересом отмечал, что христианские женщины на острове подражали мусульманкам: они надевали чадры и абы, выходя из дома, и никогда не вмешивались в разговор.6
Таким
образом, на Сицилии к концу XII в.
население состояло из традиционно
враждебных групп, но тем не менее
мирно сосуществовавших и
двигавшихся уже в направлении
подлинного национального самосознания.
Нормандским королям, как бы спесивы
и неразборчивы в средствах они ни
были, следует воздать должное за
это невероятное достижение. Но
золотой век был недолог.
Королевская семья начала редеть.
Когда в
Правление
Танкреда было неспокойным. Знать
его недолюбливала, мусульмане
бунтовали против него. Танкред
заключил в тюрьму вдову своего
предшественника, Иоанну
Английскую, и прибытие ее брата, Ричарда
Львиное Сердце, отправившегося в
крестовый поход и по пути
заглянувшего на Сицилию, поставило
Танкреда в еще более
затруднительное положение, которое
ничуть не улучшилось с
одновременным прибытием
французского короля. Танкреду
удалось в конечном счете
заручиться дружбой Ричарда,
обещавшего ему союз против Генриха
и Констанции, но это принесло
сицилийскому государю мало пользы,
поскольку оскорбило французского
короля, а английская армия отправилась
дальше в крестовый поход. В
Генрих
был возведен на сицилийский
престол, коронация прошла в
Палермо на Рождество
Генрих
был суровым правителем, и вскоре
его возненавидели на Сицилии даже
больше, чем на материке. Это был
умный, но холодный человек, чьи
честолюбивые устремления
подчинить своей самодержавной власти
всю территорию Германии и Италии от
Северного моря до Африканского
пролива и сделать их наследственными
владениями его семьи почти
увенчались успехом. Но сицилийцы,
которыми до недавнего времени
правили местные государи,
соблюдавшие интересы островного
населения, не имели ни малейшего
желания плестись в хвосте этого
имперского обоза. Генрих надеялся
задобрить сицилийцев, назначив
императрицу родом с Сицилии
регентшей на острове и принадлежащей
острову территории на материке; но
при этом Констанцию он
рассматривал лишь как свое орудие.
В действительности правил
германский сенешаль, Мар-квард фон
Аннвейлер, и его власть была
подкреплена германскими войсками.
Констанция напрасно протестовала.
В
Смерть Генриха не принесла мир на остров. Вдовствующая императрица взяла бразды правления в свои руки, прогнав германцев и окружив себя местными сановниками. Но ее власть была непрочной. К счастью, она нашла деятельного друга и наставника в лице Иннокентия III, нового Папы, избранного в январе 1198г. Сама императрица была уже слаба здоровьем и тревожилась за будущее своего сына. Она составила завещание, согласно которому после ее смерти королевством должен был править Государственный совет, но сын Констанции попадал под опеку Папы. Фридрих в возрасте трех с половиной лет был официально коронован в Палермо в мае 1198г. Через шесть месяцев Констанция умерла.10
Детские
годы Фридриха вплоть до его
совершеннолетия были
беспокойными и несчастливыми как
для королевства, так и для короля.
Иннокентий, будучи сюзереном
королевства и опекуном юного
короля, тщетно пытался
контролировать правительство.
Плелись бесконечные интриги и шли
мелкие войны между Вальтером
Палеарским (канцлером и главой
Государственного совета), бывшим
сенешалем Марквардом и еще одним
германем, Дипольдом фон Фобургом,
которому Генрих даровал власть над
Салерно. Одна из дочерей Танкреда
сбежала из плена, и ее муж Готье де
Бриенн получил от Папы обширные
владения в Апулии и стал
военачальником понтифика Папы в
королевстве, не оставив, правда, при
этом претензий своей супруги на престол.
Пизанцы и генуэзцы бились друг с
другом на побережьях, в особенности
— в районе Сиракуз, каковые и были
заняты последними. К счастью для
королевства, Марквард умер в
В
декабре
При
Фридрихе остров возвратил себе
часть былого величия. Фридрих любил
Сицилию больше, чем все остальные
свои владения. Он вырос во дворце в
Палермо, окруженном прекрасными
садами, и всю жизнь повторял, что
только там чувствовал себя дома.
Там располагался его двор, там
родились его дети, но сам Фридрих
редко там появлялся. У него было
слишком много дел. Со временем он
навещал остров все реже и реже,
предпочитая свободное время
проводить на отдыхе в одном из
своих замков или охотничьих домиков
на материке в Апулии. Фридрих
обеспечил Сицилии справедливое и
упорядоченное правление: он реформировал
законы таким образом, чтобы
искоренить коррупцию как в
общественных, так и в частных делах,
выгнал генуэзцев, которые
эксплуатировали остров из своей
колонии в Сиракузах. Но Фридриху
пришлось применять силу, чтобы
добиться желаемого. Он был
непопулярным правителем. Сицилийцы
помнили, что он сын жестокого
германца — Генриха VI. Они видели,
что его честолюбивые планы
простираются на Северную Италию и
дальше за Альпы. И императорская
коронация Фридриха в
Фридрих был деятельным, но жестоким королем. Реформа законодательства, которую он провел, была справедливой, но он насаждал новые законы силой. Кроме того, для успешного ведения войн людей призывали в армию, и чтобы содержать армию, были подняты налоги. После наведения порядка деспотизм Фридриха был направлен в мирное русло: он поддерживал торговлю и производство, так же как и его нормандские предки, основывал новые города и привлекал иммигрантов, которые могли оказаться полезными, установил твердую монету и снизил пошлины на ввоз товаров. Убедившись, что все его подданные обеспечены справедливым судопроизводством, Фридрих дал им возможность получать образование в новом университете, который основал в Неаполе. Правление Фридриха принесло на остров мир и процветание, несмотря на высокие налоги и утечку мужского населения. Но сицилийцы понимали, что все уже иначе, чем во времена нормандских государей, при которых Сицилия находилась в сердце независимого королевства. Тогда провинции на материке управлялись из Палермо, и нормандские короли, несмотря на все свои амбиции, остались по существу королями Сицилии. Теперь же король Сицилии был также и императором и правителем Северной Италии. Даже в самом Сицилийском королевстве Фридрих не оказывал предпочтения острову перед материком. Он пытался привнести равенство в отношения двух этих территорий, и к тому же военные нужды действительно заставили его сосредоточить внимание больше на материке, чем на острове. Непрерывные распри Фридриха с Папой смущали набожных жителей острова, особенно если учесть, что он, в отличие от нормандских королей, так и не добился от папства статуса легата и официального контроля над сицилийской Церковью. Население острова так и осталось преимущественно греческим, хотя число католиков резко увеличивалось, и выкресты из ислама, которые остались на Сицилии, когда всех мусульман выслали, похоже, ассоциировали себя с ними. Но, несмотря на разношерстность сицилийцев, их национальное самосознание становилось все сильней, основываясь на затаенном негодовании. Сицилия после короткого периода независимости оказалась затянутой в трясину европейской политики. Пока был жив блистательный император, все могло быть хорошо, поскольку он был добрым правителем и все знали, что сердце его принадлежит Сицилии (даже если некоторые его действия говорят об обратном). Однако невозможно было предсказать, как обернутся дела при менее могущественном государе, если горделивые сицилийцы не получат должного уважения и внимания, которые считали своим несомненным правом.12
Глава
I
СМЕРТЬ
АНТИХРИСТА
В
январе, в самом начале
Легко
понять радость Папы, поскольку
папству за всю его долгую историю
никто не оказывал сопротивления
столь грозного, как Фридрих II
Гогенштауфен. Он был императором и
одновременно главой самой
могущественной семьи в Германии. От
матери он получил в наследство
Сицилийское королевство с принадлежавшими
ему землями Италии,
простиравшимися от оконечности
полуострова до самых предместий
Рима. Его дед Фридрих I Барбаросса
снискал больше блеска и славы, чем
любой другой император со времен
Карла Великого. Отец Фридриха II,
Генрих VI, был даже более
могущественным и жестоким
государем. Проживи он дольше, он мог
бы сделать императорский трон наследственным
достоянием династии
Гогенштауфенов. Папство боролось с
обоими императорами, поскольку их
концепция императорской власти
противоречила папской концепции
мировой теократии во главе с преемником
Св. Петра. С Барбароссой папство
заключило перемирие. Генрих VI,
получив благодаря своей женитьбе
на Констанции Сицилийское
королевство, что существенно
увеличило его возможности,
казалось, был близок к победе, но
внезапно умер. Его сын Фридрих был
еще мальчиком, слишком юным, чтобы
воссесть на императорский трон, за
который бились разные претенденты,
погружая империю в хаос. Папство
восторжествовало при
блистательном Иннокентии III, но он,
как бы ни была велика его власть,
боялся распада империи. Вдова
Генриха Констанция Сицилийская
умерла вскоре после своего мужа, и
когда она, чтобы обеспечить
безопасность своему сыну, оставила
его на попечительство Папы,
Иннокентий совершил серьезную
ошибку. Положившись на
благодарность мальчика, он заявил
его права на имперское наследство.
Фридрих II стал королем Германии в
Папа
Иннокентий умер в 1216г., так и не
узнав, какие беды принесет церкви
его подопечный. Преемник
Иннокентия, Гонорий III, который был
наставником Фридриха, вскоре
обнаружил, что на молодого
императора религиозное воспитание
оказало мало влияния и что тот не
чувствует себя связанным чувством
благодарности по отношению к
папству. Фридрих обещал, что в
обмен на императорскую корону он
уступит сицилийский престол своему
несовершеннолетнему сыну, а сам
отправится в крестовый поход. Но
став императором, не выказывал ни
малейшего желания выполнить
первое обещание и не слишком
торопился выполнять второе.
Гонорий был добросердечным человеком
и не хотел думать плохо о своем
бывшем воспитаннике. Он, хоть и не
без укоризны, позволил Фридриху
действовать на свое усмотрение. Но
Гонорий умер в
С материальной точки зрения Папа не мог соперничать с империей. Папство зависело от добровольных пожертвований верующих. Преимущество Папы заключалось в обширной, хорошо построенной церковной организации, главой которой он являлся, но он не мог рассчитывать ни на покорность всех своих епископов, ни на регулярное поступление причитающихся ему десятин и налогов. У него не было своей армии, если не считать рекрутов, набиравшихся в папском государстве. Он мог бы воззвать к сочувствию итальянских гвельфов, но те были повсюду слишком заняты борьбой с гибеллинами, чтобы чем-то еще помочь Папе. Даже его собственная Римская епархия часто изменяла ему. Римлянам нравилось править самостоятельно и назначать своих чиновников и сенаторов. Многие Папы были вынуждены половину своего понтификата провести в изгнании.
Преимущество было в основном на стороне императора, но его власть на самом деле никогда не была такой могущественной, какой казалась. У него не было того контроля над Германией или над Северной Италией, какой был у его деда. За годы, прошедшие после смерти Генриха VI, князья Германии и власти итальянских городов приобрели такую независимость, какую Барбаросса никогда бы не потерпел. В Германии, чтобы получить поддержку местных князей, Фридрих II был вынужден подкупить их, дав им большие полномочия. В Италии он мог положиться скорее на аристократов, симпатизирующих империи, чем на собственных императорских чиновников. Во время его правления в большинстве итальянских городов возникла императорская партия, обычно называемая партией гибеллинов — в честь родового замка Гогенштауфенов в Вайблингене, в противовес папистский партии, обычно называемой партией гвельфов — в честь династии Вельфов Саксонских, — которую Папы поддерживали в борьбе против Гогенштауфенов. К тому времени Папа стал всего лишь главой партии итальянских гвельфов так же, как император стал всего лишь главой партии гибеллинов. Для императора, в значительно большей степени, чем для Папы, это означало отказ от власти. У Фридриха никогда не было большой армии. Германские князья неохотно давали ему войска, и он не мог позволить себе отстаивать там свои интересы. Итальянские гибеллины думали только о борьбе с местными гвельфами. Фридрих всецело зависел от войск, собранных в его собственном королевстве на юге Италии. Армия Фридриха никогда не насчитывала больше пятнадцати тысяч людей, из которых лишь немногие были хорошо подготовленными воинами. Народное ополчение какого-нибудь маленького итальянского городка могло сопротивляться ему, укрывшись за городскими стенами, долгие месяцы. Он мог быть императором и королем Германии, Бургундии, Сицилии и Иерусалима, но за его громкими титулами было слишком мало реальной власти, чтобы удержать эти земли за собой.
Однако в этом противостоянии дело было не столько в материальном и численном превосходстве, сколько в престиже и общественном мнении. На стороне Фридриха II было очарование, все еще связанное со словосочетанием «Римская империя». Человек средневековья, уставший от свалившихся на него бед, оглядывался назад в надежде вернуть времена великого мирового господства Древнего Рима, чьи правители построили дороги, которыми в то время еще продолжали пользоваться, и канализацию и акведуки, которые потихоньку приходили в негодность; человек средневековья мечтал об императоре, который вернет утраченное величие. Карлу Великому это почти удалось, а позднее — Фридриху Барбароссе. Фридрих II унаследовал вместе с титулом уважение и надежду людей, все еще преданных имперской идее. Он сам прекрасно это осознавал. Его целью было сделать свою номинальную власть реальной, стать Цезарем, наследником Константина и Юстиниана, а не только Карла Великого. Выросший в Сицилии, где его нормандские предки создавали свой двор, в подражание византийскому, он жаждал того могущества, каким обладали византийские императоры, которые, подобно наместникам Бога на земле, хоть и почтительно относились к церкви, но на самом деле обладали высшей теократической властью. Императорская корона никогда прежде не украшала столь умную голову. С точки зрения интеллекта Фридрих был в числе самых выдающихся людей своего времени. Он был талантливым лингвистом, свободно владевшим французским, германским и итальянским, латынью, греческим и арабским. Он хорошо знал право, медицину и естественную историю, интересовался философией. Хоть внешне он и не представлял интереса — низкорослый и склонный к полноте, рыжеволосый, краснолицый, близорукий, он при желании мог кого угодно очаровать своим умом. Казалось, его способности должны были бы ему помочь в достижении поставленной цели, но получилось, что он стал жертвой собственного ума. Император, которого люди хотели видеть, должен был быть традиционной, патриархальной фигурой, вроде Барбароссы и Карла Великого, а не человеком, нетерпимым к условностям феодального мира. Фридрих презирал глупцов и высмеивал нравоучительное благочестие. Ему нравилось ошарашивать людей смелостью своего мышления. Он не принимал во внимание чужие слабости, а его вера в свое высокое предназначение привела его к тому, что он отбросил понятия чести, которых принято было придерживаться в его время. Он потакал своим слабостям и был довольно жестоким человеком. В своем пресловутом гареме в Палермо он держал в заточении, с высокомерным пренебрежением, несчастных юных княгинь, на которых по очереди женился. Для своих законных сыновей, которые придерживались более традиционных взглядов, Фридрих был суровым и невнимательным отцом. У него были преданные поклонники, но очень мало друзей. Мир в основном относился к Фридриху с подозрением. Других монархов, которые были готовы поддержать его против папства, император оттолкнул своим аморальным поведением и богохульством. Для своих врагов, напуганных его необычным умом и бесстрашием, Фридрих был воплощением антихриста.13
Никто из Пап, боровшихся с Фридрихом, не был так умен, как он. Гонорий III был добродушным, но беспомощным человеком. Григорий IX и Иннокентий IV были людьми суровыми и волевыми, оба — неутомимые слуги Церкви, но ни один из них не обладал широтой или оригинальностью мышления. Папство, однако, меньше зависело от личных качеств своего вождя, чем империя. В империи была заключена смутная ностальгическая идея, которую можно было реализовать только при мудром, уважаемом и сильном императоре. Устройство империи было довольно расплывчатым и бесформенным. Папство же опиралось на поколения церковных юристов и мыслителей. Оно было тщательно организовано, чтобы оказывать влияние на весь христианский мир. Его права и претензии были четко сформулированы. Фридрих мог сколь угодно справедливо сомневаться в подлинности «Константинова дара», но в тот век слепой веры немногие разделяли его сомнения. Папа, как наследник Св. Петра, мог утверждать, что его должность была учреждена Христом и что она возносит его, пусть даже простого смертного, над грешным человечеством. У сана же императора, несмотря на весь блеск, не было божественного происхождения. Коронация могла поставить его выше других людей, но он оставался грешным человеком, и именно Папе надлежало проводить коронацию. Благодаря своей отлаженной структуре и религиозному престижу папство было сильнее империи; но у него была возможность проиграть. Церкви плохо служили ее слуги. Поступало все больше жалоб на приверженность духовенства земным благам и на его алчность, праздность и потакание собственным слабостям. Религия все еще процветала среди мирян, но духовенство больше не служило образцом для подражания. Святые все еще встречались, но их редко можно было найти на епископской кафедре. Напротив, святыми становились простые люди, вроде Франциска Ассизского, на чью деятельность власти смотрели с некоторым подозрением. И хотя Папы сами демонстрировали благочестие, которое вызывало уважение, их дело было осквернено средствами, которые они использовали. Поскольку власть папства держалась скорее на духовном превосходстве, чем на материальном, понтифики не устояли перед соблазном и использовали духовное оружие излишне расточительно. Папа Григорий VII унизил короля Германии в Каноссе, отлучив от церкви, но на самом деле подчиниться Генриха IV вынудили дипломатические соображения. Даже Папа Иннокентий III своими успехами во многом обязан своему политическому чутью. Анафема, которая не предусматривает никакого физического воздействия, может быть эффективной, только когда моральная сторона вопроса была абсолютна ясной. То же можно сказать и о Священной войне. В этом случае обещания духовного вознаграждения недостаточно, пока дело не станет по-настоящему привлекательным с моральной точки зрения. Или же требовался материальный стимул. Урбан II организовал Первый крестовый поход в атмосфере подлинного религиозного энтузиазма, но многие крестоносцы шли также в надежде получить часть пресловутых богатств Востока. Крестоносцы, которых Иннокентий III отправил воевать с альбигойскими еретиками, были суровыми, честолюбивыми людьми, откровенно стремящимися к личной выгоде; Иннокентий, несмотря на весь свой авторитет, не смог помешать рыцарям Четвертого крестового похода нарушить его приказ; крестоносцы нашли более выгодную цель, чем безнадежное дело защиты христи-ан в Палестине. Когда Григорий IX и Иннокентий IV призывали к Священной войне против императора, людей останавливали не только моральные соображения, они просто не видели в этой войне никакой для себя выгоды. Было похоже, что папство использует Священную войну просто ради своих политических целей, и это были цели, достижения которых не желали многие добрые христиане.
Не следует судить пап слишком строго. Они ясно видели — чтобы достичь идеальной теократии Григория VII[3], которая на самом деле отнюдь не являлась идеальной, такие противники, как Фридрих II, должны быть побеждены любой ценой. Но в действительности им не было нужды так стараться. Империя уже проиграла битву, разрыв между идеалом и реальностью был значительнее, чем в случае с папством, и она еще меньше была готова выдержать долгую борьбу. Блестящие личные качества Фридриха II дали империи последнюю пугающую видимость величия, но он ничего не мог сделать, чтобы спасти ее. Настоящую угрозу для Пап представляло совсем не то, чего они боялись: опасно было не то, что империя может восторжествовать, а то, что, разгромив империю, папство таким образом может совершить самоубийство.
Мудрый наблюдатель мог уже видеть, что время прежней многонациональной империи прошло. Стремление человечества к миру и покою, которые может обеспечить одно всемирное государство, не угасло, и никогда не угаснет. Но трудности на пути к достижению единства теперь были очевидны. Национальные нужды и традиции различались все сильнее, плохо развитые коммуникации создавали слишком много барьеров. Стали возникать исходя из географической целесообразности новые небольшие унии. Император, несмотря на свой вселенский титул, в действительности был лишь королем земель Центральной Европы, причем королем, чья власть зиждилась на привнесенной идее, в отличие от его собратьев во Франции и в Англии, чья власть глубоко укоренилась в реальности. В следующем столетии у империи нашлись красноречивые адвокаты, но они защищали уже проигранное дело. Будущее было за национальными королевствами. Не только Западная империя переживала упадок. По всему миру гибли империи раннего средневековья. Законный наследник Рима, Византия, где сохранялись римское право, греческий язык и культура и Православная церковь, связавшая людей различных национальностей в единое государство с городом, который Константин сделал столицей, в течение девяти веков оставалась подлинным наднациональным христианским государством. Но бесконечные нападения врагов на всех фронтах сократили территорию этого государства, а социальные и экономические проблемы истощили его силы. Турки вторглись в Малую Азию, нормандцы из Северной Италии и с Сицилии представляли постоянную угрозу для европейских провинций империи. Славянский национализм привел к восстанию на Балканах. В 1204г. сам Константинополь — момент особенной слабости — пал под натиском союзников венецианцев и рыцарей, связанных обетом пойти в Четвертый крестовый поход. Латинская империя, основанная крестоносцами, была империей лишь номинально. Империя в изгнании, основанная византийцами в Никее, была скорее не империей, а королевством, где греки и другие православные могли найти убежище и вынашивать план мести. Восточная Европа больше не была единой, а сам Константинополь, до недавнего времени казавшийся незыблемой столицей великой империи, стал лишь игрушкой в международной политике.14
В
мусульманской мире халифат
Аббасидов[4], давний враг
Византии, тоже клонился к закату.
Власть халифов, подорванная
наемниками — тюрками, уже давно
была чисто номинальной, и хотя в XIII
в. последний из них, аль-Мустасим,
успел насладиться несколькими
годами независимости, он вскоре, в
Даже
в Восточной Азии шел тот же процесс.
В Китае блестящая империя Сунь,
давно миновавшая пору своего
расцвета, искалеченная, ковыляла к
своему окончательному закату в
При таком
положении дел во всем мире люди
вскоре могли бы задаваться
вопросом: сможет ли папство стать
великой вселенской теократией, о
которой мечтали Григорий VII и
Иннокентий III? Папы подорвали
власть Гогенштауфенов, чей
последний великий правитель был
мертв. Но теперь, когда империя
Гогенштауфенов сломлена, что они
воздвигнут на ее месте? Слишком
занятые империей, не забросили ли
они западные королевства? Смогут
ли понтифики сами создать в Италии,
от контроля над которой зависит их
власть, эффективное правительство,
или им придется прибегнуть к
помощи посредников, которые в
результате могут нанести еще
больший ущерб их делу?
Глава
II
НАСЛЕДСТВО
ГОГЕНШТАУФЕНОВ
Император
Фридрих был женат трижды. Его первую
жену, Констанцию Арагонскую, выбрал
для него Папа Иннокентий III. Намного
старше Фридриха, Констанция была
вдовой короля Венгрии. Констанция
умерла в
В своем завещании император оставил Сицилийское королевство старшему из своих законных сыновей, Конраду, которому оно и полагалось по праву наследования. Конрад уже был избран Римским королем и наследником императорского титула. Младшему сыну, Генриху, должно было достаться либо Бургундское королевство, либо Иерусалимское. Это был бесполезный подарок — король Бургундии, доставшейся Гогенштауфенам от жены Фридриха I, обладал лишь титулом, дающим некие смутные феодальные права, передавать же по наследству Иерусалим мог только Конрад, а не Фридрих, и рьяно следящие за исполнением законов заморские бароны Иерусалимского королевства никогда бы не допустили, чтобы трон без их согласия был передан правителю, в чьих жилах не течет кровь их государей. Если бы Конрад умер бездетным, Генрих должен был унаследовать германские и сицилийские земли, принадлежавшие их семье. Из незаконных детей императора ни Энцио, в своем заточении, ни Фридрих Антиохийский не были упомянуты в завещании, но Манфред получал большой удел в Северной Италии в качестве князя Тарентского; он также был назначен бальо — или наместником — всей Италии до тех пор, пока Конрад не придет и не примет правление; он также должен был унаследовать Сицилийское королевство — или просто королевство (Regnum), как теперь называли его итальянские хронисты — в случае, если прервется род законных наследников.18
Желание
императора в основном
осуществилось. В далеком
Иерусалиме его смерть ничего не
изменила. Местные бароны, которые
сопротивлялись его попыткам
править ими, по-прежнему признавали
Конрада своим законным королем, и в
его отсутствие они доверили
правление следующему после него
совершеннолетнему наследнику —
королю Генриху I Кипрскому, хотя в
реальности Иерусалимским
королевством правил французский
король Людовик Святой, который все
еще оставался в Святой Земле после
своего прискорбно закончившегося
египетского крестового похода.19
В Европе же торжество Папы
Иннокентия IV по поводу смерти
антихриста оказалось
преждевременным. Конрад, который в
то время был в Германии, смог восстановить
там надлежащий порядок, чтобы
наконец перейти Альпы в южном
направлении в январе
В
Италии дела Папы обстояли не лучше.
Он вернулся туда в апреле
В
январе
Иннокентий
был непреклонен. Он не надеялся, что
сможет вытеснить Конрада из Южной
Италии, но был решительно против
объединения Сицилийского королевства
и Германии. Конрад, нуждавшийся в
папской поддержке, или, по крайней
мере, в папском нейтралитете на
тот случай, если ему удастся
установить контроль над Германией,
был готов на любые уступки, кроме
этой. Переговоры были обречены на
провал. Какое-то время Папа думал
решить проблему, передав
Сицилийскую корону сводному брату
Конрада, Генриху, женив его на
одной из своих племянниц, и Генрих,
похоже, с интересом отнесся к этому
предложению. Но из этого плана
ничего не вышло. Конрад и его сторонники
никогда бы не допустили такой
интриги. Когда Генрих умер в
возрасте восемнадцати лет в
декабре
Война была неизбежна, и Конрад занимал на более выгодную позицию. Попытка Папы призвать к новому крестовому походу против Гогенштауфенов была воспринята резко отрицательно. Во Франции королева-регентша Бланка пригрозила конфисковать земли у любого, кто откликнется на воззвание Папы. В Германии над папскими агентами открыто смеялись.24 Армия Конрада была в хорошем состоянии. Его казна была полна, благодаря налогам, которые он собирал в своих итальянских владениях. Казалось, что Конрад добьется большего успеха, чем отец, в деле искоренения влияния Папы в Италии, и он уже планировал двинуться в северном направлении, чтобы восстановить порядок в Германии. Сейчас мы можем сомневаться, действительно ли он мог повернуть время вспять и восстановить империю Гогенштауфенов. Ему так и не представилась такая возможность. В апреле 1254г. у Конрада, находившегося в своем лагере в Лавелло на границе Апулии, началась лихорадка. Ему было всего двадцать шесть лет, но здоровье его было совершенно подорвано. Он мужественно, но тщетно боролся за жизнь. 21 мая Конрад умер в окружении своих сарацинских воинов.25
И Папа Иннокентий снова мог ликовать по поводу бедствий, постигших «род гадюк», и с большими основаниями, чем по поводу смерти Фридриха четыре года назад. Теперь в живых оставался только один законный наследный принц из ненавистной ему семьи, двухлетний сын Конрада, Конрад II по прозванию Конрадин, живший в Южной Германии со своей матерью, Елизаветой Баварской. Король Конрад на смертном одре понимал, как мало шансов у мальчика. Он не рассчитывал на то, что его сын унаследует германский трон, но, по крайней мере, Конрадин был законным королем Сицилии и Иерусалима. Юристы Святой Земли признали за ним титул Иерусалимского короля. Так что до конца жизни Конрадина управление Иерусалимом осуществлялось от его имени. Но было очевидно, что он никогда в Святую Землю не приедет еще и потому, что не захочет рисковать таким образом потерять европейское наследство. В Сицилийском королевстве дела обстояли иначе. Умирающий король назначил там своим бальо Бертольда Гогенбурга, которому доверял, оставив при этом Пьетро Руффо по-прежнему управлять Сицилией и Калабрией под началом Бертольда. Потом он, в отчаянной попытке воззвать к рыцарским чувствам Папы, рекомендовал своего сына на его попечение.26
Папу это совершенно не тронуло, да и подданные королевства не ощущали особой заинтересованности в судьбе ребенка, которого никогда не видели. Зато некоторые из них сосредоточили свои надежды на блистательном Манфреде, а другие тешили себя предложением Папы, объединить города и их предместья в свободные коммуны под властью Церкви. Иннокентий, вначале намеревавшийся предложить сицилийскую корону какому-нибудь иностранному правителю, теперь, когда его противники оказались разделенными, решил, что может сам захватить власть над королевством. Бальо Бертольд оказался перед дилеммой. Он мог рассчитывать на Пьетро Руффо, но тот столкнулся с движением в защиту коммун на острове и не мог прислать ему подкрепление. Бертольд мог также рассчитывать и на Иоанна Мавританского, но Иоанн утратил контроль над сарацинскими полками, которых переманивали друзья Манфреда. Большинство других сторонников Гогенштауфенов тоже начали переходить на сторону Манфреда. Папа Иннокентий поспешил на юг в Ана-ньи. В отчаянии Бертольд послал туда Манфреда для переговоров с Папой. Иннокентий согласился с тем, что права Конрадина следует принять во внимание, когда тот достигнет совершеннолетия, но пока что папство должно владеть королевством. Бертольд был готов согласиться, поскольку не видел иных способов обезопасить будущее Конрадина. Но Бертольд не сумел увлечь за собой своих сторонников, и у него не хватало денег, чтобы платить своим войскам. Он оставил пост бальо, и Манфред занял его место.27
Однако
у Манфреда оказалось ничуть не
больше влияния, чем у Бертольда. В
сентябре
Ни Иннокентий, ни Манфред не собирались мириться с этим соглашением. Сначала они сохраняли видимость дружеских отношений. Когда Папа пересекал реку Гарильяно 11 октября, Манфред встретил его и шел рядом, ведя под уздцы его лошадь. Но тем временем племянник Папы, кардинал Гульельмо деи Фиески, вел папскую армию на юг и требовал от населения присяги на верность, что было прямым пренебрежением правами Конрадина. Сам же Папа, чтобы заручиться поддержкой Пьетро Руффо, предложил ему пост наместника на Сицилии и в Калабрии, хотя последняя географически принадлежала к области наместничества Манфреда. Затем Манфред, прибыв вместе с Папой в Теано, обнаружил, что его земли в Монте Гаргано заняты назначенцем Папы, Борелло Англонским. Манфред выехал, чтобы посоветоваться с Бертольдом, который двигался из Апулии. Но по пути Манфред попал в засаду Борелло, который пытался его убить, но сам погиб во время схватки. Бертольд проехал мимо и прибыл в ставку Папы в Капую 19 октября. Манфред отправился в Лучеру, где Иоанн Мавританский со своими сарацинскими воинами охранял королевскую казну. Кардинал Гульельмо с папской армией следовал за ним по пятам, тоже стремясь в Лучеру и к казне. Манфред прибыл туда первым 2 ноября и узнал, что Иоанн уехал, чтобы подчиниться Папе.29
Теперь Манфред был убежден, что Папа намерен его уничтожить. Используя все свое красноречие и обаяние, он убедил сарацин в Лучере передать ему казну и присоединиться к его армии, чтобы поднять восстание. Когда стало известно о действиях Манфреда, сторонники Гогенштауфенов по всей Апулии начали стекаться к нему со всех сторон, в их числе была большая часть германских войск Бертольда, недовольных пренебрежительным отношением кардинала к правам Конрадина. Бертольд все еще склонялся к переговорам, но 2 декабря Манфред собрал достаточно большую армию, чтобы атаковать те германские войска, которые не захотели перейти на его сторону, и разбил их армию во главе с братом Бертольда, Оттоном, возле Фоджи. Бежавшие с поля битвы примкнули к армии кардинала, стоявшей у Трои, и посеяли панику. Папские солдаты были наемниками, и им задерживали жалованье, поскольку кардинал рассчитывал захватить казну в Лучере; услышав о победе Манфреда, они тут же разбежались, а кардинал умчался сквозь зимнюю вьюгу в Ариано. Вся Апулия покорилась власти Манфреда без боя.30
Папа Иннокентий был в Неаполе. Он слегка захворал, пока был в Теано, и его болезнь продолжала прогрессировать еще две недели, которые он провел в Капуе. Папа чувствовал себя еще достаточно хорошо для того, чтобы организовать торжественный въезд в Неаполь 27 октября, но там он слег. Новости об успехе Манфреда были для него чудовищным ударом. 7 декабря Папа Иннокентий умер, осознавая крах всех своих начинаний. Он сломил власть Гогенштауфенов, разрушил унию Германии и Италии, не оставив ни малейшей надежды на ее возрождение. Но он оставил в руках представителя ненавистного рода прочную власть в Италии. Учитывая дальнейшее развитие, Папа сделал только хуже. Немногие Папы были столь постоянны, столь неутомимы и столь отважны в сражении за дело папства, но и немногие были столь неразборчивы в средствах, столь вероломны и столь настойчивы в готовности использовать духовное оружие в суетных мирских целях. Иннокентий усмирял светских правителей, но его методы не делали чести ни ему, ни церкви, главой которой он являлся. Он был твердым и бесстрашным защитником папства, но папство заслуживало более благородного защитника.31
Кардиналы, собравшиеся на конклаве после смерти Иннокентия, знали о его ошибках и о грозящих им опасностях. Они выбрали Папой прелата, известного своей мягкостью и набожностью. Но Ринальдо Конти, кардинал-епископ Остии, который взошел на папский престол через пять дней под именем Александра IV, не мог в одночасье отказаться от политики Иннокентия, и у него не была выработана своя политика взамен прежней. Он позволил советникам Иннокентия направлять его, хотя кардиналы-племянники покойного Папы утратили свое влияние, и политикой папства теперь руководил коварный и честолюбивый флорентиец, кардинал Октавиан дельи Убальдини.32
Новый
Папа продолжал искать иностранного
принца, чтобы передать ему власть
над Сицилийским королевством. Но
первоочередной задачей было
уничтожение Манфреда. Александр IV сумел
заручиться поддержкой городских
коммун Сицилии и Южной Италии,
пообещав, что, находясь под его
сюзеренитетом, они сохранят
свободу; однако это заверение
полностью противоречило обещаниям
кандидатам на сицилийский трон.
Манфред обнаружил, что апулийские
города не хотят ему подчиняться.
Южнее Пьетро Руффо планировал
превратить свое наместничество на
Сицилии и в Калабрии в
наследственное княжество со
столицей в Мессине, но он находился
между двумя огнями. Манфред с
помощью искусных дипломатических
интриг вытеснил его из Калабрии, а
сицилийские города тем временем
провозгласили себя объединенной
республикой под эгидой Папы.
Манфред послал известие в Германию
к баварскому двору и, публично
объявив, что считает Конрадина
своим королем, убедил герцога
Людвига, дядю и опекуна Конрадина,
признать его регентом. Бертольд
Гогенберг все еще оставался при папском
дворе. В мае
Манфред
теперь господствовал в Южной
Италии. На следующий год он
завоевал Терра ди Лаворо, жители
которой устали от войны и потеряли
надежду на папство. Затем, устроив
убийство находившегося в изгнании
Пьетро Руффо и ослепив Бертольда и
его братьев, он отправил своего
дядю, Манфреда Ланца, отвоевывать
Сицилию у коммун. Сицилийская знать
была недовольна существующей
системой городских коммун, и
большинство сицилийцев надеялось,
что при местном правителе, не
связанном с Германией, вернется
золотое время нормандских королей.
В
Манфреду теперь было двадцать шесть лет. Он был ярким и талантливым человеком. Он уже успел проявить свою неразборчивость в средствах, вероломство и жестокость, но его обаяние заставляло забыть о недостатках. Манфред унаследовал отцовскую любовь к познанию и интерес к наукам, и он обладал тем же даром очаровывать собеседника, но без неудобной склонности к нарушению условностей. Вдобавок он был необычайно хорош собой. Тем не менее Манфред не был таким великим человеком, как его родитель. Несмотря на всю энергию, проявленную им на войне и дипломатическом поприще, ему была присуща определенная леность в повседневных заботах управления. Он с готовностью позволял своим друзьям и, в особенности, своим родственникам из рода Ланца выполнять его обязанности и вскоре обнаружил, что те ведут его по пути, которого мудрее было бы избежать. Если бы Манфред удовольствовался судьбой своих нормандских предков и правил на Сицилии, удерживая под властью южную часть материка, действуя во имя процветания своих подданных, он смог бы основать династию, которой суждена была бы долгая жизнь. Папство смирилось бы с его существованием и оставило бы Манфреда в покое. Но Ланца пришли с севера Италии и получили во владение земли в Ломбардии. Они побуждали Манфреда стать королем не только Сицилии, но и всей Италии, и сам он, зная, что в его жилах течет кровь Гогенштауфенов, не забывал, что его отец был императором.35
Правление Манфреда в южном королевстве было достойным. Он хотя и отобрал муниципальные вольности у городов, но зато обеспечил им справедливую власть; возродил Неаполитанский университет и вернул ему денежное содержание; основал новые города, как, например, Манфредония под Монте Гаргано. Но для самих сицилийцев он принес лишь разочарование. После коронации Манфред редко бывал на острове, предпочитая жить в Неаполе или в Лучере в окружении своих сарацинских солдат. Остров снова начал превращаться в придаток к материку, политика уводила Манфреда все дальше на север, а с Сицилии утекали деньги и люди на военные нужды. Поэтому сицилийский сепаратизм, который всегда был на поверхности, снова дал о себе знать.36
Манфреду
было бы трудно обуздать свои
амбиции, в то время как папство не
могло смириться с его успехом и
втягивало его в дальнейшую борьбу.
Несмотря на свою добродушную
слабость, Папа обладал немалым
преимуществом. Ему незачем было
волноваться по поводу Германии —
судьба маленького Конрадина не
беспокоила никого, кроме его
баварских родственников.
Вильгельм Голландский, антикороль,
выбранный Папой Иннокентием IV, был
признан по всей стране — во многом
благодаря тому, что его считали
недостаточно умелым правителем, а
следовательно, неспособным
вмешиваться в дела местных князей.
После смерти Вильгельма
Голландского в январе
В
Италии, невзирая на колоссальные
долги, Папа убедил гвельфских
банкиров во Флоренции предоставить
ему займ и таким образом получил
полную поддержку этого
могущественного сообщества. Будучи
римлянином по происхождению,
Александр больше подходил
римлянам, чем прежде — Иннокентий,
и в ноябре
Манфреда
это не испугало. Весной
Амбиции
Манфреда все росли. Он не оставлял
мысли об империи и рассчитывал,
что когда-нибудь сможет добиться
власти над Германией. А между тем он
мог бы действовать и в другом
направлении и стать предводителем
католического христианства.
Глава
III
НА
ДРУГОЙ СТОРОНЕ АДРИАТИКИ
Кто бы ни правил Южной Италией и Сицилией, ему следовало принимать во внимание не только полуостров, но также и соседние страны, отделенные узкой полосой морей. Нормандские короли стремились установить контроль над Тунисом в Африке, но они еще больше хотели распространить свою власть за Адриатическое море на Балканы и на принадлежащие Византии полуостров и острова. Фридрих II был слишком занят своими делами в Центральной Европе для того, чтобы продолжать их политику. Его целью было сохранить союзников за морем, с тем чтобы его враги-паписты не создавали ему там проблем. Манфред, упрочив свою власть в Италии, вернулся к нормандским традициям. У него не было никаких видов на Африку, поскольку эмиры из династии Хафсидов в Тунисе были к нему сильно расположены. Но бывшие земли Византии на Балканах открывали широкий простор для его амбиций.
Четвертый
крестовый поход
Византийские
греки уже оправились от потрясения,
вызванного падением
Константинополя. Появились три
новых греческих государства. На
востоке бывшей Византийской
империи одна из ветвей великой
династии Комнинов обосновалась в
Трапезунде. Но правитель
Трапезунда, хотя он называл себя
императором и Великим Комнином и
обладал большим состояниям благодаря
своим серебряным рудникам и
географическому положению своей
столицы, расположенной в конце
торгового пути из монгольской Азии,
мог только номинально
провозгласить себя наследником
прежней вселенской империи, его
власть была слишком локальной и не
распространялась за пределы узкой
полоски черноморского побережья
Анатолии.41 В Эпире, на западе,
было основано княжество одной из
ветвей императорской династии
Ангелов. В 1224г. деспот Эпирс-кий
отобрал Фессалоники у итальянской
династии, обосновавшейся там после
Четвертого крестового похода, и
присвоил себе титул императора.42
Но отвоевать им Константинополь
мешало самое сильное из новых
греческих государств, Никейская
империя, возникшая стараниями
Феодора Ласкаря, зятя одного из
последних византийских
императоров, Алексея III Ангела.
Феодор собрал вокруг себя самых
выдающихся беглецов из
Константинополя, включая патриарха
Православной церкви, чье
присутствие придавало его двору
законность. Феодор к моменту своей
смерти в
Ангелы
были усмирены, но не сломлены.
Незаконнорожденный принц из их
династии, Михаил II, все еще правил в
качестве деспота Эпирского землями,
простиравшимися между Албанскими
горами и Коринфским заливом, и был
готов искать друзей среди франков,
которые могли помочь ему усмирить
никейцев. У него был большой выбор
союзников. На юге Эпира и Фессалии
было несколько мелких греческих,
французских и итальянских сеньорий,
кроме того — герцогство Афинское
под управлением бургундцев из рода
Ла-Рош со столицей в Фивах. Весь
Пелопоннес был под властью князя
Ахейского, Гильома Виллардуэна,
принявшего власть после смерти
своего брата Жоффруа II в
Манфреду,
наблюдавшему за развитием событий
из-за Адриатического моря, эта
сложная ситуация представлялась
многообещающей. Его отец Фридрих II
всегда был в хороших отношениях с
Никейским императором Иоанном
Ватацем, с которым их сближала
общая вражда с папством. Манфред же
планировал вести более
продуманную политику. Латинская
империя была очень дорога Папе.
Иннокентий III не одобрял Четвертый
крестовый поход, но был доволен его
итогом. Рим долго еще пребывал в
ярости из-за отказа Константинопольской
патриархии признать его главенство.
После
Коалиция
против Никеи была создана Михаилом
Эпирским. Ему подвернулся удобный
случай после смерти Иоанна Ватаца.
Сын Иоанна, Феодор II, хоть и был
самым образованным правителем
своего времени, отличался
упрямством и недальновидностью. Он
оттолкнул от себя Церковь своим
догматизмом, а аристократия —
своей тиранией. Сначала Михаил
действовал осторожно. Он
согласился с тем, что следует заключить
брак между его сыном и наследником
Никифором и дочерью Феодора Марией,
и нехотя позволил этому браку
состояться. Но когда Феодор
оказался втянут в войну с болгарами,
Михаил начал потихоньку
вторгаться на его земли. Феодор,
однако, заключил с болгарами
выгодный мирный договор и поручил
своему самому сильному
военачальнику, Михаилу Палеологу,
захват Эпира. Никейские войска
прошли через север страны и
захватили крупный морской порт
Дураццо. Михаил Эпирский начал
утрачивать свою решимость, когда
Феодор внезапно отозвал Палеолога
в Никею, лишил его своей милости и
умер несколько месяцев спустя в
августе
Когда
на Никейский трон взошел ребенок, у
Михаила Эпирского оказались
развязаны руки. У него были две
красивые дочери. Одну из них, Анну,
Михаил отдал в жены дважды вдовцу,
но так и оставшемуся бездетным,
Гильому Ахейскому, дав за ней в
качестве приданого часть областей
Фессалии, отобранных у никейцев.
Вторую дочь, Елену, он предложил в
жены Манфреду; вместе с женой-красавицей
сицилийский король получил
приданое, состоявшее из острова
Корфу и городов Бутринто, Авлона и
Субото на материке. Манфред, чья
первая жена, Беатриса Савойская,
умерла за год или за два до того,
оставив после себя только дочь, с
радостью принял соблазнительное
предложение. Он уже занял несколько
важных плацдармов на Эпирском
побережье, и брак узаконил бы его
положение, В начале
Оставалось
совсем немного до того, чтобы
союзники начали действовать.
Малолетнему никейскому императору
был нужен регент. У него не было
никаких близких родственников,
кроме сестры, которая была едва
старше его. Его мать умерла, а его
отец был единственным ребенком в
семье. В империи был один человек,
несомненно достойный править. Это
был Михаил Палеолог, самый
успешный военачальник последних
лет. И отец и мать Михаила
принадлежали к великому роду
Палеологов. Его отец вел свой род от
свояченицы Алексея I Комнина, а
бабушка его матери была старшей
дочерью Алексея III Ангела. Жена
Михаила Палеолога, Ирена Дукена,
была внучатой племянницей Иоанна III
Ватаца, но сам Михаил не питал
теплых чувств к семье Ватацев.
Император Феодор не доверял
честолюбивому полководцу и однажды
уже заставил искать убежища при
турецком дворе. Впоследствии, когда
Палеолог был восстановлен в
прежней должности и одержал
немало побед над Михаилом Эпирским
в
Неразборчивость
в средствах на пути к трону, жестокость
и вероломство по отношению к своему
юному соправителю навсегда
запятнали репутацию Михаила
Палеолога. И все же, получив
верховную власть, он оказался
справедливым и сильным монархом,
требовательным к себе и
великодушным к своим недругам, и
прежде всего — преданным империи.
Латиняне вскоре поняли, что в его
лице столкнулись с непримиримым врагом,
а Михаил Эпирский был сильно
обеспокоен. Первым делом деспот
Эпирский вторгся в Македонию, где
был хорошо принят греческим
населением, которое, казалось,
предпочитало эпирское правление
никейскому. Затем, боясь, что Михаил
Палеолог нанесет ответный удар, он
призвал на помощь своих зятьев.
Михаил Палеолог не хотел
ввязываться в столь трудную затею
вскоре после своего сомнительного
с моральной точки зрения
восшествия на престол. Он знал, что
не сможет достичь мира с Михаилом
Эпирским, но попробовал лишить его
союзников. В Ахейю был отправлен
посол, уполномоченный в случае
необходимости предложить князю
небольшие территориальные уступки,
но Гильом, рассчитывавший получить
больше земель с помощью войны,
ответил посольству оскорблениями.
К Манфреду император отправил
одного из своих самых доверенных
посланников, Никифора Алиатта.
Манфреду напомнили о давнем союзе
его отца с Никеей и предложили
вернуть ему его сестру, вдовствующую
императрицу. Однако Манфред,
который также надеялся извлечь
большую выгоду из войны, просто
заключил посла в тюрьму, где тот
провел два года. Одновременно
император Никеи написал Папе, намекая,
что будет работать над
объединением христианских
церквей, если Рим остановит войну.
Папа Александр, пребывавший в
замешательстве, не ответил ему.50 Неудача,
которую император Михаил потерпел
в попытке расстроить союз своих
врагов, не повергла его в
чрезмерное отчаяние. Когда
латинский император Балдуин,
который не без причины был
обеспокоен амбициями Гильома
Ахейского и, возможно, считал
Михаила опаснее, чем тот был на
самом деле, написал в Никею с
предложением мира в обмен на
территориальные уступки, его
посла встретили насмешками. Тем
временем брат Михаила,
севастократор Иоанн Палеолог, был
отправлен на запад с такой большой
армией, какую только ему могли
выделить. Она состояла не только из
греческого ополчения, но также из
славянских и турецких верховых
наемников и, возможно, нескольких
наемных рыцарей с запада. Весной
Союзники поспешили на помощь деспоту. Из Италии Манфред прислал четыреста отлично вооруженных всадников, набранных из германских войск, вместе с каким-то количеством сицилийских пехотинцев. Они высадились в Авлоне и присоединились к эпирской армии в Арте. Гильом Ахейский собрал гораздо большую армию, объявив феодальный призыв во всем своем княжестве. Он лично возглавил армию, переправился через Коринфский залив, высадился в Навпактосе и присоединился к своим союзникам на пути в Арту. Объединенная армия двинулась в Талассин, район Фессалии, где жили валахи. Там к деспоту присоединился его внебрачный сын Иоанн, женатый на дочери вождя валахов, и привел с собой всех валахских воинов, кого смог собрать. К Гильому на помощь пришли отряды различных франкских сеньоров из Северной Греции и войска из Афинского герцогства, которое он подчинил за год до описываемых событий. Затем союзники повернули на север, уверенные в победе. Они уже начали понимать, что вскоре будут оспаривать друг у друга завоеванные земли, но в обстановке взаимной доброжелательности решили бросить жребий.
Враждующие армии встретились на равнине Пелагонии, у деревни Ворилла Лонгос, неподалеку от города Монастир. Через эту равнину проходила Виз Игнатия, большая дорога из Константинополя и Фессалоники в Дураццо; Иоанн Палеолог ждал там, чтобы иметь возможность связаться и со своим братом, императором, и с востоком. Он получил указания избежать прямого столкновения с вражеской армией, которая численностью превосходила его войско, и попытаться дипломатическими средствами расстроить союз. Ему это удалось. Что произошло на самом деле, остается неясным, разные хроники дают разные версии. По какой-то причине, когда битва была уже неизбежной, возникла ссора между эпирскими войсками и армией Гильома Ахейского. У Палеолога, несомненно, были шпионы в эпирском лагере, готовые воспользоваться любой ссорой в неприятельской армии. Если верить слухам, незаконный сын деспота Иоанн был недоволен ухаживаниями одного из ахейских сеньоров за его прекрасной валахской супругой и не получил никаких извинений от князя Гильома. Эпирцы и так уже нервничали из-за амбиций Гильома, и разъяренный незаконный сын деспота без труда убедил своего отца и брата порвать с латинцами. Похоже, что Иоанн Палеолог подкупил эпирских военачальников и, возможно, отправил послание с обещанием не преследовать эпирцев, если те отступят. Кроме того, в стычках, которые уже случались, франкская конница сильно проигрывала по сравнению с легковооруженными никейскими всадниками. За ночь деспот с семьей и теми войсками, которые мог собрать, выскользнул из союзного лагеря и бежал в сторону Эпира, а когда рассвело, остатки эпирской армии разбежались. Воины Гильома и Манфреда, проснувшись, обнаружили, что греческие союзники исчезли. Иоанн Палеолог напал прежде, чем ахейцы и сицилийцы успели подготовиться к бою. Не попытавшись оказать сопротивление, они стремительно бежали с поля битвы. Многие из них были убиты, но намного больше — попали в плен, в том числе — большинство франкских сеньоров. Сам Гильом был найден несколькими днями позже, когда прятался в стогу сена. Он был переодет, но его узнали по необычайно выступающим зубам.51
Битва
в Пелагонии была решающим событием
в истории Ближнего Востока. Она
сделала неотвратимым отвоевание
Константинополя византийцами и
гибель Латинской империи, показав
при этом, что победителем будет
император Никеи, а не деспот Эпира.
И она положила начало возвращению
Греции византийцам. Латинский
император Балдуин, хотя и относился
к князю Гильому почти с таким же
подозрением, как и к Палеологу,
понимал, что теперь император
Михаил представляет для него
значительно большую опасность.
Балдуин тут же сделал отчаянную
попытку обратиться за помощью к
Папе и вскоре решил, что наиболее вероятный
его светский покровитель — король
Манфред. Но Папа и Манфред были
слишком заняты своими ссорами друг
с другом. Ни один из них не ответил
на его просьбу. Лучшее, что Балдуин
мог сделать после того, как Михаилу
едва не удалось убедить франкского
предателя открыть городские ворота,
было заключение годового перемирия
с Никеей в августе
Император Михаил расположился в деревне Метеоры, возле Тиатиры, приблизительно в двухстах милях к югу. Его сестра, Евлогия, находилась вместе с ним. Один из ее камергеров был как раз на византийском побережье, рядом с Константинополем, когда узнал новость о взятии Константинополя. Он поскакал во весь опор и доложил своей госпоже о случившемся на следующее утро. Император спал, когда сестра вошла к нему крича, что Константинополь теперь принадлежит ему. Едва проснувшись, он не мог поверить, и ей пришлось трясти его и повторять, что Господь дал ему Константинополь, пока он не понял, что произошло. Тогда Михаил Палеолог приготовился к поездке в свою новую столицу. На полпути, в Ахиросе, ему вручили знаки императорской власти, ранее принадлежавшие Балдуину. 4 августа Михаил пересек Мраморное море и торжественно въехал через Золотые Ворота, проехав по старой дороге для императорских шествий через весь город к собору Премудрости Господней, где и возблагодарил Бога. Через несколько дней он был торжественно коронован патриархом в этом же соборе, который был традиционным местом коронации византийских императоров.52
Став
владыкой Константинополя, Михаил
Палеолог, называвший себя «вторым
Константином», стремился укрепить
свою власть над Грецией. Он все еще
удерживал у себя в плену князя
Ахейского и других сеньоров,
которых пленил в битве при
Пелагонии. Осенью
Это
был пик успеха Михаила Палеолога в
Греции. Гильом вскоре был
освобожден от своей клятвы Папой и
благополучно отразил попытки
византийцев расширить
подвластные им земли. Не принял он
также мирное предложение
императора, в соответствии с которым
наследник Михаила Андроник должен
был жениться на старшей дочери
князя и его наследнице. Прошли
десятилетия, прежде чем византийцы
смогли извлечь реальную пользу из
своих крепостей на Пелопоннесе. Не
большего успеха добился Михаил Палеолог
в своих последующих нападениях на
Эпир. Алексей Стратегопул,
завоеватель Константинополя, был
отправлен захватить Эпир осенью
Поражение
в Пелагонии повредило престижу
короля Манфреда и лишило его
нескольких умелых воинов; подобно
всем католическим государям того
времени, он был потрясен
завоеванием Константинополя
греками. Но на самом деле это не
повлияло на его политическую линию.
Ведь он отправил своему тестю
довольно скудную помощь (в
сравнении с территорией, которую
получил в качестве приданого своей
жены), и его потери были
несерьезными. Кроме того, поражение
ставило деспота Эпира в большую
зависимость от его могущественного
зятя, особенно учитывая, что его
второй зять, Гильом Ахейский,
вернувшись из плена, не был готов
простить эпирцев за ту роль,
которую они сыграли в Пелагонии. К
концу
То был обескураживающий ответ, но бывший император Константинополя на протяжении многих лет оставался верен своей дружбе с Манфредом, отчасти просто потому, что сицилийский король действительно был ему искренне симпатичен, отчасти потому, что никто больше не мог оказать ему реальную помощь; Манфред же решил, поскольку дела в Италии дали ему передышку, отправиться в поход на Константинополь. Он был уверен, что Рим не станет более враждовать с ним после того, как он окажет такую благородную услугу католикам. Тут Манфред жестоко ошибался в отношении папства.
Глава
IV
В
ПОИСКАХ КОРОЛЯ: ЭДМУНД АНГЛИЙСКИЙ
Будь
жив Папа Александр IV, когда пал
Константинополь, просьбу
императора Балдуина о мире между
Манфредом и папством, быть может, не
оставили бы без внимания. Александр
был добродушным человеком, не
приемлющим крайние меры. Он пытался
сохранить за собой свободу
действий в сицилийском вопросе, но
не имел ни малейшего представления
о том, что делать с этой свободой. В
Риме Александр перестал чувствовать
себя в безопасности, ему пришлось
стать свидетелем того, как Манфред
приобретает все больше власти над
большей частью Италии и становится
чуть ли не национальным героем на
полуострове. Александр IV отлучил
Манфреда от церкви и, хотя его
беспокоила судьба Латинской
империи Константинополя, отказался
благословить латино-эпирский союз,
потерпевший поражение в Пелагонии.
Но все эти действия Александра ни
к чему не привели. Впрочем, будучи
человеком нерешительным, он,
возможно, прислушался бы к просьбе
императора Балдуина. Кардинал
Октавиан, которым Александр
восхищался и у которого часто
спрашивал совета (хотя и не доверял
ему полностью), был за мир с
Гогенштауфенами и поддержал бы
Балдуина. Но Папе Александру IV не
пришлось принимать столь важное
решение. Он умер в Витербо 25 мая
Папа
Урбан сильно отличался от своего
предшественника. В миру этого
уроженца Франции звали Жак
Панталеон, отцом его был сапожник
из Труа. У нового Папы за плечами
было более шестидесяти лет жизни и
большой опыт управления делами
Церкви. Получив блестящее
образование в школе при
кафедральном соборе Труа, а затем
в Парижском университете, Урбан
провел молодые годы во Франции и
попал в поле зрения Папы
Иннокентия IV на Лионском Соборе в
Оставив,
хоть и неохотно, проблемы Святой
Земли неразрешенными, Папа
моментально сосредоточился на
действиях против Манфреда в Италии.
Манфред был в зените власти. Он
господствовал над всей Италией.
Брак с Еленой Эпирской обеспечил
ему плацдарм на Балканах. В
Манфред недооценивал способности нового Папы и его ненависть к Гогенштауфенам. Урбан IV первым делом назначил четырнадцать новых кардиналов — несколько из них были французами, как и он сам, — чтобы обеспечить себе поддержку коллегии.60 Затем он приступил к восстановлению контроля над папским наследством. В этом Урбан не вполне преуспел. Ему не удалось вытеснить семью Вико, друзей Манфреда, с их земель в Бьеде и Чивитавеккье; не удалось ему также укрепить свою власть над Римом настолько, чтобы обосноваться там, так что он предпочитал жить в Ви-тербо и Орвьето. Но Урбану удалось вернуть некоторые владения, отчужденные при его предшественнике, и значительно усилить свою власть в Лации и Марке. В Тоскане Урбан упрочил связи с флорентийскими и сиенскими банкирами, тем самым поставив в затруднительное положение правителей-гибеллинов в обоих городах; и он сумел вывести Пизу из-под контроля гибеллинов. Урбан не сокрушил власть Манфреда в провинции, но ослабил ее. Двигаясь далее на север, папство вернуло влияние в Ломбардии, когда Урбан назначил энергичного епископа, Отто Висконти, в ключевую епархию этого региона — Миланское епископство. А предводителю гвельфов, Аццо д'Эсте, который был в немилости при Александре IV из-за заигрывания с Паллавичини и гибеллинами, было вновь дарована папская милость, и его внук и наследник, Обиццо, был вскоре назначен главой возрожденной лиги гвельфов. В Тоскане же помощники Манфреда хоть и не были низложены, но власть их была несколько ослаблена.61
Однако
подлинным решением проблемы было
лишить самого Манфреда основных
источников его могущества — Южной
Италии и Сицилии. Любое недовольство
раздувалось папскими агентами,
которые имели некоторый успех на
самой Сицилии. Островитяне разочаровались
в Манфреде, который редко приезжал
к ним, предпочитая держать свое
правительство и проводить свой
досуг на континенте. В
Папа
считал, что король Сицилии был его
вассалом. Именно Папа пожаловал
земли Южной Италии и Сицилии
нормандским захватчикам в XI в.
Рожер II, конечно, присвоил себе
корону без благословения Папы, но
понтифик в конце концов признал
законность его титула. В глазах
Рима Фридрих II был законным наследником
сицилийского престола только
потому, что Папа признал его
таковым; и в
Ричард Корнуэльский сразу отклонил предложение. Он сказал, что это все равно что предложить человеку луну при условии, что тот сковырнет ее с неба. Карл, казалось, пребывал в нерешительности; впрочем, он мог ждать указаний от короля Людовика. Людовику эта идея не нравилась, поскольку он считал сына Фридриха, Конрада, полноправным королем Сицилии, а его мать, королева Франции Бланка, имевшая огромное влияние на своих сыновей, была глубоко шокирована попыткой Папы раздуть из его ссоры с Гогенштауфенами Священную войну. Так что Карл тоже отказался.63
Смерть
Конрада и узурпация власти
Манфредом изменили ситуацию.
Король Людовик не любил Манфреда,
считая его нечестивым захватчиком,
но был убежден, что трон по праву
принадлежит юному Конрадину.
Генрих Английский не испытывал
подобных колебаний. Ричард был еще
менее заинтересован в деле, чем
раньше, поскольку теперь стремился
стать императором и вкладывал всю
свою энергию и деньги в Германию.
Но у Генриха III был младший сын,
Эдмунд, которого Генрих тоже хотел
бы видеть королем. Мысль о том,
чтобы предложить кандидатуру
Эдмунда, казалось, пришла Генриху в
голову еще тогда, когда Ричард отклонил
предложение, а Конрад был еще жив;
но Альберт Пармский между тем уже
отправился к французскому двору, и
только к следующей осени Карл
Анжуйский, получив к тому времени
жесткие указания от короля
Людовика, ответил Папе четким
отказом. Генрих III же был озабочен
правами своего племянника, Генриха
Гогенштауфена, к которому питал
некоторую привязанность. Но Карл в
конце концов отвел свою
кандидатуру 30 октября
Дальновидность
Альберта подтвердилась. Иннокентий
не хотел сразу же посягать на права
малолетнего Конрадина; он также
полагал, что есть вероятность
договориться с Манфредом, который
теперь контролировал юг
королевства. Последовала краткая
передышка, когда Иннокентий
пришел к соглашению с Манфредом
осенью
Ситуация
все еще оставалась неясной, когда в
декабре
Король
Генрих не обращал внимания на ропот
своих подданных. Он уже заключил
соглашение с королем Альфонсом
Кастильским, который был его
соперником в Гаскони и имел
притязания на наследство Гогенштауфенов
по материнской линии. Старший сын
Генриха Эдуард был обручен со
сводной сестрой Альфонса,
Элеонорой. Между Англией и Францией
велась долгая война, которая была
теперь прервана перемирием, достигнутым
благодаря посредничеству Папы и
желанию Людовика Святого жить в
мире со своими соседями. В декабре
Кандидатура
была утверждена новым Папой Александром
IV. Иннокентий IV мог бы усомниться в
разумности возведения
девятилетнего мальчика на сицилийский
престол и усмотреть
дипломатическую выгоду в
соблюдении прав Конрадина.
Александр был не столь дальновиден.
Он был уверен, что английский
король богат, и радовался, что тот
сможет оплатить расходы на
неизбежную войну против Манфреда.
Генрих все еще был связан обетом —
ему надлежало отправиться в
крестовый поход в Святую Землю, и
выступить он должен был в середине
лета
Ослепленный
гордыней, Генрих III не отдавал себе
отчета в том, что за обещания он
дает. Сумма, которую требовал Папа,
была за пределами возможного для
Англии. Фактически он принял на
себя долги папства, не задумавшись
о том, где добыть эти деньги. Его подданные
были не настолько слепы. Светские
аристократы отказали ему в
поддержке, и тут Генрих ничего не
мог поделать. Духовенство занимало
более слабую позицию. Епископ
Херефорда, посол Генриха при папском
дворе, уже заложил собственность
некоторых английских монастырей,
как гарантию займов, полученных у
итальянских банкиров именем Папы.
Чтобы выкупить заложенную
собственность, следовало взимать
налог со всего церковного
имущества в размере одной десятой в
течение трех лет или пяти лет, если
трех окажется недостаточно. Налог
должны были собирать папские
чиновники под руководством Ростана
Массона; любому капитулу или
монастырю, отказавшемуся платить,
грозили интердикт и анафема. Гул
протеста услышал даже витавший в
облаках король, а Ростан начал
понимать, что таких денег просто
нет в наличии. Гигантские суммы
были отправлены в Италию, но долг,
казалось, оставался все таким же
огромным. Михайлов день
Даже король Генрих понял, что зашел слишком далеко. В апреле он приостановил все выплаты папским агентам, заявив, что еще не решил окончательно, продолжать ли сицилийское дело. В конце июня он назначил послов и, наделив неограниченными полномочиями, направил их в Париж, чтобы заключить постоянный мир с королем Людовиком, а оттуда в Италию — чтобы изложить альтернативные предложения Папе. Генрих полагал, что имеет право рассчитывать на смягчение условий, поскольку Папа не сделал ничего, чтобы предотвратить укрепление власти Манфреда в Италии, и теперь воевать с ним будет более сложно. В свете вышеизложенного Генрих спрашивал Папу, не будет ли более разумным решением заключить мир с Манфре-дом на основе раздела Сицилийского королевства; или же понтифик возмется самостоятельно оплатить половину военных расходов в обмен на половину королевства. Если же эти условия окажутся неприемлемыми, Генрих был готов отозвать кандидатуру Эдмунда при условии, что будет освобожден от всех обязательств, и тогда Папа сможет заняться поисками нового кандидата. Поскольку послы задержались в Париже, эти предложения были доставлены в Рим Ростаном Массоном, который полностью разделял мнение английской стороны и, возможно, даже сам составил письма к Папе.68
Папа
Александр был в ярости. С
упрямством слабого человека он
решительно не хотел уступать
Генриху. Из-за успеха Манфреда (виноват
в котором он во многом был сам)
Александру тем более не хотелось
выпускать англичан из своих
тисков. Ростан впал в немилость;
ему было позволено вернуться в
Англию, но ответ Папа передал через
нового легата, нотария Арло-та.
Александр сделал одну маленькую
уступку: Генриху разрешалось не
выплачивать остаток обещанных
денег, что составляло значительно
больше половины изначально
указанной суммы, до лета 1258г.; между
тем английские послы должны были
выступить гарантами по займам на
покрытие части долга. Генриху же
далее было приказано заключить мир
с Францией и прибыть на Сицилию не
менее чем с 8500 вооруженными людьми
к 1 марта
В
апреле
Сицилийское
дело теперь вылилось в более широкий
спор между монархией и
аристократией Англии. Генрих III все
еще питал определенные надежды.
Более того, через три года он все
еще считал, что, если бы не
вмешательство знати в
Долгое
заигрывание с Англией никак не
помогло в решении проблемы
сицилийской короны. Папа получил
некоторое количество наличных
денег, но Манфред тем временем
укрепил свое положение в Италии.
Вся эта история важна, главным
образом, из-за влияния, которое она
оказала на внутренние дела Англии,
ибо она привела к «войне баронов»,
спорам вокруг конституции и
событиям, омрачившим последние
годы правления короля Генриха.
Сейчас кажется нелепым, что королю
Генриху вообще могла придти в
голову мысль посадить сына на
итальянский трон. Ни сам Генрих, ни
его страна не могли позволить себе
этот грандиозный проект; и Папа
должен был гораздо раньше понять,
что зря теряет время. Но немногие
средневековые монархи
задумывались о финансовых вопросах.
Да и брат Генриха Ричард, который
считался одним из мудрейших людей
своего времени, полагал, что
достаточно богат, чтобы затеять еще
более честолюбивый проект —
сделаться императором, и ему это
почти удалось. Если бы подданные
Генриха оказались более
сговорчивыми и оплатили бы войска
для похода, а Папа был бы не так
ненасытен в своих требованиях,
Эдмунд мог бы стать королем Сицилии.
Манфред не был непобедим, как
показали последующие события; а в
Отказ от
английского проекта позволил Папе
заняться поисками нового
кандидата. Но Александр, как всегда,
колебался, и смерть забрала его
прежде, чем он успел принять
решение. Преемник Александра, Урбан
IV, имел более четкую программу.
Глава
V
В
ПОИСКАХ КОРОЛЯ: КАРЛ АНЖУЙСКИЙ
Папа
Урбан последние несколько лет до
своего восшествия на папский
престол провел на Ближнем Востоке.
Он не был причастен к политике
папства в Западной Европе и мог
взглянуть на нее свежим взглядом.
Как только у него появилось время
изучить историю кандидатуры принца
Эдмунда на сицилийский престол, он
понял, что эта затея неосуществима.
Генрих Ш, со своим неисправимым
оптимизмом, надеялся, что новый
Папа может изменить последнее решение
Александра, но несмотря на просьбу
английского короля, Урбан в
сентябре
Урбан
был французом, и инстинкт
подсказывал ему искать спасения
для Церкви во Франции. Король Людовик
Святой до сих пор не особенно
радовал папство в этом вопросе. Но
Урбану больше не к кому было
обратиться. С того времени, как он
был послом в Германии, Урбан
испытывал сильную неприязнь к
Гогенштауфенам: для него и речи
быть не могло, чтобы встать на
сторону Конрадина с целью
свергнуть Манфреда. В Германии
больше не было подходящей кандидатуры,
поскольку Ричард Корнуэльский,
Римский король, был слишком занят
попытками удержаться у власти, и
ему в любом случае было не до Италии,
даже если бы Папа согласился
рискнуть и объединить
императорскую и сицилийскую короны.
Из остальных западных монархов
король Хайме Арагонский был человеком
авантюрного склада, готовым
ввязаться в любое новое
предприятие, но он только что
заключил союз с Манфредом. Король
Альфонс Кастильский предложил себя
в качестве короля Сицилии, но он все
еще был кандидатом на
императорский трон и вызвал
недовольство папства своими
имперскими амбициями, подружившись
с гибеллинами Северной Италии.
Оставался только французский двор.
Весной
Король Людовик был в замешательстве. Он обещал свою поддержку английскому кандидату, но в любом случае его беспокоили наследные права Конрадина. В то же время Людовик осуждал Манфреда, который в его глазах был узурпатором и врагом Церкви. Он был настроен против Манфреда так серьезно, что готов был разорвать помолвку своего сына Филиппа с арагонской принцессой, когда узнал, что ее брат женился на дочери Манфреда. Людовик согласился на этот брак, только когда Хайме Арагонский пообещал никогда не предоставлять Манфреду военную поддержку в его конфликте с Церковью. Король Людовик некоторое время колебался. Затем, с ловкостью, едва ли совместимой с его безупречной репутацией, он пошел на компромисс: отказался от сицилийского трона для себя или для своих сыновей, но не стал возражать, когда Альберт предложил трон его брату, Карлу Анжуйскому. Обрадованный согласием Людовика, Альберт приготовился отправиться в Прованс, где находилась резиденция графа Анжуйского, когда в Париж прибыли новые письма от Папы с указанием приостановить все дела.72
Папа
переключился на другой фронт в
связи с прибытием к папскому двору
бывшего латинского императора
Балдуина. Балдуин приехал в Витербо
от Манфреда, которого он считал
единственным государем, способным
восстановить Латинскую империю
Константинополя. Теперь настал
черед Папы растеряться. Возвращение
Константинополя было для него
делом особой важности, и ему было
искренне жаль Балдуина. Папа
отказался дать прямой ответ на
письма Манфреда, привезенные
императором: он не мог заставить
себя с такой готовностью прийти к
соглашению с отлученным от церкви
захватчиком, но сразу же отвечать
отказом ему тоже не хотелось. Папе
не пристало тратить все свои силы
на войну в Италии, когда
католическому христианству на
востоке грозила опасность. К тому
же надо было принимать в расчет не
только Константинополь:
государства, основанные
крестоносцами в Сирии, где Урбан
когда-то жил и трудился, были под
угрозой из-за усиления египетских
мамлюков. Когда в
Многим
казалось, что дипломатия Манфреда
увенчалась успехом. Один
англичанин написал домой из
Витербо, что согласие между
сицилийским королем и папством
близко.74 До Константинополя
дошло известие о том, что Папа
освободил Гильома Ахейского от
клятвы верности, которую тот принес
византийскому императору Михаилу
Палеологу, и в Константинополе
решили, что это произошло из-за
вмешательства Манфреда.
Византийский император испугался,
что весь Запад объединился в
большой союз против него.75
Его беспокойство было
преждевременным, поскольку у Папы
имелись на этот счет свои
соображения. Папа отправил
послание с требованием, чтобы
Манфред явился к нему лично или
прислал доверенное лицо к папскому
двору до 1 августа
Папа должен был действовать осторожно. Король Людовик страстно мечтал отправиться в крестовый поход на Восток, и император Балдуин поехал в Париж, чтобы использовать свое влияние на короля. Урбан продолжал действовать так, будто крестовый поход был его главной целью. Хотя про себя он уже начал сомневаться, будет ли соглашение с Михаилом Палеологом с целью объединения двух земель менее выгодным, чем возвращение Латинской империи, он все же официально отказался иметь дело с греками. Но Урбан дал Людовику понять, что, по его мнению, на Манфреда нельзя полагаться и, если крестовый поход будет успешным, на сицилийский престол должен взойти более верный сын Церкви.78
Людовик
Святой позволил себя убедить,
несмотря на просьбу Балдуина. В мае
Император Балдуин, на которого рассчитывал Манфред, был в отчаянии. 2 июля он написал Манфреду из Парижа, что Папе удалось убедить короля Людовика в неискренности попыток Манфреда к примирению. Балдуин советовал Манфреду отправить надежного посланника в Париж с письмом к королю Людовику, чтобы убедить того в своей истовой вере, и с еще одним — к французской королеве, которая, как заметил Балдуин, очень не любила графа Анжуйского. До Манфреда это письмо не дошло, оно было перехвачено подеста Римини, который переслал письмо Папе. Папа прочел письмо и отправил его обратно через Альберта Пармского в Париж, чтобы письмо прочел Людовик. Людовик был глубоко потрясен, узнав, что Балдуин, состоявший у него на содержании, плетет интриги за его спиной. Герцог Бургундский, которого Балдуин склонил на свою сторону, посулив королевство Фессалоникское после восстановления империи, не смог повлиять на короля; королева Маргарита тоже утратила всякое влияние при дворе, поскольку она оскорбила короля своей ненавистью к его брату.80
Получив согласие своего брата, Карл поспешил принять проект договора, предложенный Папой. Его послы тут же отправились в Орвьето, где в тот момент жил Папа, с письменным согласием Карла. 26 июня Урбан подписал буллу с обещанием соблюдать свою сторону договора. Дата ратификации договора неизвестна. К концу июля Карл Анжуйский был признан защитником Церкви.
Условия
договора были более выгодны Папе,
нежели Карлу. Новый король Сицилии
должен был отказаться от
присвоенной нормандскими
правителями должности папского
легата в своем королевстве. Он не
мог распоряжаться ни назначениями
на церковные посты, ни делами,
попадающими под церковную
юрисдикцию, не мог собирать налоги
с духовенства, не мог он также
использовать традиционное право
королей получать доход с вакантной
епископской кафедры. Он не только
не мог претендовать на
императорский престол, но также не
мог занимать никакой пост в
императорской части Италии или во
владениях папства, не мог конфисковать
ни целый лен, пожалованный короной,
ни часть лена, ни каким-либо другим
образом уменьшить его размеры и
стоимость. Ему надлежало
обеспечить достойное правление,
подобно тому, что было при короле
Вильгельме II — «добром короле
Вильгельме» (как гласило предание),
— и не следовало взимать чрезмерные
налоги. Если Папа решит сместить
его, Карл не должен был требовать
дальнейшего подчинения от своих
вассалов. Вдобавок ко всему граф
Анжуйский должен был принять на
себя остаток английского долга
папству, выставлять на службу Папе
триста рыцарей или кораблей по
первому требованию и платить
папству ежегодный налог в
То, что Карл Анжуйский все же принял эти условия, показывало, насколько велики были его амбиции. Молва приписывала его согласие стать сицилийским королем влиянию жены. Беатриса Прованская завидовала своим сестрам, которые теперь были королевами Французской, Английской и Римской. Когда они в последний раз встречались, Беатрисе пришлось, как простой графине, сесть за стол для людей более низкого звания на торжественном обеде, и это горько ее обидело. Она тоже хотела стать королевой. Но Карл был не из тех, кто потакает женским прихотям. Он стремился взойти на престол не меньше, чем его жена.82
Карл
родился в начале
Обделенный любовью семьи, Карл с юных лет привык полагаться только на себя. Он вырос высоким и мускулистым юношей, с темно-оливковой кожей, унаследованной от кастильских предков, и длинным носом — от Капетингов. Карл был прекрасно сложен; от матери он унаследовал ее энергию. Карл получил хорошее образование и никогда не утратил уважения к учению и любви к поэзии и искусству. Но он унаследовал свойственный его семье аскетизм и всегда мог отказаться от удовольствий во имя более высокой цели. Но если аскетизм короля Людовика проистекал из его искренней набожности, то аскетизм Карла был средством к удовлетворению жажды власти. Его благочестие было по-своему искренним, но в основном выражалось в уверенности, что Господь избрал его своим орудием.83
Семья
хоть и не осыпала Карла
проявлениями родственной любви,
зато одарила его немалыми материальными
благами. Еще до его рождения
умирающий отец завещал Карлу (при
условии что родится мальчик)
богатые апанажи[9]
Анжу и Мэн. Только в 1247г., в возрасте
двадцати лет, Карл вступил во
владение этими двумя графствами,
но за год до того его мать и брат
устроили его брак с богатой
наследницей, Беатрисой Прованской.
Беатриса была младшей из четырех
прекрасных дочерей Раймонда-Беренгария
IV, графа Прованса и Форкалькье. Из
ее сестер Маргарита вышла замуж за
короля Людовика в
Карла
не испугала враждебность семьи его
жены. Беатриса предпочла его таким
соперникам, как Конрад
Гогенштауфен, Римский король, и
двум пожилым вдовцам — королю
Хайме Арагонскому и графу Раймонду VII
Тулузскому, и Карл оправдал ее
выбор. По закону графство
Прованское находилось в вассальной
зависимости от императора как
часть старого королевства Бургундии
и Арелата. Карл просто
проигнорировал этот факт, да и
Фридрих II не был настроен бороться
за свои права. Но последние графы
Прованские были слишком беспечны и
предоставили городам и знати
графства полную свободу. Карл был
настроен покончить с подобным
положением дел. Когда он прибыл в
Прованс в начале
Карл
обещал отправиться в крестовый
поход со своим братом, и у него не
было времени расправиться с
мятежниками. Все, что он мог, — это
пойти на компромисс со своей тещей,
уступив ей Форкалькье и третью
часть доходов Прованса. После того
как он вместе с королем отплыл из Эг-Морта
в
К
тому времени Карл оставил надежду
приобрести владения во Фландрии.
Пока он был на севере, Провансом
управляли компетентные сенешали,
которым помогали местные епископы
и Барраль де Бо, ставший преданным
сторонником Карла. Но многие
аристократы все еще не сдавались,
руководимые Бонифацием де
Кастелланом. Вдовствующая графиня
снова устраивала беспорядки.
Марсельцы были возмущены визитами
чиновников, настаивающих на правах
Карла как сюзерена. И снова Карл
справился с врагами по одиночке. В
ноябре
После
усмирения Прованса Карл расширил
свою власть за пределами графства.
В
Дальновидный Папа мог бы испугаться, что такой энергичный и честолюбивый человек в конце концов окажется недостаточно покорным, чтобы быть хорошим защитником для Церкви. Но Папа Урбан не мог себе позволить заглядывать далеко вперед. Манфред представлял слишком серьезную угрозу. Юный Эдмунд Английский, зависимый от слабовольного отца, не подходил для того, чтобы сокрушить Манфреда, даже если бы англичане поддержали короля Генриха. Требовался человек опытный, и Урбан, как француз, предпочел, чтобы это был его соотечественник. Ему не приходило в голову, что, если германское господство в Италии, против которого так рьяно боролись его предшественники, заменить на французское, в дальнейшем это может стать угрозой для папства. Надо было избавить Италию от Манфреда, и Карл прекрасно подходил для этой задачи, особенно учитывая, что за ним были богатство Франции и поддержка короля Людовика, который обладал колоссальным моральным авторитетом в Европе того времени. Сам Людовик никогда не одобрял полностью этот проект, но был согласен, что Манфред представляет угрозу для христианства, и, возможно, чувствовал некоторую вину за то, что любил Карла меньше, чем других братьев, и в прошлом помешал его амбициям во Фландрии. Все обдумав, Людовик оказал Карлу посильную поддержку.
Сам Карл не испытывал никаких сомнений, его не смущали даже непомерные требования папства. Он знал, что впоследствии сможет сделать так, чтобы они отвечали его нуждам.
Глава
VI
ВТОРЖЕНИЕ
КАРЛА АНЖУЙСКОГО
Вскоре
Папе стало понятно, что за человека
он выбрал своим защитником. Договор
с Карлом был заключен в июне
Папа
Урбан был на распутье. Многие
кардиналы считали, что ему следует
прервать переговоры с Карлом. Но
Урбан не хотел перечеркивать
работу, проделанную кардиналом
Аннибальди, рискуя оскорбить этим
своих сторонников в Риме. Он не мог
себе позволить поссориться с
Карлом. Манфред, потерпев неудачу
в Риме, двигался по восточным
землям римских владений, чтобы
заставить Лукку, последний город
гвельфов, оставшийся в Тоскане,
признать его сюзеренитет.88
Таким образом, Урбан согласился на
назначение Карла сенатором, но
только на время.89 Карл тактично
ответил, что не примет должность
без согласия Папы, но, понимая, что
стоит на сильной позиции, настоял
на пересмотре всего своего
договора с папством. Переговоры
продолжались всю осень
Карл
тем временем выдвинул встречные
предложения. Он знал, что Папа на
его стороне. Теперь он требовал,
чтобы ежегодная сумма выплат от
завоеванного королевства в
Эти
предложения не могли понравиться
Папе, но он был в отчаянном
положении. Урбан отправил кардиналу
Симону письмо с дальнейшими
указаниями. Кардинал должен был
извлечь максимум из сделки по
ежегодным выплатам Риму и не
опускать сумму ниже
Пока кардинал вел переговоры в Париже, Манфред снова перешел в наступление. Один из его военачальников, Джордано Ланца, победивший в битве при Мон-таперти, вторгся в Анконскую марку, захватил папского наместника и установил связь с гибеллинами в Тоскане. Другой, Пьетро ди Вико, действовал в предместьях Рима. Город спасло лишь появление там провансальского отряда под предводительством Жака де Гантельма, которого Карл назначил своим наместником. Сам Манфред собрал большую армию в Кампании и был готов перейти границу при поддержке Пьетро. Папа Урбан видел, что окружен, он даже начал опасаться за свою жизнь. Ходили слухи, что Манфред готовит убийц, чтобы разделаться с ним. Письма Папы кардиналу Симону в Париж были почти истеричными. Следовало привести Карла в Италию любой ценой, и как можно скорее.93
В
такой обстановке кардинал не мог
добиться от Карла выгодных условий.
Немного поборовшись, он был
вынужден уступить. Карл решил
отказаться от сенаторства в Риме,
как только он получит королевство,
и согласился с тем, чтобы ежегодная
выплата папству составляла
Папа
Урбан так и не узнал об
окончательном успехе своего легата.
Его опасения усиливались с каждым
днем. Наконец, Папа заподозрил, что
даже жители Орвьето, где он прожил
большую часть своего понтификата,
настроены против него. Он решил
удалиться в Ассизи. 11 сентября
Урбан прибыл в Тоди и там заболел,
но настоял на продолжении
путешествия. Когда несколькими
днями позже Папа прибыл в Деруту в
паланкине (поскольку уже не мог
ехать на лошади), он уже был при
смерти. Кардиналы из его свиты
перевезли его в Перуджу. Там Урбан и
умер 2 октября
Карл был несколько обеспокоен известием о смерти Урбана. Его новый договор с папством еще не был утвержден, новый Папа мог и не признать его. Карл знал, что в Священной коллегии многие кардиналы были настроены против него, а два его главных друга, кардиналы церкви Св. Цецилии и Сабины, находились во Франции. Если Карл больше не будет признанным защитником Церкви, его враги приободрятся и вновь примутся за свои козни. Он переехал из Парижа в Прованс, чтобы подготовиться к вторжению в Италию. Там Карл решился на сознательное проявление жестокости, чтобы показать, что с ним нельзя шутить. Прошлым летом он взял в плен мятежного Гуго де Бо и арестовал многих других друзей Бонифация де Кастеллана и вдовствующей графини, включая нескольких богатых купцов и прежнего подесту Арля, на том основании, что они вели переговоры с королем Арагонским. В течение года их держали в заключении, но обращались хорошо, поскольку Карл придерживался политики мягкости по отношению к своим врагам. Теперь же совершенно неожиданно он приговорил своих пленников к смерти. Весь мир должен был увидеть, что его мягкость была продиктована лишь политическими соображениями, а не его слабостью. 24 октября мятежников обезглавили возле церкви Св. Михаила в Марселе, а их владения были конфискованы. Показав, что никому не позволено с ним шутить (и, кстати, значительно увеличив свое состояние), Карл продолжил публично готовиться к итальянской кампании. Новый Папа, кто бы им ни стал, не должен был иметь никаких сомнений по поводу намерений Карла.96
Из двадцати одного члена коллегии восемнадцать собрались на конклаве в Перудже, чтобы избрать нового Папу. В отсутствие двух кардиналов, которые все еще были во Франции, и кардинала церкви Св. Мартина, который пытался восстановить папскую власть в Анконской марке и не мог оставить свой пост (а все трое были сторонниками политики покойного Папы), коллегия разделилась на два абсолютно равных по численности лагеря: те, кто благоволил Карлу, и те, кто был против него. У Манфреда появилась надежда на то, что будет избран Папа, с которым он сможет договориться. В отличие от Карла, воспользовавшегося вакантностью папского престола, чтобы осуществить выгодные для себя меры, не считаясь с папством, Манфред посчитал разумным прекратить военное наступление. Он не хотел пугать конклав и таким образом склонять его на сторону Карла, а праздная натура Манфреда радовалась отдыху от его недавней деятельности.
Конклав
заседал четыре месяца, так и не
придя ни к какому решению. Ничего не
известно о ходе дискуссии до 5
февраля
Исход
выборов отнюдь не являлся
компромиссом. Он показал, что
Священная коллегия не хочет иметь
никаких дел с Манфредом и решила,
что вмешательство Карла неизбежно.
Бездействие Манфреда было
напрасным, а открытые угрожающие
приготовления Карла произвели
нужный эффект. Новый Папа был
выдающимся человеком. Урожденный
Ги Фулькуа, он был сыном юриста из
Сен-Жиля в провинции Лангедок. В
молодости Ги поступил на службу к
графам Тулузским в качестве юриста.
Он сделал свое состояние, когда
брат короля Людовика Альфонс
вступил во владение графством. Ги
оказался самым усердным и толковым
адвокатом новой династии и вскоре
стал главным советником Альфонса. В
С
самого начала Папа Климент дал
понять, что будет придерживаться
политики своего предшественника.
Он постоянно поддерживал связь с
Карлом. Во время поездки в Перуджу
он написал Карлу, чтобы дать совет
о том, как вести себя с римлянами.
Первое, что Климент сделал, став
Папой, — повторил формальное
отстранение кандидатуры Эдмунда
Английского и уполномочил Карла
принять сенаторство в Риме безо всяких
условий. Он умолял Карла поспешить
в Рим. Ситуация там складывалась
опасная. Гантельм со своими
провансальцами могли лишь
удерживать город против Пьетро де
Вико, который теперь контролировал
всю Кампанию вплоть до городских
стен Рима.99 Карл
воспользовался вакантностью
папского престола, чтобы
заключить союзы в Северной Италии.
Он контролировал Южный Пьемонт и
добился нейтралитета графа
Савойского. Он уже заключил союз с
маркграфом Монферратским. А
январе
Тем временем в ответ на отчаянную просьбу Папы Карл 10 мая в Марселе погрузил на корабли несколько сотен рыцарей и лучников и с осторожностью поплыл вдоль побережья в Остию. Погода была бурная, но благодаря этому сицилийская эскадра, патрулировавшая Лигурийское море, не заметила их. Он высадился в Остии через десять дней и приготовился двинуться на Рим.101
Это побудило Манфреда к действию. 24 мая он написал письмо римлянам, воззвав к их гордости. В этом письме он откровенно заявил о своих притязаниях и честолюбивых замыслах стать императором, но, писал он, римляне сами должны выбрать себе императора. Они позволили папству отнять у них свою законную привилегию. Кроме лести в письме содержались также и угрозы. Манфред напоминал о том, как его прапрадед Фридрих Барбаросса ворвался в мятежный город и сам себя там короновал. Но это оригинальное письмо было написано слишком поздно. 23 мая Карл вошел в Рим под рукоплескания горожан. Он поселился в Латеранском дворце Папы, но когда Папа Климент упрекнул его за это, переехал в сенаторский дворец на Капитолийском холме.102
Узнав, что Карл уже в Риме, Манфред сделал вид, что он в восторге. «Птичка в клетке», — воскликнул он; потребуется лишь недолгая кампания, чтобы окружить его там и заставить сдаться.103
Но все вышло не так, как рассчитывал Манфред. Римляне обрадовались приезду Карла. 21 июня ему официально передали сенаторские знаки отличия. Чтобы доставить удовольствие Папе, он снова пообещал, что откажется от них, как только завоюет Сицилийское королевство. Через неделю, 28 июня, четверо кардиналов, специально уполномоченных Папой Климентом, торжественно вверили ему Сицилийское королевство. С тех пор Карл стал называть себя королем Сицилийским. Тот факт, что Карла хорошо приняли римляне, а также его личный авторитет вскоре привлекли на его сторону многих итальянцев. Пьетро ди Вико, главный союзник Манфреда в Кампании, раздумывал. Ему казалось, что перевес на стороне Карла. 10 июля после кратких переговоров он заключил мир с Церковью, пообещав отказаться от всех своих соглашений с Манфредом и принести клятву верности папству. Затем Пьетро поступил в подчинение Карлу и впоследствии оказался одним из самых деятельных его полководцев. Через несколько дней Пьетро Романи, бывший глава партии гибеллинов в Риме, последовал его примеру.104
Манфред понял, что одних слов недостаточно. Он повел армию из королевства через Абруцци и мимо озера Фучино в долину реки Аньо. Папа умолял Карла не рисковать и не ввязываться в решающую битву, имея более слабую армию, чем его противник. Но Карл выдвинулся на более выгодную позицию на возвышенности рядом с Тиволи. Манфред двинулся к Арсоли, расположенному милях в пятнадцати на другом берегу Аньо, но шпионы доложили ему, что он не получит поддержку из Кампании, и Манфред не решился атаковать лагерь Карла. После небольшой стычки в долине он отступил. Затем он двинулся на север через Абруцци, будто бы собираясь атаковать Сполето, затем, совершенно внезапно, по неизвестной причине, он оставил вообще свою затею и вернулся к своей охоте в Апулии. Отступление стоило Манфреду потенциальных союзников. В течение месяца он потерял свою власть в Анконской марке, и его влияние в Тоскане ослабело.105
Карл
выиграл первый раунд. Он спас Рим и
восстановил позиции Церкви в
Центральной Италии. Теперь он
должен был взяться за свою основную
задачу — атаковать Манфреда в его
королевстве. Но на это требовались
деньги. Большую армию нужно было
снарядить и содержать. Весь конец
лета Карл и Папа обсуждали
финансовые детали. Французская
церковь подтвердила свое согласие
платить десятину на военные нужды,
а непокорному графству Венессэн, а
также Валь'Аоста было приказано
оказать содействие. Но деньги поступали
вяло, а временами не поступали
вовсе. Климент согласился с тем, что
личный вклад Карла в кампанию
должен быть сокращен; и в самом деле,
хоть графиня Беатриса и заложила
свои драгоценности, Карл не мог
собрать слишком большую сумму. Было
необходимо получить помощь
итальянских банков. Но папство уже
много лет занимало деньги у
тосканских банков, и банкиры знали,
что долги им не вернут, пока папская
политика не увенчается успехом, а
потому не спешили давать займы.
Король Франции и его брат Альфонс
отказались давать деньги из своей
казны, хотя последний в конце
концов предложил краткосрочный
заем в 4000 марок серебра и 5000 турских
ливров. Папа надеялся, что все
деньги из французской казны пойдут
на помощь Карлу, но средства,
собранные Людовиком, откладывались
на новый крестовый поход против
язычников. В самом Риме Карл смог
собрать менее 50 000 прованских
ливров, которых едва ли хватило бы,
чтобы покрыть расходы на месяц.
Папский двор одолжил Карлу 20 000
турских ливров, как только тот
прибыл в Рим. В течение лета он
получил, под папскую гарантию,
около 16 000 турских ливров от
различных флорентийских и
сиенских банкирских домов, и еще 20
000 от них же до зимы
И
снова Манфред упустил свою
возможность. В надежде на то, что
финансовые трудности его врагов
окажутся неразрешимыми и что его
союзники-гибеллины в Ломбардии,
которым он прислал некоторое
количество войск, остановят
неприятельскую армию, он оставался
в Апулии, наслаждаясь охотой. Карл
же не стал дожидаться получения
всех займов. Как только у него
скопилось достаточно денег, чтобы
заплатить войскам за несколько
месяцев, Карл призвал их собраться
в Лионе 1 октября
Армия, выступившая из Лиона в начале октября, представляла собой грозную силу. Хронисты писали о шести тысячах рыцарей в полном вооружении, шести тысячах конных лучников и двадцати тысячах пехотинцев, половина из которых были арбалетчиками. Эти цифры, конечно, были сильно преувеличены — на самом деле, по-видимому, было чуть меньше конных солдат и значительно меньше пеших. Многие представители высшей французской знати присоединились к экспедиции. Там был граф Вандомский, наследники графств Фландрии и Суассона, Филипп де Монфор со своим кузеном Ги, сыном графа Лестера. Провансальская аристократия была в полном составе с сеньорами де Бо во главе. Командовал армией Ги де Мелло. В Альпах начал выпадать ранний снег, так что армия, чтобы найти открытый проход и держаться дружественной территории, двинулась через Прованс, затем — через ущелье Тенда в земли, которые контролировал Карл в Пьемонте, и далее, через Кунео, Альбу и Асти на территорию, принадлежавшую маркграфу Монфер-ратскому. Там начались первые препятствия. Уберто Паллавичини, все еще состоявший в союзе с Манфредом, контролировал Алессандрию, Тортону, Верчелли, Павию, Пьяченцу, Кремону и Брешию. Верчелли, расположенный на севере, был самым слабым звеном в цепи. Пока армия, мерным шагом двигаясь на север, приближалась, верчеллийский епископ устроил переворот. Армию Карла радушно встретили в городе, и вскоре она двинулась дальше, оставив маленький французский гарнизон. После Верчелли до Милана дошли без проблем. Там глава семьи Торриани умер за несколько недель до того. Его племянник Наполеоне, ставший его преемником, сперва проявил по отношению к французским командирам некоторую холодность, но по прошествии каких-нибудь двух-трех дней они пришли к пониманию, и Наполеоне даже отправил городское ополчение сопровождать армию на следующем этапе путешествия.
Этот
этап мог оказаться трудным,
поскольку армии снова надо было
прорываться через линию крепостей
Паллавичини; а сам Паллавичини
вместе с Бозо да Довара, правителем
Кремоны, ждал с армией в Сончино, на
реке Ольо. Но Паллавичини узнал, что
армия графа Анжуйского с
миланскими союзниками по численности
значительно превосходит его
собственную. Кроме того, он не был
уверен в преданности Брешии, а Бозо,
по слухам, получил от французов
большую взятку за свое
отступление, за что Данте поместил
его в ад вечно скорбеть о
французском золоте. Армия Карла
Анжуйского смогла пересечь реку
Ольо севернее и пройти прямо мимо
Брешии в надежде на то, что там
случится переворот. Гарнизон
Паллавичини был в состоянии
сохранить порядок в городе, но не
мог противостоять захватчикам.
Гибеллины совершили робкую попытку
предотвратить проход армии через
реку Кьезе в Монтикьяри. Миланское
ополчение уже вернулось домой, но
Жоффруа де Бомон смог послать
войска гвельфов из Мантуи, чтобы
атаковать Монтикьяри с тыла. Город
вскоре был захвачен, армия Карла
пересекла реку и попала на
дружественную территорию Мантуи,
находившуюся под контролем семьи
Эсте и их союзников. К концу декабря
она пересекла реку По и достигла
Болоньи. Оттуда она быстро
двинулась по Виа Эмилия в Анконскую
марку, где Папа распорядился
подготовить для нее запас провизии.
Из Анконы войско пересекло
Апеннины, пройдя через Сполето и
Терни, и прибыло в Рим в районе 15
января
Узнав
о прибытии провансальской армии,
Папа испытал большое облегчение.
Он нервничал все время, что она
продвигалась через Ломбардию.
Узнав, что войско пересекло По, он
написал Жоффруа де Бомону, чтобы
поздравить его и похвалить за
усердие, но при этом лишил его
полномочий легата, объяснив это тем,
что район был слишком неспокойным
для того, чтобы держать там своего
представителя. Папа не хотел компрометировать
Церковь вмешательством в постыдные
склоки местных правителей. Карл
тоже чувствовал облегчение, хотя
был уверен в успехе. Он уже послал
за своей женой, чтобы она морем
добиралась к нему. Беатриса прибыла
в конце декабря. Тогда Карл попросил
Папу приехать в Рим и короновать их
как короля и королеву Сицилии.
Климент отказался покидать
безопасную Перуджу, но прислал
пятерых кардиналов, чтобы те
устроили церемонию в соборе Св.
Петра 6 января
Карл не позволил своей армии надолго оставаться в Риме. По финансовым соображениям ему надо было закончить кампанию как можно быстрее; кроме того, ему нравилась идея атаковать сразу же, неожиданно для Манфреда, а не ждать обычного открытия военного сезона весной. 20 января Карл выступил из Рима со всеми силами, оставив в городе только маленький гарнизон. Он прошел по старой Виа Латина через Ананьи и Фрозиноне к границам королевства возле Чепрано на реке Лири. Он нашел мост через реку неохраняемым и неразрушенным, и вся армия спокойно перешла его. Почему не было предпринято никакой попытки защитить переправу, до сих пор остается неизвестным. Ходили слухи о предательстве, которые Данте увековечил в «Аде».110
Весть о том, что армия Карла Анжуйского приближается к Риму, заставила Манфреда выйти из состояния апатии. Шпионы доложили ему, что Карл собирается атаковать немедленно. Манфред спешно собрал всю армию королевства и потребовал, чтобы его племянник, Конрад Антиохийский, привел войска, которыми тот командовал, в Абруцци и Марке. К тому моменту, когда Карл достиг реки Лири, Манфред расположился в капуанской крепости с армией примерно такой же численности, как у Карла. Похоже, он рассчитывал, что крепости, расположенные вдоль Лири и в горах северной Терра ди Лаворо, удержат Карла до тех пор, пока не прибудет Конрад Антиохийский с подкреплением. И даже если эти крепости падут, Капуа и крепости, расположенные вдоль реки Вольтурно, все еще будут защищать Неаполь. Манфреду надо было только добиться того, чтобы Карл занял позицию, из которой не будет выхода. Скорость Карла и его стратегия расстроили планы Манфреда. Армия графа Анжуйского неуклонно продвигалась вперед, взяв тридцать два замка, включая укрепленную двойным кольцом стен крепость Сан-Джермано на холме Кассино, которая сдалась 10 февраля. Маленькие гарнизоны, не получив никакой помощи от Манфреда, пали духом и почти не оказали сопротивления. Карл теперь знал, что силы Манфреда сконцентрированы в низовьях Вольтурно. Так что из Кассино он внезапно повернул в глубь страны к горам Самния, пересек Вольгурно в ее верховьях и двинулся через Алифу и Телезу к Беневенту. Узнав, что его обошли с фланга, Манфред оставил Капуа и двинулся в глубь страны, чтобы первым достичь Беневента.111
Когда армия Карла Анжуйского 25 февраля прошла через горный перевал, ведущий к городу, перед ней предстало вражеское войско в полном составе, расположившееся вокруг города за разлившейся рекой Калоре. Захватчики были в замешательстве. Переход через горы в зимнюю погоду был тяжелым. Многие вьючные животные погибли, большинство повозок пришлось оставить на скользких перевалах, и еда заканчивалась. Казалось, что самоуверенное хвастливое заявление Манфреда о том, что птичка в клетке, теперь подтверждалось. Ему оставалось лишь дождаться на занятой им сильной позиции своего племянника Конрада с подкреплением и момента, когда голод вынудит армию графа Анжуйского либо отступить, либо сдаться. Но Манфред был нетерпелив. Он не был уверен в верности своих подданных, был потрясен готовностью столь многих своих гарнизонов сдаться на милость врага и подозревал, что многие местные бароны колеблются. У него не было уверенности в том, что Конрад вообще придет ему на помощь; Манфред только что получил подкрепление из 800 германских наемных всадников, и на тот момент он не мог ожидать большего. Видя, как жалко выглядят войска Карла, он решил атаковать сразу же. Карл, к своему крайнему облегчению, спустившись в долину, увидел, что армия Манфреда медленно пересекает реку, чтобы встретиться с ним.
На
следующий день, в пятницу, 26 февраля
У Карла было небольшое преимущество на местности, которая имела легкий уклон к реке. Преимущество Карла заключалось также в том, что его армия была более однородной, чем войско Манфреда, и более надежной. Как и Манфред, он разделил своих людей на три группы всадников, а впереди поставил пехоту, среди которой было много арбалетчиков. Первая группа всадников — 900 провансальцев под командованием Гуго де Мирпуа, маршала Франции, и Филиппа де Монфора. Сам Карл встал во главе второй группы — около 1000 человек, приведенной из Центральной Франции и Лангедока. С ними было четыре сотни итальянских всадников под началом флорентийца Гвидо Гверры. С Карлом были епископ Оксеррский и граф Вандомский. Сзади, в резерве, находились рыцари из Северной Франции и фламандцы под началом Роберта Фландрского и коннетабля Жиля Ле Брена.
Битва началась с атаки сарацинской пехоты на французскую, произведенной прежде, чем Манфред был готов к схватке. Когда французская пехота, как показалось, начала отступать, отряд провансальских рыцарей вступил в рукопашный бой и разбил сарацин. Вслед за тем, снова без приказа Манфреда, вверх по холму ринулись тяжеловооруженные всадники на рослых лошадях, и атака провансальцев захлебнулась. Тогда Карл приказал своей второй шеренге идти в наступление. Они поскакали вниз в гущу битвы. Германцы оказались в меньшинстве, но еще не были разбиты. Их пластинчатые доспехи казались непробиваемыми, пока, наконец, один француз не заметил, что, когда те поднимали руки для удара, их подмышки оказывались незащищенными. Французы врезались в гущу германцев такой плотной массой, что длинные мечи германцев оказались бесполезными, а короткие острые кинжалы французов могли достичь цели.
Манфред все еще мог выиграть битву, поскольку вторая шеренга его конницы подоспела быстро. Но германцы атаковали слишком стремительно; Гальвано Ланца, чьи войска задержались, пересекая реку по одному узкому мосту, был слишком далеко позади. Возможно также, что он, как все полководцы Манфреда, слепо верил в непобедимость германцев и подумать даже не мог, что их разобьют. К тому времени, когда он приказал своим ломбардцам и тосканцам атаковать, было слишком поздно. Они налетели прямо на победоносных французов, а Карл тем временем отправил свою третью шеренгу атаковать их с фланга. Итальянцы не стали дожидаться этой атаки и, несмотря то что Гальвано пытался их удержать, сломали строй и побежали. Многие были взяты в плен, еще больше народу было убито. Манфред со своим резервом был также слишком далеко позади, чтобы вовремя вмешаться, если что-то вообще могло еще спасти положение. Едва задержавшись, чтобы обменяться одеждой со своим другом Тебальдо Аннибальди, Манфред приказал своей последней шеренге атаковать. Но аристократы королевства посчитали его дело проигранным. Они покинули поле битвы во главе с зятьями Манфреда. Отступив, Манфред мог бы спастись, но рассудил по-другому: он ринулся в бой вместе со своими верными слугами и вскоре был убит, а рядом с ним и Тебальдо в королевском одеянии. Лишь немногие из солдат Манфреда уцелели. Мост через Калоре был заполнен беглецами, а человек в полном вооружении не мог рассчитывать на то, что ему удастся проложить себе путь через вздутые воды разлившейся реки. Кроме того, Карл поставил за своей конницей людей, чьей единственной обязанностью было добивать раненых. Говорят, что из 3600 всадников армии Манфреда спаслись лишь 600.
К вечеру поле битвы осталось за Карлом, и все королевство лежало перед ним беззащитным. Он проехал через мост в Беневент и оттуда написал Папе, чтобы подробно рассказать о своей победе. Среди его пленников, объявил он, были Джордано и Бартоломео Ланца. Гальвано Ланца был объявлен мертвым. Судьба Манфреда все еще оставалась неизвестной, но когда была найдена его лошадь, заключили, что он погиб.112
В воскресенье, 28 февраля, через лагерь прошел солдат, ведущий под уздцы осла, на которого было навьючено мертвое тело, выкрикивая: «Кто хочет купить Манфреда?» Его привели к Карлу, который велел графу Казерты и Джордано и Бартоломео Ланца посмотреть, действительно ли это тело Манфреда. Джордано закрыл лицо руками и заплакал: «Увы, увы, мой синьор», — они опознали его. Некоторые французские рыцари просили о том, чтобы такой доблестный воин был похоронен достойно. Карл ответил, что он бы с радостью согласился, если бы Манфред не умер отлученным от церкви. Но когда он на следующий день написал Папе, чтобы сообщить о смерти заклятого врага, тот приказал, чтобы тело похоронили достойно, хотя и не отпевая. Тело Манфреда положили в могилу у основания моста Беневента, и каждый солдат, проходя, бросал туда камень, пока не образовалась пирамида из камней. Позже говорили, что архиепископ Козенцы по приказу самого Папы выкопал тело и перезахоронил на берегах реки Лири, на границе королевства.113
Карл остался в Беневенте ровно на то время, которое требовалось для отдыха армии. Он не мог удержать солдат от разграбления города, несмотря на то что сюзереном города был Папа, а не сицилийская корона. Вызвав свою жену из Рима, он беспрепятственно дошел до Неаполя. 7 марта супруги торжественно въехали в город, король верхом на лошади, а королева в паланкине, завешенном синим бархатом.
Глава
VII
КОНРАДИН
«Возлюбленный
сын наш Карл, — писал Папа Климент
6 мая
Тело
Манфреда все еще лежало
захороненным у моста Беневента; его
жена королева Елена со своей
маленькой дочерью и тремя
внебрачными сыновьями Манфреда
была в Лучере, когда до нее дошла
весть о злосчастной битве. Она
поспешила с детьми в Трани в
надежде найти какое-нибудь судно,
которое перевезет ее к ее отцу в
Эпир. Агенты Папы, посланные арестовать
ее, были уже близко, и пока она ждала
в замке, когда судно будет готово,
те, запугав командира гарнизона,
заставили его выдать им королеву.
Елена с детьми были доставлены в
Ночеру и заключены в Кастелло дель
Парко. Там она и умерла в
Один за другим сторонники Манфреда подчинялись Карлу. Одержав полную победу, Карл дал понять, что у него нет намерения мстить. Даже члены семьи Ланца, после некоторых колебаний, принесли ему присягу, и им было позволено сохранить за собой большую часть их земель. Конрад Антиохийский, все еще не побежденный в Абруцци, попросил о перемирии. Других друзей Манфреда, которые либо уже бежали, либо собирались бежать из страны, пригласили вернуться, объявив всеобщую амнистию. Среди тех, кто воспользовался предложенной амнистией, был выдающийся врач Джованни да Прочида, который лечил Фридриха II во время его последней болезни и недавно избавил кардинала Орсини от серьезного недуга. Сам Папа Климент рекомендовал его Карлу. Карлу еще доведется услышать о нем впоследствии.117
Карл действительно проявил необычайное великодушие. Он не смог удержать свою армию от разграбления Беневента, но больше ни один город не пострадал от алчности завоевателей. Карл хотел установить в королевстве мир и справедливость и не собирался платить своим французским и провансальским солдатам за счет своих новых подданных. Он не конфисковал ничьих земель, кроме тех случаев, когда были доказаны враждебность или измена их владельцев. Финансовые служащие Карла быстро разъехались по стране, устанавливая размер налогов и следя за тем, чтобы их исправно платили. Постановления, которые Карл издавал, были в основном связаны с контролем за тем, как эти чиновники выполняют свои должностные обязанности, чтобы избежать злоупотреблений властью. Карл издал указ о том, что три раза в год должна собираться ассамблея для выслушивания жалоб на сборщиков налогов и проверки их счетов. После довольно беспорядочного царствования Манфреда казалось, что страна теперь успокоится при аккуратном и благосклонном правлении.118
Но, невзирая на свою изначальную снисходительность, новый режим не был популярен. Новый король казался суровым и неприступным. В нем не было той приветливости, которой Гогенштауфены очаровывали своих итальянских подданных. Хоть Карл и любил провансальских трубадуров и проявлял интерес к наукам и искусствам, он производил впечатление человека холодного и жестокого. Соотечественники его, как ни пытался он их урезонить, были заносчивы и жадны. Кроме того, хотя налогами облагали справедливо, все же они были высоки, и трудно было уклониться от уплаты. Карлу нужно было отдавать долги, и ему были необходимы деньги. Южные итальянцы и сицилийцы предпочли бы более пассивную систему, пусть даже и более коррумпированную. Манфред потерял благосклонность своих подданных из-за своей абсолютной праздности и из-за своей ссоры с Церковью, но вскоре они вспоминали его с любовью, сравнивая с набожным и деятельным Карлом.119
В самом скором времени жалобы дошли до Папы. Он мог похваляться достижениями «возлюбленного» своего сына Карла, но на деле тот все чаще разочаровывал его. Папа рассчитывал контролировать королевство через благодарного и покорного вассала. Но хоть он и давал наставления королю, его замечания оставались без внимания. Папа был потрясен разграблением Беневента. Он полагал, безо всяких оснований, что Карл был слишком жесток с покорившимися ему итальянцами и, с большими основаниями, что тот был скуп на вознаграждение своих преданных союзников из числа служителей Церкви. Методы налогообложения, используемые Карлом, чрезвычайно раздражали Папу. По мнению Климента, ему следовало бы созвать епископов, знать и выдающихся горожан королевства на ассамблею и изложить им свои потребности, позволив им самим определять размер своих пожертвований. В раздражении Папа начал критиковать самого Карла и его придворных: тот оказался заносчивым, своенравным и неблагодарным орудием в руках своих чиновников, окруженным своими необузданными придворными. В одном из своих горьких писем Папа писал, что Карл не позволял себя «ни видеть, ни слышать, был недружелюбен».120
Тем
не менее Климент, как бы мало
радости ему это ни приносило, все
еще зависел от Карла. В мае Карл
неохотно оставил пост сенатора в
Риме — ему все же не хотелось
нарушать свое обещание. Папа вскоре
об этом пожалел, поскольку
вследствие этого римляне избрали
двух сенаторов на один пост:
Коррадо Мональдески и Луку Савелли,
причем последний за двадцать два
года (в 1234г.) до того возглавлял
восстание против папства. Их
первым требованием было возвращение
Папой и Карлом своих долгов
римлянам. Папа в ответ объявил
сенаторов ворами и разбойниками и
стал подстрекать к заговору против
них. Результат получился
неожиданный. В начале
У короля Альфонса Кастильского было два брата, Федерико и Энрике. Оба были с ним в ссоре из-за того, что тот не захотел никак разделить с ними королевскую власть, и странствовали, ведя жизнь авантюристов. Инфант Федерико какое-то время служил у мусульманского эмира Туниса. Он прошел через всю Италию, чтобы присоединиться к Манфреду, рядом с которым он сражался в битве при Беневенте. Бежав с поля битвы, Федерико вернулся в Тунис. Инфант Энрике искал счастья во Франции. Там он подружился с Карлом, который был его кузеном, и одолжил Карлу огромную сумму на итальянскую кампанию. Энрике рассчитывал, что в награду получит королевство Сардинию или Эпирское герцогство. Но Карл и долг ему не возвращал, и, похоже, не собирался потакать его амбициям. Генрих принял приглашение в Рим, затаив обиду в сердце (о чем Капоччи несомненно знал), и был официально введен в должность сенатора в июле 1267г.122
Опечаленный
событиями в Риме, Климент предоставил
Карлу свободу действий в Северной
Италии. Гибель Манфреда означала
крушение власти гибеллинов в
Ломбардии. Не позднее конца марта
В
Тоскане дела обстояли почти так же.
Там гибеллинов еще не вытеснили.
Флоренция, правда, попросила
защиты у папства на тот случай, если
Карлу вздумается напасть на нее,
но больше ни один город не последовал
ее примеру. Осенью
Пока Карл осаждал Поджибонси, его жена, королева Беатриса, умерла в Ночере в июле 1267г. Она пробыла королевой чуть больше года.125
Опасность,
так пугавшая Папу и заставившая его
примириться с политикой Карла в
Северной Италии и теперь жаждать
его немедленного возвращения на юг,
стала вполне реальной к концу лета
Вопрос
о правах Конрадина периодически
поднимался. Папство время от
времени вспоминало о нем, как о
сопернике Манфреда. Людовик Святой
считал, что его притязания нельзя
полностью игнорировать. В
В
последние месяцы
Прибытие этих единомышленников, жаждущих отомстить Карлу, не могло не пробудить боевой дух львенка или молодого орла, как называли Конрадина хронисты. Он уже начал рассылать письма в Италию, чтобы привлечь к себе сторонников. Теперь, когда так много людей находилось рядом с ним, он собрал совет в Аугсбурге в октябре. Там Конрадин объявил о своем намерении заявить притязания на Сицилию, которая принадлежала ему по праву рождения, и попросил поддержки у своих друзей и подданных. Но зная, что его ждут различные опасности, он завещал, чтобы в том случае, если он умрет, не оставив потомства, его баварские дядья унаследовали все, чем он владеет. Дядья Конрадина как могли пытались его отговорить, но безрезультатно. Совет, увлеченный его энтузиазмом, решил, что поход в Италию с целью возвести Конрадина на принадлежащий ему по праву престол следует начать следующим летом.129
Папа
Климент был хорошо осведомлен и о
перемещении беженцев в Баварию, и
об амбициях молодого принца
Гогенштауфена. 18 сентября
Оптимизм
Папы Климента был напрасным. 17 сентября
он снова написал Карлу, что остров
Сицилия полностью охвачен
восстанием и туда прибыли войска из
Туниса. По повелению Конрадина
Коррадо Капече пустился в
рискованное предприятие, имевшее
целью поднять восстание на острове,
где он когда-то был наместником
Манфреда, против Карла Анжуйского.
Сицилийцы не очень любили Манфреда,
но повышенное внимание сборщиков
налогов Карла не нравилось им еще
больше. На Сицилии Капече нашел
благодатную почву для своих
интриг. Затем он связался с инфантом
Федерико и его товарищами по
изгнанию в Тунисе. Эмир Туниса дал
им оружие, и они отплыли, чтобы
поддержать восстание. Папу также
беспокоили новости из Рима. Инфант
Энрике, римский сенатор, уже вызвал
неудовольствие Папы, заняв
различные города в Кампании и
атаковав несколько замков Карла на
границе. Но хотя Карл и с
подозрением относился к намерениям
Энрике, Климент не хотел, чтобы Карл
провоцировал его на открытую
вражду. Он не в состоянии, сообщил
он Карлу, организовать переворот в
Риме; римляне боялись сенатора, и
переворот будет стоить очень много
денег. Папа мог только предложить
Карлу, чтобы тот заключил мир с
Энрике, вернув ему занятые в
Климент
был в отчаянии. В тщетной надежде
вновь склонить Рим на свою сторону,
он ждал еще месяц, прежде чем
полностью порвал с сенатором.
Только в ноябре Папа формально
отрешил сенатора от должности, и в
следующем апреле он предал анафеме
его и всех сторонников Конрадина в
городе. Сицилия теперь была в руках
мятежников. Только Палермо и
Мессина все еще удерживались
наместником Карла, а сарацины
Лучеры присоединились к восстанию,
которое теперь перекинулось в
Калабрию. Но Карл настоял на том,
что он останется в Тоскане. Даже
когда замок Поджибонси все же пал в
конце ноября, он продолжал
блокировать Сиену, взяв Вольтерру,
а затем, в январе
Наконец в мае Карл внял неистовым мольбам Папы и двинулся на юг из Флоренции. Он задержался в Витербо, чтобы повидаться с Папой, который официально назначил его на пост императорского наместника в Ломбардии. Вернувшись в королевство, Карл выступил против сарацинских мятежников в Лучере, решительно настроенный разбить их прежде, чем подоспеет Конрадин.132
Конрадин,
следуя плану, о котором он объявил в
Аугсбурге в прошлом году, покинул
Баварию в середине сентября
Прежде чем покинуть Германию, Конрадин обнародовал манифест, написанный Пьетро ди Прецце в самых преувеличенных красках. В этом манифесте были заявлены права Конрадина как законного наследника Гогенштауфенов, притязания Папы резко осуждались, а Манфред был объявлен бессовестным узурпатором.133
Армия
медленно двинулась через Тироль и
Бреннер, остановившись в Больцано и
Тренто. 21 октября
Конрадин оставил Верону 17 января. Сицилийское восстание и мольбы Папы пока не убедили Карла уйти из Тосканы. На самом деле Карл подумывал о том, чтобы встретиться с Конрадином в Ломбардии, но ему не хотелось пересекать Апеннины, пока он не будет более уверен в тосканцах. Хотя маршрут Карла был пока неизвестен, Конрадин не мог позволить себе ждать. От веронцев, хоть и дружелюбно настроенных, нельзя было ожидать, что они позволят армии квартировать у них долго. Да и сами войска были в нетерпении. Герцог Баварский отказался идти дальше и вернулся домой. Его примеру последовали многие аристократы менее высокого ранга, включая наиболее честолюбивого из них, Рудольфа Габсбурга. Итальянские гибеллины начинали выказывать нетерпение. Конрадин уже попытался пройти через Ломбардию, но тогда армия гвельфов отбросила его назад. Теперь он мог передвигаться свободно. Миланский правитель из рода Торри-ани, хоть и собирался бросить ему вызов, при приближении армии укрылся за стенами города. После трехдневного марш-броска Конрадин пришел ко второму крупному городу гибеллинов в Северной Италии — Павии. Он задержался там на несколько недель, готовясь к следующему рывку — наступлению на Пизу. Как раз тогда Карл двинулся в Ломбардию. Сам Конрадин с несколькими спутниками покинул армию. Благодаря тому что маркграф Монферратский предпочел его не заметить и благодаря открытой дружбе маркграфа Кареттского, мужа одной из внебрачных дочерей Фридриха II, Конрадин смог пересечь Лигурийские Альпы и попасть в Савону, на побережье. Оттуда он отплыл на пизанском судне 29 марта. 7 апреля он прибыл в Пизу и был принят с королевскими почестями. 2 мая Конрадин встретил свою армию. Под искусным командованием Фридриха Баденского она пересекла Апеннины через перевал, расположенный западнее того места, в котором ожидалось, и не встретила никакого сопротивления.
Пиза стала для Конрадина постоянным источником гибеллинских солдат и золота. Взамен, действуя так, будто он уже почти вступил на императорский престол, молодой король раздавал привилегии своим верным союзникам. Пиза получала все права, какими когда-либо обладала в Сицилийском королевстве, так же как и города Трапани, Марсала и Салерно и острова Искья и Мальта. Из Пизы Конрадин предпринял попытку напасть на Лукку, но наместник Карла в Тоскане, Жан де Брезельв, преградил ему путь. Конрадин вышел из Пизы 15 июня и двинулся в Сиену. В замке Поджибон-си, где уже подняли восстание против гарнизона Карла Анжуйского и послали Конрадину ключи от ворот, ему был оказан теплый прием. 25 июня Конрадин прибыл в Сиену. В тот же самый день часть его войск, проводившая рекогносцировку дальше на востоке, напала на Жана де Брезельва, когда его отряд переходил реку Арно через Понт-а-Валль, неподалеку от Ареццо. Французы были застигнуты врасплох, и Жан взят в плен. Конрадин оставался в Сиене около десяти дней. В награду за преданность он даровал городу право собирать пошлины и вершить правосудие во всем контадо[10].
Из Сиены армия двинулась по старой Виа Кассия в Рим. Их путь лежал их мимо Витербо, где жил Папа Климент. По легенде, Папа сидел у высокого окна в своем дворце и смотрел, как воины Конрадина проходят мимо; он сказал, что ягненка ведут на бойню.
Въезд Конрадина в Рим 24 июля был встречен проявлениями истеричного энтузиазма. Никогда еще папский город не оказывал такой шумный прием общепризнанному врагу святейшего престола. Толпы встречали его хвалебными гимнами и осыпали его путь цветами. Улицы были украшены шелковыми и атласными полотнищами. Все были в праздничных нарядах. На Марсовом поле были устроены игры и шествия с факелами ночью. К юному королю, с его красотой и обаянием, относились почти как к богу. А если даже знатные гвельфы и не пришли на торжество, осторожно наблюдая из-за стен своих замков в Кампании, никому до этого не было дела. Гибеллины набирали силу в Риме, их число росло с каждым днем, и сенатор Энрике охотно руководил торжествами, заверяя короля в своей непоколебимой преданности.135
Для Папы, находившегося в Витербо, новости, пришедшие из Рима, были мучительными. Ни он, ни его преемники спустя много лет так и не смогли до конца простить Вечный город. Более всего они винили в происшедшем Генриха. Больше никогда, поклялся Климент, иностранцу не будет позволено стать сенатором.136
Конрадин наслаждался своим триумфом в Риме ровно три недели. 14 августа, полный надежд, он повел свою армию завоевывать Сицилийское королевство. Она сильно увеличилась. Теперь под его командованием было около шести тысяч человек, причем все — опытные конные бойцы. Под развевающимися знаменами армия двинулась по Виз Валерия мимо Тиволи в Сабинские горы.
Услышав, что Конрадин в Риме, Карл снял осаду с Лучеры, где безуспешно пытался заставить сарацин сдаться, и быстро двинулся через горы в окрестности Авеццано, куда он прибыл 4 августа. Карл правильно рассчитал, что Конрадин отправится в Апулию через район возле озера Фучино, где были расположены главные поместья Ланца, поскольку Конрадин, естественно, будет искать путь, где у него есть друзья, в то время как прямая дорога на Неаполь хорошо защищалась сторонниками Карла. 9 августа Карл был в Скурцоле, где дорога от Тальякоццо к Авеццано пересекает маленькую речку Сальто. Потом он переместился на несколько миль на северо-восток и встал лагерем на холме Овиндоли, который возвышался над единственной дорогой, соединяющей Авеццано и Апулию. Конрадин не мог пройти в Апулию незамеченным.137
Конрадин задержался в Викочаро, деревне, принадлежавшей гибеллинской ветви Орсини, потом — в замке Сарачинеско, где его принимала дочь Гальвано Ланца, жена Конрада Антиохийского. Оттуда Конрадин двинулся в Карсоли. Там Виз Валерия поворачивает на юго-восток через перевал Монк Бови в Тальякоццо. Конрадин теперь знал, что Карл недалеко, так что, не желая быть застигнутым в узкой долине, он повернул на север, проведя свою армию по горным тропам, которые привели ее в долину реки Сальто, как раз под Скурцоле. Таким образом, он избежал перевалов Тальякоццо, но Карл был все еще впереди него, преграждая ему путь. Единственное, что выиграл Конрадин от этого трудного прохода через горы, было то, что теперь его армия могла принять решающий бой в долине, где тяжелая германская конница будет более эффективна.
Конрадин
разбил свой лагерь в Скурцоле 22
августа
В тот вечер Конрадин, возможно обеспокоенный слухами о шпионах в лагере, отдал приказ без промедления казнить своего пленника, Жана де Брезельва. Убийство врага, захваченного в плен на поле боя, противоречило обычаям того времени, и спутники Конрадина были шокированы.
Битва, известная истории как битва при Тальякоццо (хотя Тальякоццо находился в пяти милях за лагерем Конрадина), началась утром во вторник, 23 августа. Как и два года раньше, в битве при Беневенте, каждая армия была разделена на три группы. Передовой отряд войска Конрадина удерживал дорогу на западном берегу Сальто. Этим отрядом командовал инфант Энрике, и состоял он из испанской конницы и войск гибеллинов Рима и Кампании. За ним располагалась вторая группа, состоявшая из гибеллинов Ломбардии и Тосканы и из беженцев из Сицилийского королевства, среди которых было немного германских всадников. Остальные германские войска были в резервной группе под руководством двух юных принцев — самого Конрадина и Фридриха Баденского. Армия Карла была чуть меньше, около пяти тысяч всадников против шести тысяч конных бойцов Конрадина, но она состояла из ветеранов, которые постоянно сражались в армии Карла последние два года; это были люди, которых Карл знал и которым он доверял. Его первая группа, состоявшая из итальянцев гвельфов и провансальцев, удерживала главную дорогу на восточной стороне реки. Имя командира этой группы неизвестно. Во вторую группу входила основная масса французских войск Карла под командованием маршала Анри де Кузанса. Карл хотел, чтобы этот отряд враг считал резервным, а поскольку обычно главнокомандующий армии оставался в запасной шеренге, он отдал Анри свою мантию, а его знаменосцу — королевское знамя. Сам Карл, с настоящим резервом, состоявшим из приблизительно тысячи лучших его рыцарей, встал примерно в миле позади своего правого фланга, спрятавшись от врага за изгибом холма. С Карлом был опытный военачальник, только что вернувшийся из крестового похода, французский камергер, Эрар де Сен-Валери. Между двумя армиями протекала маленькая речка Сальто. В разгар лета река была не слишком полноводной, но размытые берега и топкое дно делали затруднительным переход реки в местах, расположенных в непосредственной близости от моста, по которому дорога пересекала русло.
Ранним утром инфант Энрике со своей группой в полном боевом порядке двинулся к мосту. В тщетной попытке усыпить бдительность врага, он приказал своим служителям начать разбивать лагерь у реки, так будто он не собирался сражаться в тот день. Внезапно, около девяти часов, его воины вскочили в седло и ринулись к мосту. Первая шеренга Карла была уже там, а его вторая группа, под командованием Анри де Кузанса, встала позади, чтобы быть готовой вместе с первой группой форсировать мост, когда люди инфанта будут отброшены назад. В пылу битвы французы не заметили, что половина отряда инфанта отделилась и вместе с бойцами Гальвано Ланца передвинулась на юг вверх по реке. Приблизительно в полумиле вверх по течению от моста берега были ровные и вода растекалась в мелководную заводь, образуя хороший брод. Войска гибеллинов промчались через реку и обрушились на левый фланг армии Карла Анжуйского, расположенный ниже по течению. Их нападение было неожиданным. Пока Гальвано атаковал Анри де Кузанса со стороны моста, итальянцы и провансальцы первой шеренги армии Карла Анжуйского отошли с моста, и инфант смог переправиться через реку. Казалось, что победа Конрадину гарантирована. Потери армии Карла были чудовищны. Анри де Кузанс, которого приняли за сицилийского короля, погиб, а королевское знамя захвачено. После гибели Анри остатки войск Карла бежали с поля. Когда Конрадин и его конница подъехали, чтобы нанести завершающий удар, в этом, казалось, уже не было нужды. Инфант Генрих был поглощен преследованием отступавших врагов. Некоторые солдаты Гальвано свернули, чтобы разграбить лагерь анжуйцев, где к ним присоединились многие из германцев Конрадина. Юный король остался на поле боя лишь с небольшим сопровождением.
Карл, скрывавшийся в засаде, был потрясен постигшим его несчастьем. Какое-то время он подумывал о том, чтобы атаковать и спасти своих людей, но Эрар де Сен-Валери отметил, что они слишком далеко: им не подоспеть вовремя, и, сделав так, они раскроют свою позицию. Если же немного подождать, торжествующий враг почти наверняка рассеется в поисках добычи. Так что Карл оставался на месте до тех пор, пока не увидел, что на поле битвы никого не осталось, кроме небольшой группы, собравшейся под знаменами Гогенштауфенов. Тогда он бросился впереди своих солдат из засады. Рыцари Конрадина и представить себе не могли, что всадники, скачущие к ним через долину, были непобежденным отрядом противника. Когда они поняли, что происходит, было уже поздно. Рыцари Конрадина были не готовы к схватке и численностью сильно уступали врагу. После ожесточенного боя друзья Конрадина убедили его бежать, пока есть возможность. Вместе с Фридрихом Баденским и своим личным телохранителем он галопом помчался по дороге в Рим. Знаменосец Конрадина был убит на поле боя, и знамя с изображением орла было захвачено. Большинство рыцарей Конрадина пали. Конрад Антиохийский, который пытался собрать их вновь под своим руководством, угодил в плен.
Увидев, что знамя их короля повержено, германцы и гибеллины, грабившие лагерь Карла Анжуйского, бежали. Но отряд инфанта Энрике и Гальвано разбит не был. Похоже, Энрике, поднявшийся, преследуя беглецов, из долины на дорогу в Апулию, оглянулся и понял, что произошло. Он развернул своих бойцов и повел их обратно в долину. Его люди все еще превосходили численностью отряд Карла, но и они, и их лошади устали после долгой битвы, а на летнем солнцепеке германцы в своих пластинчатых доспехах страдали больше, чем французы в кольчугах. К тому же им пришлось преодолеть довольно большое расстояние, прежде чем они приблизились к врагу. У Карла хватило времени, чтобы позволить своим людям снять шлемы и немного отдохнуть, прежде чем вести их отражать атаку. И все же шеренги гибеллинов выглядели так грозно, что Эрар де Сен-Валери советовал организовать ложное отступление. С разрешения Карла он отвел отряд французской конницы назад, словно отступая в панике. Невзирая на предостережения Энрике, гибеллины поддались на уловку и сломали строй. Одни последовали за Эраром, а другие атаковали короля. На первый взгляд армия Карла Анжуйского казалась разбитой, но когда Эрар повернул назад и начался рукопашный бой, гибеллины дрогнули. Инфант пытался отвести их и собрать вновь для еще одной атаки. Но лошади были измучены, а люди устали настолько, что не могли занести руку для удара. Вскоре все, чьи лошади еще могли их держать, бежали с поля боя, бросив своих товарищей на растерзание. После неудачного начала Карл все же одержал бесспорную и окончательную победу.
В ту ночь Карл сел писать письмо Папе. В манере, неуместность которой вопиет сквозь века, он начал письмо словами Исава, взятыми из Писания: «Встань, отец мой, — писал он, — и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Потом он описал битву, умолчав о ее начале и преуменьшив свои тяжелые потери. Он торжественно закончил словами: «Мы убили такое множество врагов, что их поражение при Беневенте — ничто, в сравнении с этим. Мы пишем это письмо сразу по окончании битвы и пока не можем сказать, убиты ли Конрадин и сенатор Энрике, или они бежали. Но можно сказать с уверенностью, что лошадь сенатора была захвачена, когда он, пеший, обратился в бегство».138
На самом деле большинство главных врагов Карла уцелели в битве. Конрад Антиохийский был его пленником. Инфант Энрике, римский сенатор, нашел убежище в монастыре Св. Сальвадора на дороге в Риети. Там его опознали и схватили. Сам Конрадин направился в Рим, куда и прибыл с Фридрихом Баденским и примерно пятьюдесятью рыцарями 28 августа. Сенатор Энрике оставил в Риме своим заместителем предводителя гибеллинов в Урбино, Гвидо да Монтефельтро. Но Гвидо, чья последующая карьера доблестного кондотьера строилась на предусмотрительной неприязни к поверженным друзьям, уже прознал о битве. Он отказался принять Конрадина и захлопнул ворота Капитолия перед его носом. Мальчика предупредили, что ему лучше покинуть город, куда Гвидо уже впускал гвельфов. Конрадин и его спутники поехали назад по Виа Валерия, надеясь каким-нибудь образом бежать через горы и присоединиться к мятежникам в Апулии. В Сарачи-неско жена Конрада Антиохийского вновь дала им приют, и там они встретились с ее отцом, Гальвано Ланца, который также нашел там убежище. В Сарачи-неско беглецы изменили свои планы: на востоке было слишком много агентов Карла, охранявших дорогу, поэтому они вместе с Гальвано отправились на юг через Кампанию в маленький морской порт Астуру, расположенный на болотистом берегу, где рассчитывали найти судно, которое довезет их в Геную. Местный сеньор, Джованни Франджипани, узнал о прибытии таинственных чужестранцев. Он приказал их арестовать и обнаружил, что у него в руках Конрадин, Фридрих Баденский, Гальвано Ланца и несколько аристократов из римских гибеллинов. Джованни заточил их в соседнем замке. Через несколько дней адмирал Карла, Роберт Лавенский, прибыл с Джордано, кардиналом Тер-рачины, чтобы именем короля и Папы потребовать передачи пленников ему. Сперва пленников отвезли в Палестрину. Там Гальвано Ланца был казнен как изменник вместе с одним из своих сыновей и несколькими итальянскими гибеллинами. Конрадина и Фридриха Баденского перевели в Неаполь, на остров Кастелло-дель-Уово.139
Карл был беспощаден. Милосердие, которое он проявил после своей победы при Беневенте, себя не оправдало. Он не собирался больше проявлять слабость. Из всех своих пленников он отпустил только Конрада Антиохийского, но не потому, что считал его менее виновным или менее вероломным, чем остальных, а потому, что жена Конрада держала в своих подземельях в Сарачинеско несколько важных аристократов из гвельфов, родственников кардиналов, и угрожала, что предаст их смерти, если ей не вернут мужа. У инфанта Энрике были слишком большие связи, чтобы его можно было казнить. За него просили и французский двор, и английский. Но хотя Энрике и сохранили жизнь, двадцать три года он провел в тюрьме. Главной проблемой было, как поступить с Конрадином.140
По легенде,
Папа Климент настаивал на смерти
мальчика. Слова: «Жизнь Конрадина
— смерть Карла, жизнь Карла —
смерть Конрадина» («Vita Conradini, mors Caroli:
vita Caroli, mors Conradini») — приписывают ему.
Как бы то ни было, Карл решил, что
Конрадин должен умереть, поскольку
он не сможет в безопасности сидеть
на сицилийском троне, пока принц
Гогенштауфен жив; а юношеское
обаяние Конрадина делало его тем
более опасным. Но Карл был
приверженцем законности. Если он и
собирался грубо нарушить традиции
своего времени и казнить пленного
принца, решение следовало
подкрепить законом. Юристам было
приказано подготовить обвинение
против Конрадина. Его вторжение в
королевство было представлено как
акт разбоя и государственная
измена. Позже апологеты Анжуйской
династии обвинили Конрадина в
военном преступлении за то, что тот
казнил Жана де Брезельва, что
действительно было нарушением
традиций той эпохи: но во время суда
об этом не упоминалось и едва ли
этот поступок можно было
рассматривать как простое убийство.
Судьи Карла знали, чего от них
ожидают. После короткого процесса
они объявили Конрадина виновным, а
вместе с ним и его друга Фридриха
Баденского, чьим единственным
преступлением была его преданность.
Обоих приговорили к смерти через
отсечение головы. Эшафот был
воздвигнут на Кампо Моричино в
Неаполе, на месте нынешней Пьяцца-дель-Меркато.
Там 29 октября
Суд над Конрадином и его казнь привели Европу в состояние шока. Для Данте, писавшего столетие спустя, Конрадин был невинной жертвой. Даже Папа, хоть и радовался пресечению рода гадюк, был глубоко потрясен. Гвельфский историк Виллани отчаянно стремился очистить память Климента от подозрений в соучастии. И поныне Карла обычно порицают даже французы, которые готовы многое простить одному из самых талантливых сынов Франции. Германцы всегда считали это величайшим преступлением в истории. Многие столетия спустя поэт Гейне писал об этом с горечью. Но Карл был реалистом и считал, что цель оправдывает средства. Он полагал, что только после смерти Конрадина сможет править спокойно.141
Глава
VIII
КОРОЛЬ
КАРЛ СИЦИЛИЙСКИЙ
Две крупные победы упрочили положение Карла в Сицилийском королевстве. Больше не осталось принцев из рода Гогенштауфенов, которые могли бы оспаривать его права. Трое молодых сыновей Манфреда были живы, но надежно заперты в неаполитанской тюрьме. В Германии молодой ландграф Тюрингский, Фридрих Мейсенский, внук Фридриха II по материнской линии, провозгласил себя наследником династии Гогенштауфенов и присвоил на время громкие титулы короля Сицилийского и Иерусалимского, но никто не принимал его всерьез. Король Кастильский время от времени хвалился тем, что в его жилах течет кровь Гогенштауфенов, но он был слишком занят другими делами для того, чтобы бросать вызов Карлу. К тому же его брат, инфант Энрике, был пленником Карла, и хотя король Альфонс не испытывал никакой симпатии к своему брату, семейная гордость Кастильской династии не позволяла ему рисковать жизнью инфанта. Несколько большую угрозу представляла дочь Манфреда Констанция, которая жила в Барселоне, будучи женой наследника короны Арагона, но в многочисленные честолюбивые планы ее старого тестя не входило завоевание Сицилии.
Король Карл мог спокойно властвовать над королевством и планировать дальнейшие завоевания. «Король Карл, — пел его трубадур, Пейре Кастельноу, — станет сеньором большей части мира — и он достоин этого».142 Казнь Конрадина никоим образом не тревожила совесть Карла. Через несколько дней после того, как юноша был обезглавлен, город Трани украсили по случаю второй женитьбы короля. Новая королева Сицилийская, Маргарита Бургундская, была не такой богатой наследницей, как ее предшественница, Беатриса, но у нее были неплохие владения в Центральной Франции, включая города Оксер и Тоннер и несколько ба-роний. К сожалению, брак был бездетный, и после смерти королевы земли отошли обратно к ее родственникам. Расширив таким образом свои французские владения, король Карл приступил к восстановлению своего контроля над Италией.143
Папу
Климента угрызения совести мучили
сильнее, чем короля. Ровно через
месяц после казни Конрадина он умер
в Витербо, 29 ноября
Задача Карла в Риме, да и во всей Италии, упростилась со смертью Папы Климента. Хотя кардиналы незамедлительно собрались в Витербо для избрания преемника, они не могли прийти к согласию. Была проведена целая череда конклавов, но без всякого результата — приблизительно около трех лет папский престол пустовал. Папа Климент назначил в Священную коллегию ряд своих соотечественников, и эти французские кардиналы препятствовали избранию итальянца, в то время как итальянские кардиналы были решительно настроены, принимая во внимание могущество Карла, не допустить избрания еще одного французского Папы. Пустующий папский престол был так удобен для Карла, что, без сомнения, он прилагал все усилия для того, чтобы продлить существующее положение вещей, оказывая влияние на французскую партию; но он официально держался в стороне от дебатов. Отсутствие Папы означало, что не было такой силы, которая могла бы ограничить власть Карла в Риме и его влияние в папском государстве в Центральной Италии.145
Такой
же удачей был для Карла и вакантный
императорский престол. Он
пустовал после смерти Фридриха II в
К концу
В Пьемонте Карл не чувствовал себя в безопасности. Там, в отличие от остальной Италии, старые феодальные семьи сохранили свое положение. Самые выдающиеся из них, граф Савойский и маркграф Монферратский, были настроены недружелюбно по отношению к сицилийскому королю, но их позиция делала низшую знать, предпочитавшую удаленного сюзерена могущественному соседу, тем более готовой принять сюзеренитет Карла, и земли его вассалов теперь были расположены таким образом, что ему открывалась дорога в Прованс и Ломбардию.147
Ломбардия представляла более сложную задачу. Разгром Конрадина, конечно, укрепил влияние гвельфов в большинстве ломбардских городов, но гибеллины стойко удерживали Верону и Павию, тогда как гвельфы, которые не предпринимали серьезных попыток противостоять Конрадину, теперь, когда угроза со стороны германцев миновала, с неприязнью отнеслись к идее господства Карла Анжуйского. В Ломбардии того времени наблюдалась тенденция к вытеснению коммунальной организации города правлением феодального синьора, и новые господа, даже будучи гвельфами, еще меньше, чем коммуны, хотели признавать власть энергичного сюзерена. Карл, однако, намеревался установить свой сюзеренитет во всей Северной Италии.
Месяцы,
последовавшие за разгромом
Конрадина, были заполнены мелкими
войнами и интригами. Гибеллины
Павии на какое-то время сдружились
с гвельфами в Милане. Попытки
Паллавичини вернуть Парму и
Пьяченцу привели к ряду
столкновений, в ходе одного из
которых он и умер. Карл сначала был
слишком занят на юге, чтобы
вмешиваться. Но в мае
Таким
образом, у Карла не было серьезных
причин для беспокойства по поводу
ситуации в Ломбардии, несмотря на
ослабление его влияния. Для Карла и
его амбиций гораздо важнее было
удерживать стабильную власть в
Сицилийском королевстве и
полноценно использовать его
ресурсы. Победа при Тальякоццо не
решила всех его проблем в
королевстве. Сицилия все еще была
охвачена восстанием, а сарацины в
Лучере все еще сопротивлялись
Карлу. Но мятежники не могли
теперь рассчитывать на серьезную
помощь из-за границы. Конечно, в
некоторых городах Апулии, таких как
Потенца, Галлиполи и Аверса,
которые балансировали на грани
мятежа, известие о победе Карла
вдохновило жителей, преданных
новому королю, вырезать всех
известных там сторонников
Конрадина. Те мятежники, которым
удалось спастись, присоединились к
сарацинам в Лучере. Огромная
крепость несколько месяцев
держалась против полководцев Карла.
Только в апреле 1269г. Карл прибыл
лично руководить осадой, и даже под
его командованием солдаты ничего
не могли поделать со стенами. Но
блокада была ужесточена. В конце
концов в августе
Мятеж
на Сицилии продолжался несколько
дольше. Коррадо Капече,
командовавший мятежниками, пытался
убедить Фридриха Тюрингского
прийти к нему на помощь, но
безрезультатно. Зато его
поддерживали жители острова, и
полководец Карла, Тома де Куси, мог
лишь удерживать Палермо и Мессину.
Тогда Карл послал Филиппа и Ги де
Монфоров с подкреплением. Они
смогли взять, а после — разграбить
мятежный город Аугусту,
расположенный между Катанией и
Сиракузами. Жители, избежавшие
солдатских мечей, были подвергнуты
пыткам и казнены. В августе
Во всем королевстве мятежники понесли очень суровую кару, даже по меркам того времени. Карл велел своим чиновникам не щадить никого, кто взят с оружием. Те, кто сдавался, должны были по выбору предоставить решение своей судьбы королю, или, при желании, их дела могли быть рассмотрены в Верховном суде. Но судьба Конрадина наглядно показала, каким бывает приговор судей. В городах, где мятежники раньше были у власти, объявили амнистию тем горожанам, которые не поднимали оружие против короля, но все германцы, испанцы и пизанцы из их числа должны были немедленно покинуть страну. Вся собственность мятежников была конфискована. Поначалу их женам позволили сохранить за собой свои поместья и имущество, но потом Карл, похоже, заподозрил, что те посылают деньги своим изгнанным мужьям. На их собственность наложили арест, и каждой положили небольшое пособие. Но были сделаны некоторые исключения, а вскоре было решено вернуть имущество вдовам. Эти репрессивные меры были тем более невыносимыми для итальянцев, что они вынужденно оказались под пристальным надзором и потому, что королевские чиновники практически все были французами. Меры оказались исключительно эффективными. Порядок был вскоре восстановлен по всему королевству, даже на Сицилии. Но эти меры посеяли семена черной ненависти на острове.
Административная
политика Карла также не могла
завоевать симпатии жителей острова.
Сначала он продолжил политику
Манфреда, не внося в нее существенных
изменений. Но после вторжения
Конрадина и восстаний он
реорганизовал королевство по
французскому образцу и проследил
за тем, чтобы на все важные посты
были назначены французы, которым он
мог доверять. Своих сторонников
Карл наделил фьефами. Это было
проделано с демонстративным
соблюдением законности. Карл
отказался признать, что Манфред,
Конрад или Фридрих II после его
официального отрешения от
должности Папой в
Карл
сохранил высшие государственные
должности, существовавшие во
времена его предшественников, —
коннетабля во главе армии и
адмирала во главе флота; верховного
судью; логофета во главе
королевской канцелярии; канцлера,
который всегда был духовным лицом
и главным архивариусом; камергера
— королевского казначея; и
сенешаля, управляющего королевскими
владениями. В
Для
осуществления своих честолюбивых
замыслов Карл был готов
использовать все богатство королевства.
Его налоги были высоки. Он жестко
придерживался налоговой системы,
созданной Фридрихом II, в которую
входили косвенные налоги,
таможенные и портовые сборы,
пошлины на различное сырье и ремесленные
товары, складские пошлины. Но
основным источником дохода
Фридриха была его subventio generalis, прямой
налог на собственность, который изначально
являлся феодальной «помощью»,
взимаемой в трудные времена для
защиты королевства; но император
превратил ее в регулярный
ежегодный сбор, размеры которого
варьировались в зависимости от его
насущных потребностей. Его
подданные были крайне возмущены
этим налогом, и на своем смертном
одре Фридрих упразднил его. Когда
Папа, предлагая корону Карлу,
поставил условие не притеснять
королевство с финансовой стороны и
вернуться к системе, существовавшей
при короле Вильгельме Добром, он
имел в виду, в частности, этот налог.
Но Карл слишком нуждался в деньгах,
чтобы соблюдать это условие
договора. Сумма, которую следует
собрать с каждой провинции, устанавливалась
ежегодно. Взыскивать ее должен был
юстициарий. После выплат и строгого
отчета о проделанной работе он
посылал оставшиеся деньги в государственную
казну. В
Все
эти налоги ложились тяжелым
бременем на подданных Карла. Но
король прекрасно понимал, что, пока
он не увеличит их благосостояние,
суммы, которые они смогут платить
в казну, будут уменьшаться. Карл был
убежден, что лучший метод — это
строгий государственный контроль.
Заводить частное дело не
возбранялось, но оно
регламентировалось различными
предписаниями. Для ввоза и вывоза
были необходимы лицензии.
Инспекторы и сборщики налогов
проверяли каждую деталь
экономической и коммерческой жизни.
Возможно, Карл, подобно многим
завоевателям Южной Италии,
полагал, что страна богаче, чем она
была на самом деле, и недооценивал
индивидуализм южан и их нежелание
работать на чужака. Однако во
многом деятельность Карла была
благотворной. Он проследил за тем,
чтобы торговые дела в суде
рассматривались и направлялись по
инстанциям справедливо, и защитил
купцов от своих слишком усердных
чиновников, пытался установить
стандарты мер и весов и провести
денежную реформу. Была создана
программа общественных работ.
Были отремонтированы дороги, в
частности главная дорога из
Неаполя через Сульмону и Абруцци в
Перуджу и Флоренцию и дорога из
Неаполя через Беневент в Фоджу и к
Адриатическому морю. Были
организованы ярмарки и рынки.
Особое внимание уделялось ремонту
и расширению морских портов. Было
завершено строительство
Манфредонии, начатое королем
Манфредом. Были расширены Барлетта
и Бриндизи, причем для последнего
города Карл сам спроектировал
новый маяк. Были предприняты усовершенствования
в Неаполе. Общепризнанной целью
этих работ в портах было
привлечение иностранных торговых
судов — из-за пошлин, которые те
будут платить. Манфредония, в
частности, считалась удобным
местом для стоянки кораблей, чтобы
переждать неблагоприятную погоду
в Адриатическом море. Поощрялось
горное дело. Серебряные рудники в
королевских владениях, открытые в
У короля были другие коммерческие способы увеличить свой доход. Он построил большой флот и сдавал суда в аренду торговцам. Кроме того, Карл, к вящему недовольству южан, позволил потоку купцов и банкиров из-за границы, в частности из Тосканы, хлынуть в страну. Они хорошо платили ему за эту привилегию, а Карл находил их более предприимчивыми и энергичными, чем своих подданных, если не считать жителей Амальфи. Он, правда, не поощрял евреев.155
Во
всей своей сложной администрации
король сам принимал деятельнейшее
участие. Сохранившиеся документы
показывают, с каким вниманием он
вникал во все детали и сам
способствовал созданию бесчисленных
предписаний, устанавливаемых его
двором. Ни один другой
средневековый правитель, даже брат
Карла, Людовик Святой, не был так
ежеминутно озабочен всеми
действиями своего правительства.
Карл вел беспокойную жизнь,
постоянно разъезжая по королевству,
и все его чиновники и секретари
должны были сопровождать его, что
делало его жизнь еще более сложной,
поскольку ни один город не мог
подолгу содержать такое количество
чиновников. Только к концу своего
правления Карл начал постепенно
переводить правительство в
Неаполь, превращая этот город в
настоящую столицу. После
Правление
Карла было искусным и эффективным.
Оно обеспечило порядок, правосудие
и некоторое процветание, но зато
никогда не было популярным среди
его подданных. По своей природной
склонности они не любили власть,
которая была такой дотошной,
всепроникающей и авторитарной, но
более всего потому, что она
принадлежала иностранцам. Карл не
доверял итальянцам, особенно после
Возможно, Карл и замечал недовольство, которое вызывало его правление, но не снисходил до того, чтобы придавать этому какое-то значение. Карл знал, что он прекрасный руководитель, и, похоже, считал, что его подданные будут благодарны за порядок, который он им обеспечил, и, если они открыто проявят свое недовольство, его стража и суды смогут с ними разобраться. Карл не простил Сицилии продолжительное восстание, и острову досталась лишь малая толика преимуществ его правления. Ни одной из сицилийских гаваней не уделялось столько внимания, сколько уделялось гаваням на материке, и различным ремесленным отраслям оказывалось мало поддержки. За королевскими поместьями на острове следили хорошо, и крестьяне там были так же защищены, как и повсюду в королевстве, но остальным жителям острова дали почувствовать, даже сильнее, чем при Гогенштауфенах, что они живут в простой провинции, чьи интересы не имеют никакого значения, в сравнении с интересами материка. Со стороны Карла было неразумно недооценивать сицилийцев и их злопамятность.158
Если бы Карл зависел материально только от своего королевства, то был бы предусмотрительнее, но он черпал дополнительную силу и уверенность в своих владениях за пределами Италии. Во Франции у него был большой апанаж в Анжу и Мэне. Эти две провинции образовывали административную единицу с центром в Анжере. Управлял ими бальи, которого назначал Карл, а после него — сборщик налогов, стоявший во главе центрального финансового ведомства. Большую часть владений составляли личные поместья Карла, которыми ведали прево и кастеляны, которые отвечали за местное правосудие и порядок. Вассальные сеньоры в этих двух графствах пользовались обычными во Франции того времени феодальными правами, но представители Карла внимательно следили за ними, и каждому из них рекомендовалось проводить как минимум сорок дней в году в Анжере, под присмотром бальи. Карл был в хороших отношениях с французской Церковью, но никогда не позволял ей посягать на его графские полномочия. Карл сам был почтительным и верным вассалом своего брата, короля Людовика, и постоянно держал в Париже доверенного человека, представлявшего его интересы. Хотя Карл так никогда и не приезжал больше в свое графство, он был в курсе всех творившихся там дел. Кроме нескольких назначений, никакие серьезные решения не принимались без его ведома, и постоянный поток курьеров курсировал между Анжером, Парижем и двором Карла в Италии. Вторая женитьба принесла Карлу треть графств Невера, Оксера и Тоннера, вместе с четырьмя небольшими баро-ниями, разбросанными по Северной Франции, — Монмирай, Аллюе, Ториньи и Брюньи. Всеми этими землями Карл управлял, так же строго наблюдая за положением дел из Италии; впрочем, после смерти Карла вдовствующая королева Маргарита вернулась во Францию и взяла управление этими владениями в свои руки.
Для
Карла ценность этих французских
земель заключалась в доходе,
который они ему приносили. Было
подсчитано, что ежегодные
поступления с этих земель
достигали суммы, которая
составляла не меньше одной пятой от
общего дохода со всего
Сицилийского королевства, а
чистая выручка Карла достигала
среднегодовой суммы более
Еще более важным для Карла было графство Прованс. С 1257г. у Карла не было никаких сложностей с провансальцами. Теперь они были его любимыми подданными, которым он отдал лучшие должности в своих владениях, и они ощутили на себе все преимущества его правления. После отъезда в Италию Карл оставил управление графством в руках своего верного друга, Адама де Люзарша, который впоследствии стал епископом Систерона. Адаму помогал сенешаль, который был главным чином и возглавлял совет (его подбирал и часто реорганизовывал сам Карл), верховный судья, казначей, а позже — финансовый советник (вместе с младшими чинами, matres-rationaux). Столица располагалась в Экс-ан-Прованс. Графство было разделено на несколько районов, так называемых бальяжей, под управлением бальи. Карл сохранил должности бальи, но урезал их полномочия, исключив правосудие из их компетенции и назначив судью, который также контролировал доходы каждого бальяжа. Все города были лишены своей прежней муниципальной независимости и подчинены прево, или вигье, которым, как и бальи, помогали судьи. Карл, подобно тому как он избегал назначать на ответственные должности в королевстве итальянцев, назначал людей из Анжу или Мэна и иногда неаполитанцев на ведущие исполнительные должности в Провансе. Когда в 1277г. Адам де Люзарш умер, Карл объединил в одно ведомство администрации Прованса и Сицилийского королевства; и с тех пор Прованс рассматривался как провинция королевства, но со своими собственными ведомствами. Это не вызвало открытого негодования провансальцев — несомненно потому, что управление королевством осуществляли их соотечественники, а Карл с особым вниманием следил за благосостоянием графства. У него была для этого веская причина, поскольку графство было основным источником его дохода, принося ему, как было подсчитано, чистый годовой доход в 20 000 ливров золотом. Строго говоря, Прованс был частью империи, но пустующее место императора весьма удачно избавляло Карла от необходимости почитать какого бы то ни было сюзерена.160
Именно
Прованс обеспечил Карлу средства,
которые тот собирался использовать
для удовлетворения своих амбиций. С
пресечением династии
Гогенштауфенов и искусной
реорганизацией его собственных
владений, пришло время для Карла,
короля Сицилийского, верховного
сеньора большей части Северной
Италии, сенатора Рима и графа Анжу,
Мэна и Прованса, использовать
накопленный им капитал для
создания Средиземноморской
империи.
Глава
IX
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Короли Сицилии уже давно стремились создать империю на землях восточного Средиземноморья. Еще Роберт Гвискард пытался обустроиться на востоке Адриатики. Члены его семьи участвовали в Первом крестовом походе, имея виды на сирийские колонии. Король Рожер подумывал о завоевании Греции. Император Генрих VI, король Сицилии по наследному праву своей жены, строил планы присоединить к своим владениям всю Византийскую империю. Фридрих II, хотя и не предпринимал попыток увеличить свои земли за счет греческих территорий, пытался доказать законность своих притязаний на титул короля Иерусалимского и сюзерена Кипра. Манфред вернулся к политике Гвис-карда и преуспел в завоевании плацдарма на Корфу и на побережье материка напротив острова. Тем временем весь этот вопрос слился с вопросом крестового похода. Четвертый крестовый поход, во время которого был взят и разграблен Константинополь, шокировал даже Папу. Но когда была образована Латинская империя, греки утратили симпатии Западной Европы, категорически отказавшись признать власть и веру завоевателей. С тех пор казалось допустимым считать любую войну против таких схизматиков крестовым походом. Сам Людовик Святой, несмотря на то что был убежден, с искренностью, редкой для того времени, что главной целью крестового похода должно оставаться освобождение Святой Земли от язычников, был готов согласиться с тем, что укрепление Латинской империи и подавление греческой схизмы весьма поможет главному делу. Падение Латинской империи и отвоевание Константинополя греками усилило это чувство. На самом деле Манфред, когда предложил полную поддержку латинскому императору в изгнании, надеялся таким образом показать миру, что он — убежденный крестоносец, и смягчить враждебность папства. Этим ему удалось на время привести Папу в замешательство. Если бы не уверенность в том, что рано или поздно на него в его же собственном королевстве нападет папский ставленник, Манфред, возможно, возглавил бы поход на Константинополь, чтобы восстановить Балдуина II на троне Латинской империи.161
Карл
перенял политику Манфреда, одним из
первых начинаний которого был
поход с целью взятия Корфу и
крепостей на материке, являвшихся
приданым королевы Елены. Манфред
доверил управление своему адмиралу
Филиппо Чинардо. Получив известие о
гибели Манфреда при Беневенте,
Чинардо продолжил правление уже
от своего имени. Деспот Михаил
Эпирский, возможно, и захотел бы
вернуть свои земли теперь, когда
его дочь была пленницей в Италии, но
он не был уверен, что сможет
свергнуть Чинардо. Вместо этого он
сохранил лицо, предложив Чинардо
руку своей свояченицы, немолодой
вдовы, объявив, что приданое
теперь принадлежит ей. Этот удачный
семейный договор не помешал
деспоту активно плести интриги
против своего свояка, а потом и
организовать его убийство, так что,
когда в конце
Но
честолюбивый Карл не
удовольствовался несколькими
островами и городами,
расположенными вдоль побережья
Албании. Его целью был Константинополь.
Бывшему императору Балдуину,
всецело полагавшемуся на Манфреда,
при французском дворе был оказан
прохладный прием, поскольку
вторжение Карла в Италию шло полным
ходом. В мае
Карл
уже связался с князем Гильомом
Ахейским, с которым обменялся
послами в феврале
Паутина дипломатического заговора на этом не обрывалась. В том же году Карл отправил посольство ко двору Абага, монгольского ильхана, правителя Персии. Монголы были побеждены египетскими мамлюками за семь лет до того в решающей битве при Айн-Джалуде, но они все еще контролировали северную Сирию и восточную Анатолию, а также Персию и Ирак. Карл боялся, что византийцы могут объединиться с турками, и надеялся, что монголы смогут держать их под контролем. Его послы были благосклонно приняты, но не достигли своей цели. Ильхан Абага, который недавно пришел на смену своему отцу Хулагу, не испытывал особой симпатии к франкам. Кроме того, он был женат на византийской принцессе, Марии Палеолог, известной монголам как Деспина-хатун и глубоко ими всеми почитаемой.165 Карл больше преуспел в поисках союзника в Европе. Венгерское королевство теперь простиралось от предместий Вены до Балканского полуострова. Оно включало в себя Словению и Трансильванию, большую часть Хорватии и Далматию. Престарелый король Венгрии Бела IV время от времени вторгался в Сербию и Болгарию. Король Боснии был его вассалом и зятем. Бела сам предложил несколько лет назад возглавить крестовый поход против греков-схизматиков. Он также был бы полезным союзником в Центральной Европе, где его сосед, король Чехии, похоже, предъявил претензии на императорскую корону. Едва получив известие о смерти своей супруги, Беатрисы Прованской, Карл написал Беле, чтобы попросить руки его младшей дочери, Маргариты. Но принцесса дала монашеский обет, и ее родители с пониманием отнеслись к ее желанию. Ходили слухи, что она изуродовала себя, чтобы избежать нежеланного брака. Тогда Карл сделал другое предложение. У наследного принца Венгрии, будущего Стефана V, был сын Владислав и дочь Мария. Владислав должен был жениться на дочери Карла Изабелле, а старший сын Карла, будущий Карл II, носивший в то время титул князя Салерно, должен был жениться на Марии. Король Бела дал свое согласие, и состоялась двойная свадьба. Благодаря этому браку впоследствии Анжуйская династия взошла на венгерский престол.166
Эти первые приготовления к походу на Константинополь были прерваны вторжением Конрадина в Италию. Пока захватчик не был уничтожен, восточная кампания была невозможна. Князь Ахейский лично пришел с 400 рыцарями помочь Карлу против Конрадина и сражался при Тальякоццо.
После этой победы проект был возобновлен, а союз между Карлом и Гильомом Ахейским упрочен, причем путем, который последнему пришелся не совсем по вкусу. У Гильома не было сыновей, но зато было две дочери, старшую из которых, Изабеллу, он объявил своей наследницей. Византийский император Михаил Палеолог просил руки Изабеллы для своего старшего сына Андроника; и если бы франки допустили это мирное воссоединение Ахеи с империей, вся история Греции могла бы сложиться по-другому. Но Карл рассудил по-другому. Карл теперь потребовал Изабеллу в жены своему второму сыну Филиппу и настоял на таком же соглашении, какое заключил с бывшим императором Балдуином: если новобрачный умрет бездетным, его наследником станет сам Карл. В случае с сыном Балдуина это условие было, возможно, оправданным, поскольку у бывшего императора Константинополя не было другого прямого наследника.167 Но в данном случае это означало лишить наследства законную наследницу в обход всей феодальной иерархии. Гильому пришлось согласиться скрепя сердце; на смертном одре, уже после смерти своего зятя Филиппа, он составил тайное завещание в пользу своей младшей дочери Маргариты.168
Карл
планировал начать поход на
Константинополь летом
Но
поскольку недоверие Папы к
победоносному Карлу росло, он не
стал окончательно отвергать предложения
Михаила. Папа был чрезвычайно
доволен, когда патриарх
Константинопольский написал ему в
дружеском и уважительном тоне и
когда Михаил, чтобы
продемонстрировать свою
искренность, предложил принять
участие в следующем крестовом
походе против язычников. Папа
почувствовал, что теперь может
диктовать свои условия. В своем
ответе на предложения императора,
отправленном 17 мая
Вторжение
Конрадина спасло императора
Михаила в
Карл оказался в затруднительном положении. Он искренне восхищался братом и уважал его, он также хорошо осознавал силу общественного мнения, на которое влиял Людовик. Король Сицилии не мог не присоединиться к своему брату, королю Франции, в крестовом походе. Но ему не хотелось отказываться от своего восточного похода. В тщетной надежде, что Людовик отложит свой поход, Карл продолжил свои военные и дипломатические приготовления против Константинополя. Но в то же время король Сицилии решил, что если присоединится к крестовому походу против мусульман, то этот поход стоит предпринять против тех мусульман, от войны с которыми он получит прямую выгоду.
Прямо за морем напротив Сицилии лежали владения Аль-Мустансира, эмира Туниса. Карл уже давно был им недоволен. Со времен короля Рожера II Тунис согласился платить ежегодную дань в 34 000 безантов[11] сицилийскому королю. Аль-Мустансир воспользовался падением Манфреда и сменой правящей династии как предлогом, чтобы прекратить выплату дани. Кроме того, он предоставил убежище сосланным сторонникам Манфреда и Конрадина и даже оказывал поддержку мятежникам на Сицилии. Но Аль-Мустансир не был фанатичным мусульманином: христианским беженцам при его дворе, так же как и заезжим купцам-христианам, была предоставлена полная свобода вероисповедания. Он позволил открыть доминиканский монастырь в своей столице. Ходили слухи о том, что его можно обратить в христианскую веру. Карл искусно привлек внимание короля Людовика к Тунису. Он указал на то, какое большое значение имеет контроль над Тунисом при походе на Египет и исламский Восток, и на то, что Аль-Мустансир готов принять христианство, но боится противодействия со стороны своих военачальников и имамов. Малейшая демонстрация силы позволит ему, не считаясь с их мнением, принять решение самостоятельно. Остается неясным, действительно ли Карл верил в возможность обращения туниского эмира, но его устроило бы послушание правителя Туниса, а еще больше — завоевание этой страны и присоединение ее к своей империи. Это обеспечило бы Карлу полный контроль над проливами Средиземного моря и застраховало от дальнейших проблем на Сицилии.172
Король
Людовик позволил своему брату
убедить себя. Возможность обратить
целое государство и его короля в
истинную веру пробудила в нем
энтузиазм, а стратегические доводы
показались ему вескими. Многие
советники Людовика были настроены
менее оптимистично. Мало кто из
них хотел, чтобы король отлучался
из страны в крестовый поход, но если
уж идти в поход, лучше было бы
отправиться прямо на Восток, рыцари
Святой Земли отчаянно нуждались в
помощи. Несколько самых верных
друзей Людовика, как, например, его
биограф Жан де Жуанвиль, отказались
присоединиться к крестоносцам.
Однако армия, с которой Людовик
выступил из Эг-Морта 1 июля
Хотя в тунисском походе были свои преимущества, Карл до последней минуты надеялся, что Людовик может вообще отменить крестовый поход, Карл знал, что многие королевские советники были против похода. Только после того, как французская армия уже выступила, он оставил свои приготовления к походу на Константинополь и приказал своим кораблям следовать под его командованием в Тунис. Требовалось время, чтобы провести корабли из портов Адриатики и собрать их у берегов Сицилии. Сам Карл отбыл из Неаполя, где провел начало лета, 8 июля. 13 июля он был в Палермо, где оставался еще месяц, ожидая свои корабли. 20 августа он был в Трапани, на крайнем западе острова. Вечером 24 августа Карл выступил во главе своего флота и на следующий день бросил якорь у берегов Туниса, где был встречен сообщением о том, что утром король Людовик умер.
Французская армия высадилась в Тунисе 17 июля. Высадка прошла беспрепятственно, но эмир Аль-Мустансир не спешил заявить о своем переходе в христианскую веру. Вместо этого он отступил в столицу и укрепил окружавшие город крепостные стены. Король Людовик разбил лагерь посреди развалин древнего Карфагена. Принимая во внимание враждебность Аль-Мустансира, казалось, что благоразумнее будет не нападать сразу на Тунис, пока не прибудет король Карл со своими войсками. А тем временем тунисские стрелки постоянно устраивали набеги на лагерь. Но значительно эффективнее, чем они, действовало африканское лето. В знойной духоте, имея мало представления о правилах гигиены в тропических условиях, французы заболевали дизентерией и брюшным тифом. Вскоре половина армии хворала, причем болезнь косила военачальников и простых солдат. 3 августа второй сын короля, Жан-Тристран, родившийся в Дамьетте двадцать лет назад, когда его отец был в плену у египтян, умер, а через четыре дня за ним последовал папский легат. К тому времени сам король Людовик и его старший сын Филипп были уже больны. Филипп выздоровел, а король Людовик, после трех недель болезни, умер 25 августа.
Прибытие
Карла спасло французскую армию: его
войска были полны сил и лучше знали,
как вести себя в тропическом
климате. Карл поспешил атаковать город
Тунис. Когда тунисская армия была
разбита в двух небольших битвах и
пришло известие о том, что приближается
еще один отряд крестоносцев под
предводительством принца Эдуарда
Английского, Аль-Мустансир
попросил о мире. Договор был
составлен 30 октября и подписан
эмиром, Карлом и его племянником,
королем Франции, 1 ноября. В этом
договоре Аль-Мустансир согласился
оплатить все военные расходы (причем
одна треть этой суммы отходила
Карлу), освободить всех христиан,
удерживаемых им в плену, платить
Карлу дань, чуть большей той, что
Аль-Мустансир прежде платил
нормандским королям, позволить
купцам Карла торговать в Тунисе,
предоставив им возможность
беспрепятственно проходить в город
и покидать его и свободу
вероисповедания. И в заключение все
политические изгои должны были
быть высланы из Туниса. Договор
действовал десять лет. Он был возобновлен
в
Карл оказался в таком выигрыше после заключения мира, что крестоносцы стали подозревать его в нечестной игре. Христианская армия могла бы захватить Тунис, думали они, но в этом случае Карлу пришлось бы разделить добычу с королем Франции, с королем Наваррским, с принцем Английским, который вот-вот должен был подоспеть, с Папой, с генуэзцами и прочими сеньорами. Неудивительно, что Карл предпочел мир, заключенный в результате переговоров, позволивший ему снять все сливки. Принц Эдуард, прибывший вместе со своим кузеном Генрихом Корнуэльским в начале ноября, был разочарован, обнаружив, что война закончилась. Он отправился дальше — в Святую Землю, дав указание Генриху Корнуэльскому возвращаться вместе с французской армией, чтобы возглавить правительство в Гаскони.174
Несмотря на выгодный мирный договор, неудачи все еще преследовали крестовый поход, в том числе и Карла. Болезнь в лагере продолжалась и унесла еще больше жизней. Король Наваррский уже заболел и умер в Трапани. Когда французская армия проходила через Калабрию, молодая королева Франции, Изабелла Арагонская, упала с лошади и умерла от ран в Козенце. Болезнь свирепствовала и в армии Карла, и еще большее бедствие постигло короля Сицилии от руки Господа. Когда флот крестоносцев плыл на север от Туниса, чудовищный шторм настиг его у западного побережья Сицилии. Восемнадцать кораблей утонули, включая несколько лучших галер Карла. Еще многие суда были серьезно повреждены. На восполнение потерь, достаточное для похода на Константинополь, потребовались бы многие месяцы.175
Смерть
короля Людовика была для Карла
серьезной утратой. Ему не всегда
нравилась политика Людовика, в
частности, он был в ярости от
рокового решения французского
короля отправиться в крестовый
поход. Но Людовик был верным и
любящим братом, на которого Карл
мог положиться. Новый король
Франции был более слабовольным
человеком. Филипп III восхищался
своим дядей и, когда они находились
рядом, был подвержен его влиянию. Но
Филипп был также предан своей
матери, а королева Маргарита
никогда бы не простила Карла за то,
что тот забрал все ее прованское
наследство. Еще в
Французская
армия медленно двигалась домой через
Италию. Карл проводил своего
племянника до Витербо. При жизни
Людовика Святого сильно расстраивала
неспособность кардиналов избрать
нового Папу, и король Филипп
стремился выполнить волю покойного
отца и покончить с церковным
скандалом. И снова Карлу пришлось
пожалеть о набожности своих родственников,
поскольку отсутствие Папы очень
его устраивало. Но было очевидно,
что рано или поздно Папу изберут, и
ему не хотелось показывать свое
нежелание помочь. Два короля
оставались в Витербо большую часть
марта
Визит королей в Витербо был омрачен трагедией. Вместе с французской армией ехал Генрих Корнуэльский, которого англичане называли «Германским», сын Ричарда, Римского короля, подающий надежды молодой человек, в котором многие видели возможного наследника отцовских притязаний на Священную Римскую империю. В свите Карла находились Ги и Симон де Монфоры, сыновья Симона, графа Лестера, который погиб, подняв восстание против английской короны. Принц Эдуард велел Генриху попробовать договориться с Карлом об освобождении инфанта Энрике, своего родственника, и попытаться помирить Монфоров с английской королевской семьей. Монфоры не захотели забыть о вражде с Плантагенетами, и однажды, когда Генрих молился в церкви Сан-Сильвестро, Ги подкрался к нему сзади и заколол. Генриха любили, и кощунственные обстоятельства его убийства потрясли общественное мнение. Несмотря на то что Ги был одним из его наиболее деятельных и успешных военачальников, Карл был вынужден отказаться от его службы и лишить его должностей и поместий.178
Завершение
крестового похода позволило Карлу
вернуться к своим
восточноевропейским проектам.
Крупномасштабный поход на
Константинополь пришлось отложить,
но оставалось еще множество других
дел. Деспот Михаил Эпирский умер в
начале
Тем
не менее Карл теперь оказывал
серьезное влияние на балканскую
политику. Он быстро нашел друзей
среди соседних монархов, которые
мечтали уничтожить империю
Михаила Палеолога. В Сербии, расположенной
непосредственно на востоке от
нового королевства Карла, правил
Стефан Урош I, чья жена Елена была
дочерью бывшего императора
Балдуина и ярой поборницей
католичества. К востоку от Сербии
располагалась Болгария, чей царь,
Константин Асень, был женат на
сестре мальчика-императора Иоанна IV,
которого Михаил Палеолог лишил
трона и ослепил. Хотя интересы их
стран и не совпадали, обе королевы
вдохновляли своих мужей
предпринять что-либо, что могло бы
унизить ненавистного греческого
императора в Константинополе.
Посланников Карла хорошо приняли
при обоих дворах. Пелопоннес теперь
попал под сильное влияние Карла.
Брак наследницы Пелопоннеса и сына
Карла, Филиппа, был заключен в мае
Глава
X
ПАПА
ГРИГОРИЙ X
Осторожность Карла была оправданной. С новым Папой следовало считаться. Тебальдо Висконти был лучшей кандидатурой, на которой смогли остановить свой выбор кардиналы. Он был итальянцем, рожденным в Пьяченце, но большую часть своей церковной жизни он провел на севере от Альп во Фландрии и не был замешан в последних политических разногласиях. В момент своего избрания он пребывал в Святой Земле. Тебальдо отправился туда во главе отряда фламандских крестоносцев, выступивших в поход вместе с принцем Эдуардом Английским. Его избрание было для него полнейшей неожиданностью, и Тебальдо не хотелось покидать Палестину. Первое, что он сделал, став Папой, — разослал энциклики, призывающие оказать активную помощь крестоносцам в Сирии, а его последняя проповедь, прочитанная им в Акре прямо перед отплытием в Италию, сводилась к словам: «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука». На протяжении всего понтификата, его страстным желанием оставался крестовый поход в Святую Землю.
Новый
Папа высадился в Южной Италии в
январе
У
Григория было достаточно времени,
чтобы обдумать свою политику.
Через четыре дня после восшествия
на престол он издал буллу,
призывающую Вселенский церковный
собор собраться через два года, 1
мая
Отношения
Карла с Генуей никогда не были
особенно хорошими. Они
поссорились очень давно из-за
лигурийского побережья, и, хотя
генуэзцы получили землю, на
которую претендовали, а взамен не
оказывали активного сопротивления
войскам Карла, двигавшимся через
Италию, они ничего не сделали, чтобы
ему помочь. Правительство Генуи
номинально было гвельф-ским, но
гибеллины не были изгнаны из города;
к тому же Генуя не вступала в союзы
с другими гвельфскими городами.
Генуэзцы были возмущены
соглашением Карла с бывшим
императором Балдуином, поскольку
пользовались поддержкой
византийцев и боялись ее потерять,
особенно когда договор,
подписанный в Ви-тербо, давал
гарантии только их ненавистным
соперникам — венецианцам. Генуя
не оказывала поддержки Конрадину,
но ведущие генуэзские гибеллины
демонстративно вышли
приветствовать его, когда он на
день остановился в Портофино. В
августе
Договор
оказался эфемерным. Генуэзское
правительство проявило добрую
волю по отношению к французам,
предоставив королю Людовику
корабли, в которых тот нуждался
для Тунисского крестового похода.
Когда до Генуи дошла весть о
болезнях и невзгодах, постигших
крестоносцев, в числе которых были
генуэзские моряки, общественное
мнение обернулось против
правительства. Было невозможно
изгнать всех гибеллинов, они были
слишком многочисленны, и у их
предводителей, семей Спинола и
Дориа, было много друзей в городе. 28
октября
Новое правительство гибеллинов не хотело портить отношения с Карлом. Оно предусмотрительно держалось в стороне от гибеллинов Тосканы и Ломбардии. Генуя выиграла от договора Карла с Тунисом, поскольку многие генуэзцы, которых долго удерживали в плену, были освобождены. Но во время шторма, настигшего флот крестоносцев на обратном пути из Туниса, несколько генуэзских кораблей утонули, а еще больше были повреждены. Неблагодарный Карл предъявил свои права на поврежденные корабли и груз, выброшенные штормом на сицилийское побережье, и Генуя тщетно протестовала. Несколько месяцев спустя, когда Карл был в Риме на рукоположении Папы в сан, кардинал Оттобоно деи Фиески, поддерживавший близкие отношения с гвельфами Генуи, организовал там встречу Карла с главными изгнанниками-гвельфами. Карл пообещал им свою помощь, а они предложили ему стать капитаном Генуи, когда смогут вернуться в город. Известие об этом договоре укрепило народную поддержку правительства гибеллинов в Генуе, но вызвало тревогу. Капитаны города решили обратиться к Папе.182
Папа
Григорий ни от кого не зависел в
своих действиях. Он был честным и
непредвзятым человеком, чьей
единственной целью было
процветание христианства. До
Карла ему, похоже, не было дела, но
он был готов его поддержать, если
только это могло послужить на
пользу Церкви. Любимый племянник
Григория, Видомино деи Видомини,
занимал должность судьи в Провансе
при Карле, и Карл назначил его
архиепископом Экс-ан-Праванса.
Папа был предан Видомино и сделал
его кардиналом в
Но
Григорий и мысли не допускал, чтобы
папство оказалось хоть в чем-то
зависимо от Карла, и отчаянно
стремился прекратить давнюю вражду
между гвельфами и гибеллинами,
раздиравшую почти каждый город
Италии. Он был неприятно удивлен,
узнав, что Видомино считают орудием
в руках Карла. Легата отозвали
обратно к папскому двору и оставили
там, даровав в утешение шапку
кардинала. В мае
Ричард
Корнуэльский, Римский король, умер
в Англии 2 апреля
Тем
временем Папа поторопил выборщиков
собраться и выполнить свой долг.
Было трудно подобрать подходящую
кандидатуру. Григорий хотел найти
человека сильного, но
относящегося к Папе с должным
почтением. Германские князья
хотели слабого государя, который
не будет наводить порядок за их
счет. У соседних монархов были свои
взгляды на этот счет. Наиболее
ярким кандидатом был Отакар II,
король Чехии. Короли Чехии, как
наследственные кравчие императора,
входили в число князей-электоров,
хотя некоторые юристы были против
на том основании, что те не были
германцами. Но теперь во владении
Отакара находились довольно
обширные германские земли, отчасти
завоеванные, а отчасти полученные в
наследство от рода Бабенбергов в
Австрии и Штирии в результате
женитьбы Отакара на женщине вдвое
старше его. Он также благодаря
удачным крестовым походам,
проведенным совместно с
тевтонскими рыцарями против
прусских язычников, получил
большую часть Силезии и ее северных
пограничных марок, так что его
владения простирались почти от
Балтийского моря до Адриатического.
Отакар был в общем в хороших отношениях
с Церковью, а его семья всегда
испытывала неприязнь к
Гогенштауфенам. Недавно, имея виды
на империю, Отакар провозгласил
себя врагом гвельфов и устроил
помолвку своей дочери с Фридрихом
Тюрингским. Затем он снова изменил
политический курс и подружился с
королем Карлом и папством. Отакар
попросил Григория отменить
помолвку его дочери, с тем чтобы она
могла выйти замуж за старшего внука
Карла. Григорий согласился, и
некоторое время казалось, что он
собирается поддержать кандидатуру
Отакара.186 Карл, однако,
придерживался другого мнения. Он хотел
союза с Отакаром, но тот, став
императором и опираясь на свои
владения в Штирии и на севере Адриатики,
приобрел бы слишком большое
влияние в Северной Италии. Карл
написал своему племяннику, королю
Филиппу Французскому, с тем чтобы
тот выставил свою кандидатуру на
пост императора. Карл писал, что он
сможет убедить Папу поддержать Филиппа
и что шесть могущественных королей,
с которыми Филипп был связан
родственными узами, окажут ему
поддержку. Это был умный ход. Филипп,
став императором, несомненно,
оставил бы власть над Италией
своему любимому дяде; чувство
благодарности Филиппа к Карлу
должно было быть настолько сильным,
что он наверняка избавился бы от
вредного влияния своей матери. Но
оптимизм Карла граничил с безумием
— он полностью ошибался на счет
Григория и не мог всерьез
рассчитывать на то, что короли
Кастильский и Арагонский
действительно поддержали бы кандидатуру
своего французского кузена. Филипп
же прельстился этим проектом. В
июле
На самом деле Григорий не собирался позволять иностранному королю становиться императором. Он даже предусмотрительно отказался от кандидатуры Отакара Чешского, поскольку германские электоры все равно бы его не избрали. Среди германцев наиболее вероятным кандидатом был Генрих Баварский, дядя и наследник Конрадина. Но хоть он и разделил семейное наследство со своим братом Людвигом, который стал пфальцграфом, Генрих все равно был слишком могущественным. К тому же он и не стремился занять императорский престол. Его брат, граф Людвиг, предложил свою кандидатуру. Как пфальцграф, он входил в число князей-электоров, но единственный голос, на который он мог рассчитывать, был его собственный. Следующей кандидатурой являлся граф Отто Ангальтский, но он был совершенным ничтожеством. Наконец, Фридрих, бурграф Нюрнберга, родоначальник династии Гогенцоллернов, предложил кандидатуру Рудольфа Габсбургского, ландграфа Эльзаского.
Рудольф
был хорошим кандидатом. Он был
человеком, известным своим опытом
и набожностью, высокого роста, с
довольно суровой наружностью и
спокойным и учтивым нравом,
пятидесяти пяти лет от роду. Его
семья была традиционно предана
Гогенштауфенам, и сам Рудольф
неоднократно подвергался анафеме
за услуги, оказываемые этой
династии; в последний раз его
отлучили от церкви, когда он
сопровождал Конрадина до Вероны.
Он был только графом империи, а не
князем, но зато он был богат.
Владения семьи Рудольфа
располагались в Северо-Западной
Швейцарии, где в его собственности
находилась большая часть страны,
расположенная между Рейном, Аарау и
озером Люцерн, к тому же он недавно
унаследовал богатое графство Кибург,
которое находилось приблизительно
на территории современного
Цюрихского кантона; еще Рудольф
владел большей частью Верхнего
Эльзаса. Таким образом, он
пользовался уважением, был богат,
но не слишком могущественен. К
лету
Ландтаг
был в итоге назначен на 29 сентября
Отакар
сам не явился на заседание, но
прислал епископа Бамбергского в
качестве своего представителя, дав
ему указания чинить как можно
больше препятствий процедуре
выборов. Остальные князья ответили
на это заявлением, что король Чехии
не имеет права участвовать в
выборах и что статус седьмого
электора должен принадлежать
герцогу Баварскому. Таким образом,
они получили возможность
единогласно поддержать Рудольфа.
Он был провозглашен Римским
королем во Франкфурте 1 октября и
коронован в Ахене 24 октября.188
Григорий, возможно, предпочел бы, чтобы выбрали Отакара, но, несмотря на гневный протест короля Чехии, выраженный в письме, Папа принял выбор электоров, выказав всяческое великодушие и сердечность.189 Прошло несколько месяцев, прежде чем Папа формально признал выборы состоявшимися, и только к следующему сентябрю он пригласил Рудольфа, Римского короля, приехать в Рим, чтобы короновать его императорским венцом. Но до тех пор Папа давал понять, что рассматривает Рудольфа как законного короля, и тепло встречал его представителей на Лионском соборе.190
Избрание
Рудольфа вернуло Германии надежду.
Не все ожидания сбылись, но его
мудрое и осторожное правление
смогло восстановить порядок в
стране и заложить основы ее
процветания в следующем столетии; а
его победоносная война с Отакаром
принесла Рудольфу и его потомкам
контроль над Австрийской и
Штирийской провинциями, которые
послужили впоследствии основой
могущества Габсбургской династии.
Для Карла избрание Рудольфа было
дипломатическим поражением.
Появление действующего избранного
императора неизбежно подрывало
его авторитет в Северной Италии и
воодушевляло его врагов. Главным
недругом Карла на тот момент была
Генуя. В ноябре
Открытая
вражда между Карлом и генуэзцами
вспыхнула в конце
Война с Генуей стоила дорого, а Карлу и так пришлось потратиться на восстановление своего флота после Тунисского крестового похода. Он не мог планировать новый поход на Константинополь, пока Папа Григорий не сообщит о своих пожеланиях касательно церковной унии. Григорий хорошо знал Восток и понимал то, чего не понимал никто со времен его великого предшественника Урбана II: для успешного крестового похода необходимо добровольное сотрудничество восточных христиан. Бессмысленно было полагать, что возрождение Латинской империи поможет в этом деле. Предыдущий опыт доказал обратное. Но если бы Византийская империя добровольно покорилась Риму, она могла бы стать бесценным союзником. Григорий выбрал правильный момент, поскольку окруженный врагами со всех сторон император Михаил Палеолог очень боялся нападения из Италии. Если покорение Риму было единственным способом нейтрализовать Карла, тогда в Константинополе следовало серьезно задуматься о политике церковного подчинения. Михаил был осторожным дипломатом. Он понимал важность союза с папством, но до сих пор его попытки угодить Риму оканчивались неудачей. Когда новый Папа прислал Михаилу написанное в дружественном тоне приглашение присутствовать на Соборе, посвященном объединению церквей, византийский император незамедлительно ответил, хотя церковная уния означала бы принижение его собственной церкви. Михаил видел в этом единственный способ сохранить за собой трон и ошибочно надеялся, что его народ поймет, что политическая независимость стоит этой жертвы.193
Григорий
X был достаточно проницателен: он
понимал, что для Константинополя
главным аргументом в пользу
объединения церквей служит опасное
положение, в котором оказалась
Византийская империя. Поэтому он
не собирался улаживать
политические трудности
императора Михаила, пока не получит
от него четкое заявление в пользу
церковного подчинения Риму. Это
заявление следовало сделать даже
раньше, чем делегаты из
Константинополя успеют прибыть на
Вселенский Собор для обсуждения
подробностей унии. Тем временем
Григорий слегка надавил на
императора, запретив любому
западноевропейскому государству,
например Венеции, желавшему
вступить в договор с Михаилом,
заключать с византийцем
долгосрочные соглашения. Папа
также намекнул, что не сможет все
время сдерживать Карла, но пока что
сицилийскому королю было запрещено
предпринимать какие-либо враждебные
действия. Напротив — его обязали
предоставить гарантии
безопасности любому византийскому
послу, который проезжал через его
владения на своем пути в Рим.
Церковные переговоры продолжались
весь
К концу года Михаил убедил Папу в своей искренности, но открыто признался, что идея унии непопулярна в Константинополе. В основном благодаря убедительной тактичности Иоанна Парастрона, францисканца греческого происхождения, которому доверяли и Папа, и император (своим мягким и благочестивым нравом он снискал уважение греков), а также благодаря энергии Хартофилакса, Иоанна Векка, который стал ревностным сторонником унии, удалось убедить Синод, несмотря на сопротивление патриарха Иосифа, подписать декларацию, признающую примат римского престола, право апелляции в Риме и необходимость упоминать имя Папы во время литургии. Богословский вопрос о filioque194 в «Символе Веры» не был упомянут, но его предполагалось обсудить на Соборе. На тот момент это устраивало Папу, и греческая делегация была официально приглашена на Собор.195
Все эти переговоры приводили Карла в ярость. Он вынужден был приостановить свои действия против Константинополя — его война с Генуей сопровождалась все возрастающими трудностями в Северной Италии, и он не мог себе позволить разрыв с папством. Карл все еще надеялся, что из объединения церквей ничего не выйдет. 15 октября 1273г. он наконец отпраздновал свадьбу своей дочери Беатрисы и Филиппа де Куртенэ, сына бывшего императора Константинополя Балдуина, о которой договорились в Витербо за четыре года до этого. Через несколько дней после свадьбы Балдуин умер, и Филипп заявил свои права на императорский титул. Григорий, когда писал к Филиппу в ноябре с просьбой не чинить препятствий византийским послам, обращался к нему как к латинскому императору Константинополя, а о Михаиле говорил как о греческом императоре, но это была простая учтивость, не дававшая Филиппу большой надежды.196
В
то время как Карл пребывал в
вынужденном бездействии, Михаил
развил бурную дипломатическую
деятельность. Болгарский царь
овдовел. В
Относительно Балкан Михаил мог быть спокоен, но успехи его дипломатии в самой Греции были куда более скромными. Преемник Михаила Ангела Эпирский деспот Никифор был женат на племяннице императора Михаила, сестре болгарской царицы; но если жена деспота Анна была женщиной энергичной и неразборчивой в средствах, то ее муж был слаб и бездеятелен. Его сводный брат Иоанн, дука Навпатраса, был более серьезной фигурой. Император Михаил пытался контролировать его, женив одного из своих племянников, Андроника Тарханиота, на дочери Иоанна и наделив дуку титулом севастократора. Но неблагодарный племянник спелся со своим тестем, который вовсе не считался с Константинополем. Михаил надеялся организовать союз греков против католиков в Греции. Единственное, чего он добился, — незначительная война на острове Эвбее, для которой он задействовал молодого местного авантюриста, уроженца Виченцы Ликарио. Ликарио оказался блестящим полководцем и постепенно завоевал этот остров для императора.198
В
Западной Европе Михаил вступил в
тесный контакт с генуэзцами, а
через них он к концу
Карл
был в ярости оттого, что Папа связал
ему руки и он мало что мог
противопоставить действиям императора.
Король мог только надеяться, что
задуманная церковная уния
провалится. Согласно его договору с
бывшим императором Балдуином, он
должен был вторгнуться в
Византийскую империю к лету
Весной
Григорий
въехал в Лион в сопровождении
пышной свиты в ноябре. Следующие
месяцы он провел в подготовке к
Собору, писал письма всем
высокопоставленным
священнослужителям, созывая их на
предварительные встречи, где
можно было обсудить проблему крестового
похода. Он уже получил ряд докладов
от специалистов с предложениями
касательно того, как снова сделать
это движение популярным. Григорий
созвал богословов для помощи в
диспутах, которые возникнут с
греками. Среди них был Фома
Аквинский, написавший трактат об
заблуждениях Православной церкви.
Фома в то время жил в Неаполе и был в
не очень хороших отношениях с
королем Карлом. Когда он заболел в
замке Мардженца, расположенном
неподалеку от Неаполя и
принадлежавшем его племяннице,
люди тут же заподозрили, что его
отравили агенты Карла. Фома
продолжил свое путешествие, будучи
очень больным, и умер в Фоссануова,
неподалеку от Аквино, 7 марта
После трехдневного поста четырнадцатый Вселенский Собор был открыт в Лионе лично Папой Григорием в понедельник, 7 мая 1274г. Папа пригласил на Собор тринадцать королей: французского, английского, шотландского, норвежского, шведского, венгерского, чешского, кастильского, арагонского, наваррского и армянского, и вдобавок — Карла, короля Сицилийского, который, как он знал, не прибудет, и Римского короля, которого он еще не признал официально, но которому не возбранялось прислать послов. К сожалению, за одним исключением, короли отказались от приглашения. Григорий и не ожидал ничего другого от тех, кто жил в отдаленных королевствах, но король Франции, который встретил его на подъезде к Лиону и сопровождал его в город, отказался вернуться, чтобы присутствовать на Соборе. Эдуард Английский, на которого Папа особенно рассчитывал, оскорбил его, назначив свою коронацию на время заседания Собора, таким образом не позволив английским епископам приехать на Собор. Альфонс Кастильский пытался добиться встречи с Григорием не его пути в Лион, но сам не собирался приезжать в город. Из присутствовавших царственных особ двое были неудачливыми претендентами на трон: законный латинский император Филипп и княгиня Мария Антиохийская, притязавшая на иерусалимский престол. Единственным коронованным монархом из присутствовавших был Хайме Арагонский, неотесанный солдафон, который был искренне заинтересован в крестовом походе, но вскоре он нашел проекты Папы любительскими и невыполнимыми; ему было мало дела до аскетичной атмосферы, в которой собрались священнослужители. Вскоре Хайме вернулся в объятия своей любовницы, Беренгарии, ничего не пообещав; он умер через два года, отлученный от церкви Григорием за то, что соблазнил жену одного из своих вассалов.
Сначала на Соборе обсуждались различные вопросы церковной реформы. Большинство из них касались ссор между различными священнослужителями и монастырями. Некоторые имели отношение к законам об отлучении от церкви. Было принято одно важное постановление, предотвращающее дальнейшее междувластие в папском правлении. После смерти Папы кардиналы должны были ждать отсутствующих коллег не более десяти дней. Затем они должны были собраться на конклав, отрезанные от внешнего мира до тех пор, пока не сделают свой выбор. Чем дольше они будут медлить, тем более суровыми будут становиться условия их жизни, и они не будут получать содержание, пока папский престол будет пустовать. Затем на Соборе обсуждался крестовый поход. В отсутствие королей не было принято никаких практических решений, а после отъезда Хайме Арагонского воцарилась атмосфера уныния. Посол французского короля, Эрар де Сен-Валери, уже объявил, к негодованию Хайме, что считает сам крестовый поход пустой затеей, и его замечание было встречено не протестами, а молчанием. Все, что мог сделать Папа, — издать новые указы, согласно которым церковная десятина должна была идти на нужды крестового похода, и эта мера сделала идею крестового похода еще менее популярной как среди европейских монархов, так и среди их подданных. Григорий также запретил итальянским приморским городам продавать оружие или сырье сарацинам и приказал, чтобы ни одно христианское торговое судно не заходило в мусульманские порты в течение шести лет. Обеспечить выполнение этих указов было невозможно.
Григорий добился чуть большего успеха в дипломатических мероприятиях. Он стремился восстановить мир и порядок в Европе, чтобы подготовиться к крестовому походу. Его приказ всем монархам Европы — прекратить войны — был выполнен лишь отчасти; правда, фактически некоторые из наиболее воинственных государей, таких как испанские короли и Отакар Чешский, на некоторое время обуздали себя. Подав пример остальным, Папа добился общего признания Рудольфа Габсбурга Королем Римлян.203 Но величайшим триумфом его дипломатии было подчинение греческой Церкви.
Несмотря на растущее негодование в Константинополе, император Михаил решил принять условия Папы. Патриарх Константинополя Иосиф все еще отказывался одобрить даже приемлемую доктрину, выработанную Иоанном Парастроном. В январе 1274г. Иосифу было приказано удалиться в монастырь. Ему было сказано, что, если уния не будет принята, он сможет снова стать патриархом, с условием что не будет предпринимать никаких карательных мер в отношении сторонников унии. Если же уния будет реализована, он может либо принять ее, либо оставить свой пост и остаться в монастыре. Тем временем Михаил заверил византийское духовенство в том, что не будет никаких перемен в церковных ритуалах и что в Константинополь не ступит нога ни одного папского легата или представителя. Папа решил, что для империи и духовенства, собрав-шегося в Констангинополе, будет достаточно объявить о своем присоединении к Римской церкви до отправки специальных легатов из Рима. Михаил понял, что это может привести к восстанию в Константинополе, и предпочел в качестве альтернативы послать полномочную делегацию в Лион.
Делегация
отправилась в начале марта на двух
галерах. На первой были
представители духовенства, бывший
патриарх Герман и Феофан,
митрополит Ни-кейский, и личный
посол императора логофет Георгий
Акрополит. На второй — еще два
важных придворных сановника и
несколько секретарей и священнослужителей,
а также подарки, предназначенные
византийским императором для Папы.
Огибая мыс Малея, корабли попали в
шторм, и вторая галера разбилась о
скалы. Все пассажиры, команда и груз
погибли, за исключением одного
матроса. Так что посольство, прибывшее
в Лион 24 июня, оказалось менее
блестящим, чем предполагалось, да и
его личный состав был не очень-то
впечатляющим. Георгий Акрополит
был известным политическим
деятелем и ученым, но что касается
входивших в посольство
священнослужителей, митрополит
Никейский не был особо выдающейся
личностью, а Герман хотя и занимал
патриарший престол в
Константинополе в
Папа и кардиналы торжественно приветствовали посольство. Послы передали секретарю Папы три письма: одно от императора, одно от его старшего сына Андроника и одно от нескольких ведущих греческих иерархов. Через пять дней, в день святых Петра и Павла, послы присутствовали на праздничном богослужении, проходившем частично на греческом языке. Во время богослужения греческие церковники присоединились к греческим епископам-униатам из Калабрии, и спели «Символ Веры», включая filioque, повторив его трижды. Однако заметили, что митрополит Никейский прекратил петь, как только дошло до этих слов.204 Официальная церемония объединения состоялась в пятницу, 6 июля. Папа, выразив свою радость по поводу добровольного возвращения греков в лоно Римской церкви, сначала прочитал вслух три полученных им письма в переводе на латинский язык. Император Михаил в своем письме заверял в своей приверженности принятому в Риме варианту «Символа Веры» и признавал примат Римской церкви, которой он себя вверял. Затем император просил о том, чтобы Греческой церкви было позволено придерживаться того варианта «Символа Веры», какого она придерживалась до раскола, и существующего ритуала, поскольку он не противоречит заповедям Божьим, Священному Писанию, Соборным постановлениям и Святым отцам. Письмо сына императора было написано в тех же выражениях, а епископы в своем послании, после ссылок на искреннее стремление императора к церковной унии, заявляли о своей готовности воздать должное Папе, как это делали их предшественники до раскола. Это письмо было сформулировано довольно туманно: оно не налагало слишком больших обязательств на подписавших его прелатов. Затем логофет, как личный представитель императора, поклялся от имени своего господина отказаться от Схизмы, принять «Символ Веры» и догматы Римской церкви как единственно истинной и признать ее главенство и повиноваться ей. Папа не отказался бы получить письменную и заверенную копию этой присяги, но таковой не оказалось. Возможно, она погибла в кораблекрушении. Когда логофет повторил присягу, Папа торжественно пропел «Те Dеит» и сам прочел проповедь, процитировав слова Христа из Евангелия от Луки: «Очень желал Я есть с вами сию пасху». После чего пропели «Символ Веры» на латинском и греческом языках, и слова «Qui ех Раtrе Filioque рrocessit» (От Отца и Сына исходит) повторялись дважды. Раскол официально закончился.205
В следующий понедельник Папа принял посольство, которое обрадовало его почти так же, как греческое. Монгольский ильхан прислал шестнадцать послов, которые прибыли 4 июля, чтобы договориться о союзе с христианскими народами против мусульман-мамлюков. Григорий принял посланцев необычайно благосклонно и был крайне доволен, когда один из них вместе с двумя людьми из своей свиты добровольно принял крещение, но Папа не мог предложить ильхану ничего определенного, кроме благих обещаний.
Григорий
X был доволен итогами Собора.
Конечно, не было принято никакого
определенного решения в отношении
крестового похода. Но он был уверен,
что церковная уния ценна не просто
самим фактом объединения, но и тем,
что облегчит организацию любого
крестового похода, вновь открыв
дорогу через Анатолию. Кроме того,
короли чувствовали некоторое раскаяние
из-за того, что не оказали ему
никакой поддержки. Филипп
Французский на следующий год дал
обет отправиться в крестовый поход,
и король Рудольф почти
одновременно сделал то же — правда,
в обмен на обещание, что его
коронуют императорским венцом.
Папа тем временем продолжал
работать над мирным
урегулированием. Он встретился с
Альфонсом Кастильским в мае
Карл
уже знал, что уния состоялась.206 28
июля
Впрочем, на тот момент для Карла согласие на перемирие не было такой уж большой жертвой. Его война с Генуей как раз переросла в войну против возрожденной лиги гибеллинов и стоила ему больше, чем он мог себе позволить. Григорий проявил понимание: когда он узнал, что Карл готов продать свои драгоценности, чтобы заплатить дань папству, то разрешил ему отложить выплату. Он также отлучил от церкви Геную и ее союзников-гибеллинов — Асти и маркграфа Монферратского. Но Папа дал ясно понять — теперь Рудольфу Габсбургу, а не Карлу надлежит восстанавливать порядок в Северной Италии. Он написал сицилийскому королю, что прекрасно понимает, что Карлу не понравится его политика: но, поразмыслив, Карл поймет, что это — разумный и правильный шаг. Когда Карл попросил Папу убедить Рудольфа пожаловать ему Пьемонт, Папа передал его просьбу, но от себя добавил, что делает это только по настоянию Карла и сам он считает, что для Габсбурга было бы большой ошибкой отдать провинцию такой стратегической важности. Папа также отреагировал не так активно, как хотелось бы Карлу, когда давняя противница сицилийского короля, французская королева Маргарита, вновь стала чинить ему помехи. Едва узнав о том, что Рудольф признан Римским королем, Маргарита написала ему (с согласия своей сестры, английской королевы-матери) о своем недовольстве тем, что ее обманом лишили Прованского наследства. Поскольку официально император все еще являлся сюзереном Прованса, она обращалась к нему с просьбой возместить ей ущерб. Рудольф был, вне всякого сомнения, чрезвычайно рад признанию своей власти в Провансе и, похоже, пошел даже на то, что пообещал передать ей это графство. Попытки Григория примирить Карла и Рудольфа удержали Габсбурга от воплощения своего плана в жизнь, но Папа ни словом не упрекнул мстительную вдову.208
Война
с Генуей шла плохо. В октябре
Осенью
Во всех своих делах с королями Европы Григорий руководствовался одним принципом: устроить крестовый поход в Святую Землю. Если он и проявил безразличие к неудачам Карла в Северной Италии и крушению его честолюбивых планов в Греции, то только потому, что надеялся, что Карл теперь будет действовать в том самом направлении, где военные действия пойдут во благо Церкви. Григорий приложил все усилия, чтобы заинтересовать Карла крестовым походом. Одна из немногих царственных особ, присутствовавших в Лионе, княгиня Мария Антиохийская, прибыла туда в поисках поддержки своих притязаний на иерусалимский престол как наследница Конрадина. Хотя ее мать была младшей сводной сестрой прабабушки Конрадина, королевы Марии Иерусалимской, она считала себя более близкой его родственницей, чем успешный претендент на трон, король Гуго III Кипрский, который был внуком старшей сводной сестры королевы Марии. Мария Антиохийская объявила о своих притязаниях на заседании Высшей курии[12] в Акре, как только пришла весть о смерти Конрадина. Но юристы Святой Земли решили в пользу короля Гуго. Марию Антиохийскую поддержали только тамплиеры. Для всех остальных деятельный молодой король Гуго представлялся очевидно лучшим кандидатом, чем пожилая дева, каковы бы ни были ее законные права.
Еще
в бытность свою на Востоке Григорий,
вероятно, выразил некоторое
сочувствие по отношению к
обиженной княгине, так что ей
казалось, что приезд на Лионский
Собор имеет смысл. Ее надежда
оправдалась. На Соборе ее дело не
обсуждалось, но Григорий выразил
ей свое одобрение и убедил, что
будет разумнее продать Карлу
Анжуйскому свое право на иерусалимский
престол. Идти против судебного
приговора курии Святой Земли и
пожеланий, высказанных
иерусалимлянами, было настоящим
произволом со стороны Папы, к тому
же это было очевидно незаконно,
поскольку права на престол нельзя
было продавать и покупать. Но у
Григория, похоже, уже сложилось
нелестное мнение о короле Гуго,
который и в самом деле проявит
полную неспособность навести в
Иерусалимском королевстве
порядок и в
Карл
был в Риме, когда узнал о смерти
Папы. Вряд ли он сильно горевал по
этому поводу.
Глава
XI
ВЗЛЕТ
КАРЛА АНЖУЙСКОГО
Неуклонное стремление покойного Папы установить мир в Европе и устроить крестовый поход против язычников смешало королю Карлу все планы завоеваний. Карл был согласен на мир в Европе только на своих условиях, он также, хотя и был рад принять Иерусалимское королевство, не хотел отправляться в рискованный крестовый поход. Григорий X запретил ему нападать на Константинополь, и теперь византийцы перешли в наступление на его владения и его союзников в Греции. Самонадеянность толкнула Карла на войну с Генуей, и теперь ему пришлось защищать свои позиции в Северной Италии, а Григорий пригласил Рудольфа, Римского короля, навести порядок в провинции и, таким образом, лишил Карла своей поддержки. Карл твердо решил не допустить избрания еще одного неудобного для него Папы.
Когда
Григорий умер в Ареццо, Карл
находился в Риме. Следуя процедуре,
установленной на Лионском Соборе,
кардиналы собрались в Ареццо, дав
отсутствующим членам Священной
коллегии десять дней на то, чтобы те
могли к ним присоединиться. Они,
конечно, помнили, что Карл
находился рядом. Их дебаты заняли
меньше двадцати четырех часов. 21
января
У Карла имелись основания быть довольным новым Папой. Иннокентий сразу же утвердил его в должности римского сенатора и имперского наместника в Тоскане. Пока Григорий был жив, король Рудольф не протестовал против наместничества Карла, но он считал, что новый Папа не имеет права распоряжаться имперскими должностями теперь, когда есть законно избранный император. В знак протеста Рудольф послал чиновников добиться присяги на верность от жителей Романьи, несмотря на то что дал покойному Папе обещание рассматривать Романью как часть папской вотчины. Ответ Иннокентия был резким. Рудольфу было запрещено появляться в Италии до тех пор, пока присяга, которой он добился, не будет отменена. Рудольф, который стремился в Рим, чтобы быть коронованным императорским венцом, понял, что ему необходимо прийти к соглашению с Карлом и с Папой. Он послал для переговоров с ними обоими епископа Базеля.214
Иннокентий
добился мира между Карлом и генуэзцами.
Для Карла это было бесславное
мирное соглашение — гибеллины
остались у власти в Генуе. Карл вынужден
был вернуть им привилегии, которыми
пользовался этот город в его
владениях, и отказался от своих
собственных весьма скромных
завоеваний. Взамен генуэзцы
признавали его сюзеренитет над
Вентимильей. Но король был волен
пытаться — тщетно — спасти свои
владения в Пьемонте и укрепить свою
власть в Тоскане, единственном
месте, где его войска недавно одержали
победу над пизанцами. Мир был
заключен 22 июня
Карла вполне устраивало, что следующие выборы Папы должны были пройти в Риме. Как и полагалось, кардиналы собрались через десять дней в Латеранском дворце, где умер Иннокентий. Карл, как сенатор, смог окружить дворец стражей, которая позволяла кардиналам из его партии свободно общаться с внешним миром и получать посылки с продовольствием, в то время как враждебная партия содержалась взаперти и была подвержена все возрастающим строгостям, предусмотренным решением Лионского Собора. Эта политика возымела успех. Чуть больше чем через неделю, 11 июля, кардиналы избрали одного из самых преданных друзей Карла, генуэзского кардинала Оттобоне деи Фиески, который был пылким гвельфом и племянником Иннокентия IV. Он собирался принять имя Адриана V. Но он был всего лишь кардиналом-диаконом. Не успев принять более высокий сан в качестве подготовки к возведению на папский престол, он серьезно заболел и умер в Витербо 18 августа.216
Карл сопровождал избранника в Витербо и жил неподалеку, в замке Ветралла. Но у него не было возможности оказать такое давление на конклав, собравшийся для избрания нового Папы, как в прошлый раз в Риме. Старейший кардинал, Джованни Гаэтано Орси-ни, стоявший во главе антифранцузской партии, господствовал на собрании, но тактично предложил единственного кардинала, который не был ни итальянцем, ни французом, португальца Джованни Пьетро Юлиани. К его предложению прислушались. Кардинал Юлиани был избран в начале сентября и возведен на папский престол 20 сентября в Витербо под именем Иоанна XXI. Король Карл прибыл на церемонию в Витербо и принес ему присягу за Сицилийское королевство.217
Папа
Иоанн был лично расположен к Карлу
и позволил ему сохранить за собой
сенаторство в Риме и
наместничество в Тоскане. Он
любезно отлучил от церкви врагов
Карла, гибеллинов, в Пьемонте, но в
то же время отправил туда послов,
чтобы договориться о перемирии для
сицилийского короля. Иоанн
запретил королю Рудольфу
появляться в Италии до тех пор, пока
чиновники Римского короля не
прекратят принуждать города
Романьи признать его своим
сюзереном. Он лично одобрил договор,
подписанный 18 марта следующего
года, согласно которому Мария
Антиохийская продавала Карлу свои
права на иерусалимский престол.218
Но больше Иоанн ничего не сделал.
Карл надеялся возродить свою
власть в Северной Италии. Победы
его войск над пизанцами в сентябре
Для Карла это был благоприятный момент. Но Папа не стал ему помогать. Напротив, архиепископ Милана и другие гвельфские руководители в Северной Ломбардии признали свою вассальную зависимость от Рудольфа. Папство хотело, чтобы дверь в Италию была открыта для германского короля, а Карл не смог снова стать слишком могущественным.222
Не слишком помог Карлу Папа и с его планами относительно Константинополя. Церковную унию, столь обрадовавшую Папу Григория X, оказалось не так легко осуществить, как мнилось прелатам, участвовавшим в Лионском Соборе. Император Михаил искренне стремился выполнить свои обязательства. В отличие от большинства византийских императоров, он не слишком интересовался богословием и считал, что политические преимущества унии полностью оправдывают любые унижения, которые может претерпеть его Церковь. Лишь немногие его подданные были с ним согласны. Иосиф, патриарх Константинополя, отказался иметь дело со сторонниками унии. Синод, составленный из сторонников императора, сместил патриарха и назначил на его место выдающегося теолога Иоанна Векка, который был искренне убежден в правомерности унии. Но у Векка не было никаких последователей, кроме епископов, избравших его по приказу императора. Сын Михаила Андроник был вынужден поддержать своего отца, но, как показало время, его теологические изыскания склонили его против Римской церкви. Дворцовую оппозицию возглавила сестра императора, Евлогия, могущественная вдова и до недавнего времени ближайший советник Михаила. Одна ее дочь была болгарской царицей, другая — женой Эпирского деспота, и обе они разделяли взгляды своей матери. Монастыри, младшее духовенство и подавляющее большинство мирян по всей империи были глубоко шокированы самой идеей унии. После разграбления Константинополя католиками прошло только два поколения. Еще были живы многие мужчины и женщины, помнившие, как жестоко обошлись латинские завоеватели с Православной церковью. До них все еще доходили истории о гонениях в Латинской Греции и на Кипре. Нельзя было ожидать от них признания примата Рима. Сторонний наблюдатель мог бы справедливо усомниться в том, что политика унии, проводимая императором Михаилом, останется неизменной. 223
Об этом было известно при папском дворе. Ведь Михаил сам намекнул Папе о своих проблемах. Византийское посольство, прибывшее в Италию прямо перед смертью Григория X, умоляло его немедленно начать крестовый поход против язычников, а тем временем отлучить от церкви врагов императора. Чтобы принять унию, было необходимо незамедлительно привести какой-то реальный довод в ее пользу. Иннокентий V ответил, что крестовый поход действительно неизбежен, но отложил в долгий ящик вопрос об отлучении, поскольку это означало бы нанесение оскорбления королю Карлу и католическим правителям в Греции. Ведь под давлением Карла Иннокентий слегка изменил свою позицию по отношению к Константинополю. Иоанн XXI вернулся к политике Григория. Он отправил делегацию из двух епископов и двух доминиканцев в Константинополь с письмом для императора, где требовал лично засвидетельствовать свою преданность Римской церкви; письмом для сына императора; и общим письмом для патриарха и духовенства с требованием подчинения и заверениями в его дружеском участии. Михаил в ответ прислал копию своей присяги в пользу унии, которую он принес публично. Андроник написал о своем стремлении к унии, а патриарх Иоанн Векк и его епископы подписали документ, подтверждающий их веру в превосходство папского престола и добавление filioqие к «Символу Веры». Но формулировка была не такой четкой, как, возможно, хотелось бы римлянам, и ходили слухи о том, что некоторые византийские епископы отказались подписать документ и их подписи были фальсифицированы императорским нотарием. Однако Папа Иоанн был удовлетворен и запретил Карлу предпринимать что-либо против Константинополя.224
Требование
Папы о заключении перемирия между
Карлом и императором не
предотвратило их столкновения в
Греции и Албании. Императору
Михаилу было необходимо подкрепить
свою религиозную политику военными
успехами и расширением империи,
чтобы вынудить принять ее свой
непокорный народ. Зная, что Карлу
запрещено нападать на
Константинополь, он решил
атаковать войска Карла в Греции.
Летом
Весной
Несколько дней спустя византийский флот под командованием Алексея Филантропеноса столкнулся с латинским флотом у берегов Деметрии в заливе Воло. Вражеские корабли принадлежали частично венецианцам, частично — латинским правителям Эвбеи, которые почти все были родом из Ломбардии. Корабли были снабжены деревянными башнями, что делало их похожими на плавучие крепости, и экипаж каждого корабля был необычайно многочислен. Сперва они успешно атаковали. Филантропенос был серьезно ранен и переправлен на берег, его флагманский корабль был захвачен врагами, а другие суда византийцев, понесшие серьезные потери, были отброшены к берегу. В этот момент кесарь Иоанн подоспел с теми, кто уцелел в битве на суше. Они спешно укомплектовали корабли и вышли обратно в море сражаться с латинским флотом. Застав латинян врасплох, византийцы легко победили. Все латинские корабли, кроме двух, были ими захвачены. Но кесарь чувствовал себя недостаточно сильным, чтобы закрепить свою победу. Он вернулся со своими войсками в Константинополь, где оставил государственную деятельность, стыдясь, как он объяснил, своего поражения при Навпатрасе, но также, возможно, и потому, что не одобрял религиозную политику своего брата.226
Битва
при Деметрии оставила контроль над
Эгейским морем за византийцами.
Когда пришло это известие,
венецианские послы, находившиеся в
Константинополе для обсуждения
нового договора с императором,
поспешили подписать договор на два
года. На следующий год, в
Южнее,
на Пелопоннесе, византийские
войска в
Таким
образом, к
Папство
также не получило никакой выгоды от
этой сделки. Карл не собирался
подвергать опасности свои новые
владения и начинать крестовый
поход против язычников. Главной
державой Ближнего Востока в то
время был мамлюкский султанат в
Египте. Мамлюки добились
господства в мусульманском мире,
одержав решающую победу над
монголами при Айн-Джалуде в
Единственным правителем в Юго-Восточном Средиземноморье, к кому Карл испытывал неприязнь, был король Гуго III Кипрский. Папы — преемники Григория вынуждены были напомнить Карлу, что он не имеет права нападать на Кипр, к крайнему его разочарованию, поскольку это была бы богатая и выгодная добыча.231
Папская
политика мешала Карлу, но он был
человеком упорным. Он не без
оснований надеялся, что рано или
поздно церковная уния прекратит
существование. Карл полагал, что у
короля Рудольфа слишком много
проблем в Германии с такими врагами,
как, например, чешский король
Отакар, чтобы всерьез заняться Италией,
и папство вскоре поймет, что Карл
его самый драгоценный союзник. Он
все еще надеялся на Папу Иоанна XXI,
когда узнал о его внезапной смерти.
Папа приказал пристроить новое
крыло к своему дворцу в Витербо.
Приказ был выполнен небрежно. 12 мая
Когда
Папа умер, Карл лежал больной в
Южной Апулии. Он не мог поспешить на
север, но надеялся, что выборы
нового Папы будут отложены. Среди
немногочисленных деяний Папы
Иоанна была отмена принятых на
Лионском Соборе постановлений о
содержании кардиналов на конклаве
взаперти с ужесточением условий
жизни до тех пор, пока не будет
избран новый Папа. На момент смерти
Папы только восемь из одиннадцати
кардиналов находились в
достаточной близости от Витербо,
чтобы принять участие в выборах.
Четверо из них были итальянцами и
четверо — французами. Они не могли
прийти к соглашению. Кардиналы
пререкались в течение шести
месяцев, пока разгневанные жители
Витербо не заперли их в папском
дворце, дав понять к тому же, что
хотели бы избрания итальянца.
Французские кардиналы сдались. 25
ноября
Новый
Папа уже давно был старейшим
кардиналом среди своих собратьев.
Он получил кардинальский сан от
Иннокентия IV в
Тем
не менее Николай был не тем Папой,
какой мог бы угодить Карлу.
Сицилийский король оправлялся от
болезни, что дало ему повод не
спешить с принесением присяги
новому Папе за свое королевство.
Папа же написал Карлу
сочувственное письмо, в котором он
осведомлялся о здоровье Карла.
Каждый мог, сохраняя учтивость,
подождать и посмотреть, как поведет
себя другой.234 Карл испытывал
определенную неуверенность в
отношении Николая. Не позже чем в
первые две недели своего правления
Папа написал в доброжелательном,
но настойчивом тоне письмо королю
Рудольфу, в котором просил его
отозвать своих чиновников из
папской вотчины в Романье. Письма
предыдущих Пап не дали никаких
результатов. Но в этот раз Рудольф,
который был втянут в войну с
Отакаром Чешским, выполнил
требование Папы. Николай обратился
к Карлу и потребовал, чтобы тот
отказался от поста римского
сенатора. Он напомнил Карлу, что его
назначили на этот пост в
Упрочив
таким образом свое влияние на Карла
и Рудольфа, Николай постарался
примирить их, чтобы установить мир
в Европе. Больше всего проблем
создавала французская королева-мать
Маргарита. Рудольф обещал ей
графство Прованс, и, хотя ее сын,
король Филипп, больше не
поддерживал свою мать, она нашла
общий язык с племянником, королем
Эдуардом Английским. Летом
Папа
был на стороне Карла. Осенью и зимой
Но
стороны все-таки пришли к
соглашению летом
Надо
было уладить несколько вопросов.
Важно было не обидеть Эдуарда
Английского. К счастью для миротворцев,
смерть сына Рудольфа, Гартманна,
сняла вопрос о его помолвке с
английской принцессой, в то время
как Эдуард был занят разрешением
ряда проблем в Британии. Но Эдуард
был недоволен и, похоже, винил во
всем французский двор. Успокоить
королеву Маргариту оказалось еще
труднее. И Папа, и король Рудольф
написали ей весной
Договор
между Карлом и Рудольфом был
подписан только к маю
Причиной
проявленного Карлом почтения была
отнюдь не любовь к Папе. Ни он, ни
Николай не питали особого доверия
друг к другу. Им обоим просто было
удобно работать вместе, а политика
Папы не так уж и ослабила Карла. Он
сохранил за собой Прованс, и у него
была возможность в перспективе
получить Арелатское королевство
для своих потомков. Поскольку он
стал меньше занят в Северной Италии,
он значительно поправил свое
финансовое положение. В
Папа все еще запрещал этот поход, но церковная уния продвигалась не слишком успешно. Папа начинал общаться с императором Михаилом в более суровом тоне. По некоторым признакам можно было предположить, что дело идет к разрыву, и тогда Карл сможет вернуться к своему проекту.
Посланники, отправленные Михаилом в Италию с грамотами о подчинении Римской церкви от него и от его духовенства, прибыв на место, узнали, что Папа Иоанн XXI умер. Посланники отдали документы на хранение кардиналам и вернулись домой. Когда Папа Николай ознакомился с текстом, то счел его неполным. До него дошли вести из латинской колонии в Галате, расположенной за бухтой Золотой Рог, о том, что в церквях Константинополя не читается римская версия «Символа Веры» и церковные обряды совершенно не изменены. В октябре 1278г. Папа решил отправить посольство к императору, чтобы настоять на более строгом подчинении. Он очень аккуратно составил инструкции для своих нунциев. Им следовало сердечно приветствовать императора, затем жестко напомнить ему, что уния не допускает расхождений. Императору приказывали выполнить десять пунктов: император и его сын должны переписать свои грамоты о подчинении Римской церкви, употребляя точные формулировки о «Символе Веры», как было установлено на Лионском Соборе; Михаил должен заставить Патриарха и всех прелатов своей церкви твердо придерживаться того же «Символа Веры»; Filioque следовало включить в «Символ Веры» во всех церковных службах; ни один из греческих церковных обрядов не мог быть сохранен, пока папский престол не сочтет, что он не идет вразрез с истинной верой; нунции должны посетить все главные учреждения в империи, чтобы убедиться, что эти указания соблюдаются; все греки должны попросить у нунциев отпущение за свои заблуждения; нунции должны принять исповедь, минуя греческое духовенство, у любого, кто захочет исповедаться; император должен пригласить постоянного кардинала-легата в империю; всех противников унии следовало отлучить от церкви; патриарх и все епископы должны были обратиться к Папе за подтверждением своих полномочий.242
Все
эти требования настолько не
совпадали с условиями, принятыми
на Лионском Соборе, что казалось,
будто Николай сознательно пытался
помешать унии. Нунции, во главе с
Бартоломео, епископом Гроссето,
прибыли в Константинополь весной
Последовал ряд арестов в столице. Были арестованы даже члены императорской семьи, включая племянников императора — Андроника Палеолога, сына его брата, и сына Евлогии, Иоанна. Были приняты более жесткие меры в отношении епископов, подозреваемых в неискреннем принятии унии. Принятые императором меры только дали его противникам мучеников и ожесточили их сопротивление. Патриарх Иоанн Векк умолял Михаила обуздать свою жестокость. Михаил пришел в ярость и приказал Иоанну оставить патриарший престол. Но поскольку в Константинополе ждали папских легатов, о его отставке не было объявлено публично, чтобы избежать недоразумений.
Легаты
прибыли в Константинополь поздней
весной
Папа Николай был недоволен отчетом легатов, но не стал предпринимать враждебных действий против императора. Он проявил достойное восхищения благоразумие, отправив Игнатия и Мелетия обратно в Константинополь, сказав, что они произвели не него впечатление искренних и добродетельных людей, которых осудили ошибочно. Папа хотел показать, что не испытывает личного предубеждения или неприязни по отношению к грекам. Он продолжал запрещать Карлу нападать на Византийскую империю. Этот запрет, возможно, был следствием полученных им щедрых денежных подношений от Михаила. Алчность Николая III была известна, и всюду ходили слухи о том, что во время его понтификата византийское золото, переданное ему представителями императора, было основной причиной запретов для Карла.244
Но
Карлу не пришлось долго терпеть эти
ограничения. 22 августа
Новый Папа был давним другом французской королевской семьи. В юности он служил при дворе Людовика Святого. Урбан IV вручил ему кардинальскую шапку и назначил легатом во Францию, где тот активно участвовал в выборе кандидатуры Карла на сицилийский престол. Последнее время он возглавлял французскую фракцию в коллегии кардиналов, и все знали, что он поддерживает теплые отношения с Карлом. Мартин был страстным патриотом. Из семерых кардиналов, назначенных им в первый же месяц после восшествия на папский престол, четверо были французами, один англичанином и только двое итальянцами. Карл мог рассчитывать на радикальные перемены в политике папства. Преисполненный надежд, он в апреле отправился на север поприветствовать своего нового сюзерена в Орвьето.246
Карл не был разочарован. Папа Мартин был готов сделать все возможное, чтобы угодить своему соотечественнику. Он не считал, что папство должно играть роль третейского судьи для правителей христианского мира; не любил германцев — и короля Рудольфа в частности; не доверял итальянцам и не собирался позволять им править самостоятельно. Христиане Востока не значили для него ничего, кроме разве что возможности возобновить французскую империалистическую экспансию. Первым итогом встречи Папы с Карлом было восстановление короля на посту сенатора Рима. Семья Орсини впала в немилость. На место родственников покойного Папы Карл назначил троих провансальцев: Филиппа де Лаверна, Гильома Эстандара и Жоффруа де Драгона. Карлу было также предложено прислать войска и чиновников в другие области папского государства. Это было необходимо, поскольку изменение политического курса папства побудило гибеллинов к действию — под предводительством Гвидо да Монтефельтро они организовали восстание в городе Форли. Папа направил против них войска Карла Анжуйского под предводительством папского наместника, провансальского канониста Гильома Дюрана, и с одним из самых искусных военачальников Карла, Жаном д'Эппом. Они осадили Форли и, хотя не добились особого успеха, все же смогли держать восстание под контролем.247
В
Тоскане был смещен кардинал
Малабранка, племянник покойного
Папы, и мир между гвельфами и
гибеллинами, которого ему удалось
добиться, рухнул. Король Рудольф
поспешил назначить нового императорского
наместника, и его приезд вдохновил
гибеллинов на мятеж. Пиза, Сан-Миниато,
Сан Джиминьяно и Брешия принесли
ему присягу, но попытка организовать
восстание гибеллинов в Сиене в июле
Хоть
Карл и Папа не слишком любили
Рудольфа, они не хотели с ним
ссориться, поскольку их планы
относительно возрождения
Арелатского королевства и передачи
его семье Карла зависели от
сотрудничества с Габсбургом. 24 мая
Снова заполучив Рим, Карл упрочил свои позиции в Центральной Италии. Он рассчитывал на богатое королевство в долине Роны в дополнение к своим владениям в Провансе. Он был королем Иерусалимским и признанным лидером Латинского Востока. За время относительного спокойствия он поправил свое финансовое положение. Папа был готов сделать все, что Карл пожелает. Наконец, пришло время для крупномасштабного похода на Константинополь.
Под давлением Карла Папа Мартин без колебаний прекратил переговоры о церковной унии с императором Михаилом. У него были для этого некоторые основания. Из доклада легатов, отправленных еще Папой Николаем, стало ясно, что сами греки были решительно против унии, как бы искренне ни поддерживал ее их император. Затем пришли вести о горячих спорах и беспорядках в Константинополе. Условия, поставленные Папой Николаем, не были выполнены. Сам Михаил Палеолог все еще надеялся сохранить хорошие отношения с папством. Узнав об избрании Мартина, он отправил в Италию двух епископов — сторонников унии, митрополитов Гераклеи и Никеи, с тем чтобы они передали Мартину поздравления от Михаила и заверения в его преданности папскому престолу.251
Послы,
прибывшие в Орвьето в ноябре
Уверенные в расположении Папы, Карл и его союзники не скрывали свои приготовления. Михаил уже был обеспокоен, но не ожидал такой полной перемены папской политики. Узнав о своем отлучении, он приказал исключить упоминание имени Папы из Божественной литургии и приостановил все меры, принятые им для того, чтобы навязать унию своим подданным. Но, несмотря на все свои недостатки, Михаил был искренним человеком. Он считал, что обязан придерживаться политики унии до конца своих дней, все еще надеясь, что когда-нибудь Папа может проявить больше понимания. А пока он приготовился к надвигающейся грозе.254
Она
уже разразилась в Албании. Там в
Плененного
рыжеволосого гиганта провели в
цепях по улицам Константинополя;
Михаил так обрадовался своей
победе, что велел изобразить ее на
фреске у себя во дворце.256
Помимо этой победы у Михаила было
мало поводов для радости, если не
считать незначительные успехи на
Пелопоннесе. Князь Гильом Ахейский
умер в
Командующий флотом Карла в Эгейском море, Марко II Санудо, герцог Наксоса, служил Карлу не лучше. Он использовал корабли Карла, чтобы пиратствовать, причем с гораздо большим успехом грабил не греческие, а латинские суда, поскольку те не ожидали, что он на них нападет. Тем не менее он был готов участвовать в походе на Константинополь.258
Новые
дипломатические проблемы
перевесили успехи политики
Михаила в Греции. В Болгарии его племянница,
царица Мария, которая была яростной
противницей его религиозной
политики, в
Все
усилия Михаила привели лишь к тому,
что Болгария присоединилась к его
врагам. Сербия же никогда не была в
числе дружественных ему государств.
Стефана Уроша I в
Его
брат, Стефан Урош III Милутин,
ставший его преемником, находился
под влиянием своей матери Елены,
дочери бывшего латинского
императора Балдуина. Он вернулся к
антивизантийской политике своего
отца. В правление Драгутина Сербия
придерживалась нейтралитета, но
Милутин начал свое царствование с
похода на Византийскую империю и
осенью
Деспот
Эпира, которому не нравились ни
Карл Анжуйский, ни Михаил Палеолог,
старался соблюдать нейтралитет. Но
его сводный брат, Иоанн Ангел
Навпатраский, с легкостью позабыв о
своей роли защитника православия,
в
Вдобавок
ко всем неприятностям императора
Михаила на азиатской границе его
государства начались военные
действия. Большую часть его
правления анатолийские турки по
ту сторону границы вели себя спокойно.
Михаил поддерживал союз со своим
зятем, монгольским ильханом
Абагой. Монголы всегда были готовы
оказать давление на сельджукских
султанов Анатолии. Но набеги
монголов привели к ослаблению влияния
сельджуков, особенно на западе
Малой Азии, где возник ряд мелких
турецких эмиратов, и их силы
пополнялись за счет турок, бежавших
на запад после первых монгольских
набегов. Из-за возросшей силы
мамлюков, а в особенности после
взятия Антиохии султаном Бейбарсом
в 1268г., ильхану стало не так просто
удерживать контроль над Анатолией.
В
К
концу
Хотя
византийскую столицу окружали
враги, чуть дальше за границей еще
оставались друзья, которые могли
помочь. Михаил с трепетом, но не в
полном отчаянии, ожидал весны
Глава
XII
ВЕЛИКИЙ
ЗАГОВОР
В
начале
Но Карл был ослеплен высокомерием. Уверенный в своей силе и поддержке папства, он забыл, что у него еще остались враги в Европе, чьи силы пока не были испытаны. Он забыл, что, несмотря на его искусное правление, многие подданные ненавидели его и надменных французских чиновников, выполнявших его волю. Он забыл об изгнанниках из Сицилийского королевства, которые поклялись его уничтожить.
Эти
изгнанники нашли убежище за морем в
Барселоне, столице Арагонского
королевства. Двадцатью годами
раньше, в
Пока
свекр был жив, Констанция немногое
могла сделать для того, чтобы
реально претендовать на свой титул.
Король Хайме I был выдающимся
государем, отважным, тщеславным и
эксцентричным. Он унаследовал
трон в
После поражения Конрадина первые высокопоставленные беженцы прибыли ко двору инфанты в Барселоне. Их предводителем был Руджеро ди Лауриа, у которого с инфантой была общая приемная мать. В числе беженцев были также чиновники, которые служили деду Констанции Фридриху II, например, Риккардо Филанджиери. Вскоре за ними последовали юрист Энрико д'Изерниа и хитроумный интриган, доктор Джованни да Прочида.266
Джованни
да Прочида родился в Салерно около
Король
Хайме Арагонский умер в июле
Король
Хайме оставил Балеарские острова и
Руссильон своему младшему сыну,
инфанту Хайме, который принял титул
короля Майорки и в течение трех лет
отказывался признавать брата своим
сюзереном. Угроза
братоубийственной войны миновала
только тогда, когда Хайме
Майоркский подчинился и присягнул
на верность своему брату в январе
Легенда сделала из Джованни да Прочида великого заговорщика, который переодетым разъезжал от одно-го европейского двора к другому в поисках сторонников для своих господина и госпожи. Рассказы о приключениях Джованни ходили еще при его жизни. Они сохранились в народных хрониках Сицилии и отражены в работах Виллани, Петрарки и Боккаччо. На самом деле роль, которую сыграл Джованни, не была ни такой рискованной, ни такой яркой, как воображали его поклонники и враги, но это не делает ее менее важной. Он был в центре огромного политического заговора.269
Вскоре
после своего восшествия на престол
король Педро назначил Джованни да
Прочида канцлером Арагона, в
официальном документе о назначении
похвалив его за ученость и
общеизвестную преданность дому
Гогенштауфенов.270 Это
назначение давало Джованни
возможность руководить внешней
политикой Арагона, и он
воспользовался этим, с полного
одобрения Педро, чтобы
спланировать крах Анжуйской
династии. До
Заговорщики
начали серьезную работу в
Весной
Сложно сказать, какова доля правды в этой легендарной истории. В период с 1279 по 1280 гг., когда Джованни предположительно совершал свои путешествия, связанные с заговором, его подпись, в качестве канцлера, регулярно появляется на документах, подписанных в Арагоне. Представляется невероятным, чтобы он дал себе труд организовать подделку собственной подписи с целью сохранить свое отсутствие в тайне. Джованни был старым человеком — вот-вот ему должно было исполниться семьдесят лет. Маловероятно, чтобы он, переодевшись, бродил по Европе. Роль, отведенная в этой истории Папе Николаю, не очень убедительна. Очевидно, что он не очень любил Карла и был жаден и оценил бы золото, принесенное ему в дар от императора Михаила. Но он стремился к установлению мира, независимости папских владений и обогащению семьи Орсини. Ни в одном из сохранившихся папских документов того времени нет ни намека на то, что он намеревался сместить Карла с сицилийского престола и посадить на его место Педро Арагонского. Не в его характере было развязывать широкомасштабную войну, которая, несомненно, повлекла бы за собой серьезные расходы. Его позиция по отношению к Византии была жестче, чем у его предшественников. Византийское золото могло бы убедить Николая не прекращать переговоры с Михаилом Палеологом и не давать Карлу разрешения нападать на империю. Возможно также, что он оказал теплый прием эмиссару своего старого доктора, Джованни да Прочиды, а арагонцы раздули значение этого приема, чтобы оправдать свою политику. Благодаря подобным инцидентам возник слух о причастности Папы к заговору, и Данте мог упрекнуть его за «деньги грешные... с которыми на Карла шел так смело».273
Легенда
ошибается в отношении действий
Джованни и соучастия Папы. Но
многие ее детали выглядят
убедительно. Джованни мог
оставаться дома, а кто-то разъезжал
от его имени. Маршруты и корабли, на
которых эти путешествия
совершались, описаны слишком
подробно, чтобы быть абсолютно
вымышленными. Сицилийский текст
того времени связывает имя Джованни
с теми тремя сицилийскими
аристократами, которых легенда
называет его сообщниками. К
К
концу
Избрание
француза, Мартина IV, на папский
престол в
Со
своими союзниками Педро был более
откровенным. В конце
Приблизительно в то же время Джованни да Прочида написал Альфонсу Кастильскому и его сыновьям, зная об их неприязни к анжуйцам, чтобы сообщить им, что к союзу его господина и маркграфа Монферратского, зятя Альфонса, присоединился предводитель флорентийских гибеллинов, Гвидо Новелло. Его письма были доставлены к кастильскому двору Адриано да Прочида, прибывшим из Северной Италии с посланниками гибеллинов. Джованни открыто заявил о плане возвращения Сицилийского королевства его наследному и законному владельцу и предлагал кастильцам присоединиться к союзу. Разногласия между королем Альфонсом и его сыном Санчо не позволили им принять предложение.279
Эта дипломатическая деятельность укрепила власть короля Педро. Но главной целью заговора было раздуть беспорядки во владениях короля Карла. Здесь проявился дипломатический гений Джованни да Прочиды. Он сам родился в континентальной части Италии и знал, что жители континента не испытывали недовольства правлением Карла. Карл был искусным и честным правителем. Большую часть своего времени он проводил в Неаполе, его окрестностях или в Апулии. Здесь он мог наблюдать за управлением и следить, чтобы его чиновников не злоупотребляли своей властью. Неаполитанцы и апулийцы могли возмущаться высокими налогами и безжалостной эффективностью, с которой эти налоги собирались, могли возмущаться той незначительной ролью, которую им было позволено играть в управлении страной, но Карл благоустраивал их гавани и дороги, поддерживал их рынок. К тому же послушные Карлу итальянцы могли получить удобные должности в других его владениях — в Провансе, Албании или Палестине. Сицилия же находилась в совсем ином положении. Карл не доверял сицилийцам, в особенности после всеобщего восстания во время вторжения Конрадина. Он практически ничего не делал, чтобы поддержать их экономику, никогда не приезжал на остров, кроме того случая, когда был на пути в Тунисский крестовый поход, и никогда лично не контролировал управление островом. Управление осуществлялось французскими юстициариями и находившимися у них в подчинении итальянцами с континента. Вне всякого сомнения, эти управленцы были высокомерны, суровы, алчны и почти наверняка продажны. Налоги высоки, и только друзья чиновников были ограждены от вымогательства с их стороны. Сицилийцы даже при Фридрихе II и Манфреде возмущались правительством, заседавшим в Неаполе. К неприязни по отношению к пришельцам с континента прибавлялась еще и ненависть к французам, которые не утруждали себя выучить язык сицилийцев и уважать их традиции. Сицилийцы видели, что ими правят, чтобы помочь иноземному тирану в его завоеваниях, от которых они не получат никакой выгоды. На острове было много греческого населения: сицилийские греки все еще помнили о своем родстве с византийскими. Их совсем не привлекала перспектива служить во флоте Карла и завоевывать Константинополь.280
Карл ошибся, решив, что сицилийцы и Джованни да Прочида не станут искать поддержки. Из всех народов Европы сицилийцы — самые опытные заговорщики. В наши дни их верность мафии может сравниться разве что с их верностью чести семьи. Они послужили для Джованни и его соратников благодатной почвой. Недовольство сицилийцев правлением Карла Анжуйского было очень сильно, можно было не сомневаться, что они обрадуются освободителю. Но хороший заговорщик работает тихо. Не считая легендарных рассказов о путешествиях Джованни, не существует никаких записей о том, каким образом был организован заговор на Сицилии. Все делалось тайно. Несомненно, агенты Арагона работали на острове. Несомненно, было тайно доставлено оружие. И также несомненно, что заговорщики поддерживали тесную связь с Константинополем, откуда они получали деньги и обещания еще больших сумм, если все пойдет по плану.
Весной
Карл
был слишком самоуверен и не
придавал значения этим друзьям
своего врага. Итальянские агенты
предупреждали Карла, что Джованни
да Прочида убедил всех гибеллинов
поддержать Арагон. Племянник Карла,
французский король, говорил ему об
огромном арагонском флоте,
собравшемся в устье реки Эбро. Этот
флот официально направлялся на
борьбу с язычниками в Африку, но
король Филипп знал, что у него
другие цели. Карл пренебрег слухами
— он был слишком силен, никто бы не
осмелился напасть на него. Карл так
и не понял, где поджидала главная
для него опасность.282
Судьба будущего решалась на Сицилии. Недовольные сицилийцы, взбудораженные агентами Арагона и субсидированные из Константинополя, тайно готовили восстание. Их подбадривал император Михаил. Педро Арагонский запросто мог подождать, пока Карл не будет полностью втянут в войну на востоке, прежде чем начать вторжение в земли сицилийского короля. Михаил не мог позволить себе ждать так долго. Флот Карла Анжуйского должен был отчалить в первую неделю апреля. До этого времени было необходимо что-то предпринять.
Глава
XIII
ВЕЧЕРНЯ
В
Церковь Святого Духа расположена примерно в миле на юго-восток от старой городской стены Палермо, на краю небольшой теснины реки Оретто. Это постройка, выдержанная в строгом стиле снаружи и внутри, ее первый камень был заложен в 1177г. в зловещий день солнечного затмения Вальтером Офамилом, архиепископом Палермо, англичанином по происхождению. В этой церкви традиционно устраивали празднество на Пасху, и в тот пасхальный понедельник народ, как обычно, стекался из города и окрестных деревень на вечерню службу.284
На площади разговаривали и пели в ожидании начала богослужения. Внезапно появилась группа французских чиновников, которые захотели принять участие в празднике. Их встретили холодными враждебными взглядами, но они все равно настойчиво пытались присоединиться к толпе. Французы были пьяны, а потому беспечны; вскоре они позволили себе фамильярное обращение с молодой женщиной, и это взбесило сицилийцев. Среди чиновников был королевский сержант по имени Друэ, он выволок из толпы молодую замужнюю женщину и донимал ее своими ухаживаниями. Этого ее муж не мог стерпеть — он выхватил нож, набросился на Друэ и заколол его. Французы ринулись отомстить за своего товарища и неожиданно оказались окруженными толпой разъяренных сицилийцев, вооруженных кинжалами и мечами. Ни один француз не уцелел. В этот момент колокол церкви Святого Духа и колокола всех остальных церквей зазвонили к вечерне.285
Со звуком колоколов глашатаи побежали по городу, призывая жителей Палермо подняться против угнетателей. Улицы тут же наполнились обозленными вооруженными людьми, выкрикивающими «Смерть французам» на своем сицилийском диалекте.286 Они убивали каждого француза, попадавшегося им на пути. Сицилийцы врывались на постоялые дворы, посещаемые французами, и жилища французов, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей. Сицилийские женщины, бывшие замужем за французами, погибли вместе со своими мужьями. Мятежники врывались в доминиканские и францисканские монастыри, они выволакивали всех иностранных монахов и велели каждому произносить слово «Сiciri», непроизносимое для француза. Любого, кто не прошел проверку, убивали. Юстициарий Жан де Сен-Реми заперся в древнем королевском дворце, но большая часть его гарнизона была в отпуске в городе. Те немногие, кто остались, не могли отстоять дворец. Юстициарий был ранен в лицо во время схватки на входе, но после успел выпрыгнуть в окно и бежать через конюшню вместе с двумя слугами. Беглецы нашли лошадей и на полной скорости поскакали в замок Викари, расположенный на дороге, ведущей внутрь острова. К ним присоединились другие французы, избежавшие резни.287
К следующему утру около двух тысяч французских мужчин и женщин были мертвы, а повстанцы полностью контролировали Палермо. Ярость улеглась, и они задумались о будущем. Представители от каждого района и от каждого цеха собрались вместе и провозгласили свой город коммуной, избрав своим капитаном знаменитого рыцаря Руджеро Мастранджело, ему назначили трех заместителей: Энрико Баверио, Николо д'Ортолева и Никколо д'Эбдемониа, а также пять советников им в помощь. Флаг Карла Анжуйского был сорван и повсюду заменен имперским орлом, которого Фридрих II сделал эмблемой города своего детства. К Папе были отправлены послы с письмом, в котором они просили его взять коммуну под свое покровительство.288
Весть о восстании уже разносилась по всему острову. Гонцы поспешили в кровавую ночь с понедельника на вторник из Палермо, чтобы велеть всем городам и селам немедленно нанести удар, прежде чем угнетатель сможет ударить в ответ. Во вторник мужчины Палермо сами двинулись на штурм замка Викари, где прятались юстициарий и его друзья. Гарнизон замка был слишком малочислен, чтобы оказывать долгое сопротивление, и юстициарий предложил сдаться с условием, что ему будет позволено отправиться к побережью и уп-лыть на корабле в родной Прованс. Когда начинались переговоры, один из осаждающих замок выпустил стрелу и убил юстициария. Это послужило сигналом к началу резни, в которой были убиты все, кто был внутри замка.289
В течение недели пришли вести о дальнейших мятежах против французов. Первым примеру Палермо последовал город Корлеоне, расположенный в двадцати милях к югу. После убийства французов корлеонцы тоже провозгласили свой город коммуной. 3 апреля капитан Корлеоне, Бонифацио, отправил в Палермо троих посланников с тем, чтобы предложить действовать сообща. Две коммуны решили направить войска в трех направлениях — на запад, к Трапани; на юг, к Кальтаниссетте; и на восток, к Мессине, — чтобы поднять весь остров и объединить усилия. По мере приближения повстанцев к каждому из пунктов назначения французы либо бежали, либо были убиты. Их пощадили только в двух городах. Вице-юстициарий западной Сицилии, Гильом Порселе, живший в Калата-фими, снискал любовь сицилийцев благодаря своей доброжелательности и справедливости. Он и его семья были с почестями препровождены в Палермо, откуда им разрешили отплыть в Прованс. Город Сперлинга, расположенный в центре острова, гордился независимостью своих взглядов. Французскому гарнизону в этом городе не причинили никакого вреда и позволили благополучно отступить в Мессину.290
В Мессине восстания не было. У наместника, Герберта Орлеанского, был сильный гарнизон. Огромный флот Карла Анжуйского стоял в гавани. Мессина была единственным городом на острове, к которому французское правительство выказывало какое-то расположение, и самая влиятельная семья в городе, Ризо, поддерживала правящий режим. 13 апреля, две недели спустя после Вечерни, когда западная и центральная часть острова были в руках мятежников, коммуна Палермо прислала письмо к жителям Мессины, призывая их присоединиться к восстанию. Но мессинцы были осторожны. Учитывая, что власть в городе по-прежнему принадлежала Герберту, опиравшемуся на гарнизон в мессинской цитадели, а у причала стояли корабли короля, они предпочитали не компрометировать себя. Вместо этого 15 апреля мессинская армия под командованием местного рыцаря, Гульельмо Чириоло, двинулась на юг в соседний город Таормину, чтобы защитить его от разъяренных мятежников. В это же время Герберт послал мессинского аристократа, Риккардо Ризо, во главе семи местных галер блокировать гавань Палермо и, по возможности, атаковать палермские укрепления. Палермцы поспешили вывесить на стенах рядом со своим знаменем знамя Мессины с крестом, чтобы показать, что считают мессинцев своими братьями, и моряки Риккардо отказались сражаться против них. Галеры остались поблизости от гавани, вяло и неэффективно блокируя ее.291
Общественное
мнение Мессины склонялось в пользу
восстания. В Мессине было много
палермцев, переехавших туда, когда
Мессина стала административным центром
острова. Их симпатии были на
стороне родного города. Герберт
начал терять уверенность в своих силах.
Он решил подстраховаться в
Таормине и отправил туда
французское войско на замену
мессинскому гарнизону. Гульельмо
Чириоло и его люди были оскорблены
недоверием. Они напали на французов
и всех их взяли в плен. Два или три
дня спустя, 28 апреля, в Мессине
разразилось восстание. Большинство
французов к тому времени уже
укрылись в цитадели, и жертв резни
было меньше, чем в Палермо. Герберт
заперся в цитадели, но флот остался
в руках мятежников, которые его
сожгли. Мессинцы объявили свой
город коммуной под
покровительством Святой Церкви.
Они избрали своим капитаном
Бартоломео Манискалчо, сыгравшего
ведущую роль в организации
восстания.
В тот же день трое выдающихся мессинцев вернулись из Неаполя, где находились при дворе короля Карла. Это были Балдуин Мюссоне, бывший судья, и Бальдо и Маттео Ризо. Мюссоне тут же примкнул к коммуне, и Манискалчо на следующее утро отказался от поста капитана в его пользу. Один из младших Ризо, доктор Парменьо, пытался убедить своих дядьев Бальдо и Маттео присоединиться к восстанию, но и они, и вся семья сохранили верность Карлу. Вместе с Гербертом они нашли убежище в цитадели, но вскоре поняли, что Герберт готов сдаться. После предупредительной атаки мессинцев на замок он вступил в переговоры с Мюссоне и добился гарантии безопасности для себя и своих людей. В их распоряжение были предоставлены две галеры на том условии, что они поплывут прямо в Эг-Морт, во Францию, и пообещают никогда не возвращаться на Сицилию. Герберт дал слово, но, едва удалившись от гавани, он направил галеры в Катону, расположенную прямо за проливом. Там он разыскал Пьетро Руффо, графа Катандзаро, который был богатейшим аристократом Калабрии, верным Карлу. Они собрали войска и приготовились напасть на Мессину.
Кастеляну мессинской цитадели, Тибо де Месси, и семидесяти французским сержантам с женами и детьми были предложены те же условия. Всем им предоставили другой корабль и приказали плыть в Эг-Морт. Законопослушные члены семьи Ризо стали пленниками коммуны в цитадели, где к ним присоединились Микелетто Гатта и его французы, которых привезли под конвоем из Таормины. Уже были отправлены гонцы в Палермо, чтобы рассказать о событиях в Мессине и о создании братской коммуны, а мессинским кораблям, ожидавшим в нерешительности у входа в палермскую гавань, было приказано вернуться домой. Их предводитель, Риккардо Ризо, сумел ускользнуть в Калабрию. Его заместитель, Никколо Панча, на пути к гавани встретил корабль с Тибо Месси и его командой. Панча уже слышал о том, что Герберт Орлеанский нарушил свое обещание вернуться во Францию, и заподозрил, что Месси собирается последовать его примеру. Корабль был задержан и всех, кто был на борту сбросили в море.292
Когда порядок в Мессине был восстановлен, коммуна избрала четверых канцлеров в помощь капитану. Все они были местными судьями: Рейнальдо да Лимоджа, Никколо Сапорито, Пьетро Ансалано и Бартоломео да Неокастро, впоследствии написавший историю этих великих событий.293 Затем было твердо решено сообщить в Константинополь императору Михаилу, что его главный враг потерпел неудачу. Несомненно, он мог из благодарности прислать островитянам еще золота. Было трудно найти посланника для этого опасного путешествия, но генуэзский купец Алафранко Кассано сам предложил свои услуги, поскольку его подданство должно было защитить его, если его задержит один из кораблей Карла. Алафранко достиг Константинополя через несколько недель и тут же получил аудиенцию у императора. Михаил, услышав новость, возблагодарил Бога и поспешил добавить в свои мемуары, которые писал для сына, многозначительные слова: «Если бы я осмелился заявить, что был орудием Господа в деле освобождения сицилийцев, то не погрешил бы против истины». Его агенты и его золото и в самом деле сыграли свою роль в подготовке восстания, а оно не только освободило Сицилию, оно также спасло Византийскую империю. Великий поход Карла на Константинополь пришлось отложить, теперь уже навсегда.294
Карл был в Неаполе, когда в начале апреля посланник архиепископа Монреальского сообщил ему о резне в Палермо. Карл пришел в ярость, поскольку это означало, что придется отложить поход на Константинополь на некоторое время, но поначалу он не воспринял восстание всерьез. Карл решил, что это локальные волнения, с которыми его наместник, Герберт Орлеанский, вполне может справиться. Карл лишь приказал вице-адмиралу Маттео Салернскому взять четыре галеры и атаковать Палермо. Этот приказ был отдан 8 апреля, но, добравшись до Палермо, Маттео обнаружил на подходе к гавани мессинскую эскадру и не решился напасть на нее. Когда Мессина присоединилась к восстанию, мессинские корабли атаковали Маттео и захватили две его галеры. С оставшимися кораблями он отступил в Неаполь.295
Мятеж в Мессине и разгром его флота привели Карла к осознанию серьезности восстания. «Господь Всемогущий! — воскликнул он. — Если Тебе угодно низвергнуть меня, позволь мне хотя бы спускаться вниз мелкими шагами». И Карл стал принимать меры для того, чтобы шаги оказались мелкими. Поход на Константинополь был отменен. Вместо этого корабли и солдаты, собравшиеся в портах Италии, были стянуты к Мессинскому проливу, и сам Карл выступил во главе армии, которая должна была подавить мятеж на острове.296
Папа полностью поддерживал Карла. Когда в апреле в Орвьето прибыл посланник из Палермо, чтобы просить Святейший Престол взять под свое покровительство новую коммуну, Папа Мартин отказался дать ему аудиенцию. На острове все же надеялись, что Мартин еще смягчится. В начале мая Мессина вместе с Палермо и другими городами отправили троих послов к папскому двору. Они торжественно вошли в его приемную и предстали перед всей консисторией, трижды пропев слова: «Агнец Божий, искупивший все грехи мира, смилуйся над нами». Но Папа ответил с горечью, трижды повторив слова Евангелия: «Радуйся, Царь Иудейский! — и били Его». Другого ответа посольство от Папы не получило.297 Вместо этого 7 мая, на Вознесение, Папа издал буллу об отлучении мятежных сицилийцев и всех, кто поддержит их. Второй буллой он отлучил Михаила Палеолога, «называющего себя греческим императором», а третьей — Гвидо да Монте-фельтро и гибеллинов Северной Италии.298
У Карла был еще один друг — его племянник, французский король Филипп. В апреле Карл написал ко французскому двору, сообщая Филиппу, что, возможно, понадобятся активные действия, чтобы предотвратить серьезные последствия мятежа. Когда Мессина восстала, Карл снова написал, прося помощи против бунтарей. В ответ двое его племянников — Филипп и его брат Пьер, граф Алансонский — и Роберт д'Артуа решили во главе отряда французских дворян отправиться в Италию. Сын Карла, Карл Салернский, находившийся в то время в Провансе, был направлен в Париж с тем, чтобы организовать дальнейшее сотрудничество с французским двором.299 Король Филипп считал, что главная опасность исходит от Арагона. Он уже предупреждал Карла, чтобы тот остерегался короля Арагонского, но Карл не послушал его. Филипп был убежден, что огромный арагонский флот, собравшийся в гавани в устье реки Эбро, готовится к атаке на Сицилию, несмотря на все заверения короля Педро в том, что он собирается в крестовый поход в Африку. Еще не зная, что Мессина потеряна для Карла, Филипп отправил посольство к королю Педро, который уже присоединился к своему флоту. Послы достигли устья Эбро 20 мая и передали Педро письмо, в котором Филипп требовал гарантий того, что флот Педро не нападет против Карла. Если же это все-таки случится, Филипп предупреждал, что будет расценивать это как враждебный акт и двинет свою армию против Арагона.300
Предупреждение Филиппа не возымело никакого действия. Педро, как всегда, ответил, что он готовится к походу в Африку. На самом деле мятеж на Сицилии застал Педро врасплох. Его агенты планировали это восстание, но он рассчитывал выждать до того времени, когда Карл пойдет войной на Константинополь. Когда из Сицилийского королевства уедут лучшие воины Карла, там и должны были поднять восстание; в этот момент Педро намеревался вмешаться. Сицилийцы, получившие стимул от византийского императора, опередили его. Получив известие о резне в Палермо, Педро не предпринял ничего. Лишь после восстания в Мессине и уничтожения кораблей Карла он решил действовать. И даже тогда он соблюдал осторожность. Он действительно решил отправиться в Африку сражаться с маврами, ожидая дальнейшего развития событий на Сицилии. 3 июня Педро вышел в море во главе огромной флотилии военных и транспортных кораблей, направляясь к алжирскому побережью.301
Чтобы подтвердить свою легенду, Педро отправил специального посла к Папе с просьбой благословить его крестовый поход и даровать обычные в таких случаях индульгенции. Но Мартина он не обманул. Тот довольно резко ответил послу. Швейцарский рыцарь Отто де Грансон, бывший агентом Эдуарда Английского в Орвьето, 11 июня доложил своему патрону, что все при папском дворе ожидают вторжения короля Арагонского на Сицилию.302 Но Педро не торопился. Его флот зашел в Порт Магон на острове Менорка, который все же был мусульманским эмиратом, хоть и подчиненным арагонской короне. Эмир поспешил обеспечить флот щедрыми запасами провизии, но отправил тайного посланника в Тунис, чтобы предупредить Тунисского эмира о походе. Когда флот прибыл в Колло, расположенный на алжирском побережье, Педро узнал, что его союзник, правитель Константины, ради чьей независимости от тунисского эмирата и его обращения в христианскую веру и затевался крестовый поход, был внезапно атакован тунисцами, предупрежденными посланником с Менорки, и убит. Его смерть лишила поход основной цели. Но Педро остался с солдатами в Колло, в достаточной близости от Сицилии, чтобы следить за тем, как будут развиваться события.303
Сицилийцы тем временем готовились отразить нападение короля Карла. Карл же не спешил. Он хотел нанести удар наверняка. Его корабли и воины, предназначавшиеся для похода в Константинополь, были собраны в Катоне на калабрийском побережье пролива. Пьер д'Алансон и Роберт д'Артуа вместе со своими французскими рыцарями вскоре должны были присоединиться к армии Карла Анжуйского. Численность войска была увеличена за счет солдат из Прованса — из той армии, которая должна была отправиться вверх по Роне, чтобы возродить Арелатское королевство. Гвельфы Флоренции прислали отряд под предводительством графа Гвидо да Баттиффолья со знаменем города и пятьюдесятью молодыми флорентинцами, которых король Карл обещал посвятить в рыцари. Взамен кораблей, уничтоженных мессинцами, были наняты корабли из Венеции, Пизы и Генуи. Это была грозная армия, которую 6 июня возглавил сам король Карл. Девятнадцать дней спустя он вместе с армией переправился через пролив и встал лагерем среди виноградников прямо к северу от Мессины.304
Папа Мартин надеялся, что сицилийцы испугаются и подчинятся без боя. Они же продолжали утверждать, что их коммуны находятся под покровительством Папы. 5 июня Папа назначил одного из своих самых искусных советников, кардинала Герарда Пармского, легатом на остров с указаниями добиться от сицилийцев безоговорочной капитуляции.305 Пять дней спустя король Карл в поддержку усилий Папы издал большой эдикт, реформирующий управление островом. Королевским чиновникам впредь запрещалось вымогательство в какой бы то ни было форме; запрещалось конфисковать товары, скот или корабли безвозмездно; принуждать города и деревни преподносить им дары; заключать сицилийцев в тюрьму на недостаточных основаниях; присваивать их земли. В этом эдикте Карл, таким образом, признавал, что в дни, предшествовавшие восстанию, эти злоупотребления имели место.306 Но обещание этих реформ оставило сицилийцев равнодушными. Они слишком много претерпели от правления Кар-ла Анжуйского, и их гордость пробудилась: они были готовы бороться. 2 июня мессинцы уже расстроили попытку анжуйской армии высадиться в Милаццо, на северо-восточном побережье острова. Их дух не был сломлен, когда три недели спустя один из отрядов Карла Анжуйского все же осуществил там высадку и разбил, нанеся тяжелые потери, пытавшееся его отбросить мессинское ополчение. Единственным следствием разгрома мессинцев стало то, что они ворвались в цитадель, где содержали в заточении членов семьи Ризо, и убили их; они также сняли судью Балдуина Мюссоне с поста капитана, посчитав его некомпетентным и бездеятельным. На его место избрали Аламо да Лентино, одного из тех троих сицилийских аристократов, которые играли главную роль в заговоре Джованни да Прочиды. Он оказался более энергичным лидером, чьим единственным недостатком была его зависимость от жены, Махальды да Скалетта, женщины скромного происхождения и огромных амбиций.307 В тот момент супруга была не с ним — она отправилась со своими вассалами в Катанию, где хитростью заставила перепуганных солдат французского гарнизона сдаться на ее милость и всех их приказала перебить, взяв власть в городе в свои руки.308
Аламо приложил все усилия, чтобы привести в полный порядок оборонительные сооружения Мессины. Ему на подмогу прибыли иностранные добровольцы. Среди них были несколько генуэзских галер с командами, невзирая на то, что кое-кто из их соотечественников был нанят королем Карлом; прибыли двенадцать галер из Анконы и — совершенно неожиданно — двенадцать галер из Венеции, укомплектованные людьми, недовольными королем Карлом и его политикой. Сицилийцам была обещана помощь из Пизы, но пизанцы начали войну с Генуей и отозвали галеры, которые собирались прислать. Единственными пизанцами, принявшими участие в сицилийской войне, были команды четырех галер, нанятых королем Карлом. К началу августа к защитникам присоединились пятьдесят арагонских аристократов со своими слугами, оставившие армию своего короля в Африке и приплывшие в качестве добровольцев на помощь сицилийцам.309
Карл начал первую серьезную атаку на Мессину 6 августа, пытаясь взять штурмом ту часть города, которая была расположена на оконечности полуострова и защищала гавань. Приступ отбили с незначительными потерями со стороны защитников. Два дня спустя люди Карла попытались взять приступом укрепленные высоты Капперрины, расположенной в северо-западной части города, наиболее удаленной от моря. После неудачной атаки днем люди Карла повторили попытку после наступления темноты, но были обнаружены и разбиты, благодаря своевременным действиям двух местных жительниц, чьи имена, Дина и Кларенца, были вписаны в хроники. Эти успехи воодушевили сицилийцев. Месяц выдался необычайно дождливый, и слякоть мешала нападшим куда больше, чем защитникам Мессины. Жители города, женщины наравне с мужчинами, посменно дежурили на укреплениях. Они посылали шпионов во вражеский лагерь. Особенно среди них был известен францисканский монах Бартоломео де Пьяц-ца, который собрал исчерпывающую информацию об армии Карла Анжуйского еще до того, как она пересекла пролив. Еще более город был воодушевлен рассказами о Пресвятой Деве, явившейся, чтобы благословить оборону. Но Карл выжидал. Его армия была многочисленной и сильной, а его флот количеством значительно превосходил сицилийский, и обе стороны ожидали подкрепления. Карл покрепче сомкнул блокаду Мессины, ожидая подходящего момента для решающей атаки.
Во время затишья, наступившего после первых атак, Карл послал в город папского легата, кардинала Герарда. Мессинцы с почестями встретили представителя понтифика, которого объявили своим сюзереном. Капитан города, Аламо, официально предложил передать Мессину в его руки, если Папа объявит себя покровителем коммуны. Кардинал ответил на это, что Церковь передаст город своему верному сыну Карлу, которому по закону принадлежит весь остров. Аламо отдернул руку, которой протягивал ключи от города Герарду, и заявил во всеуслышанье, что лучше умереть в бою, чем сознательно подчиниться заклятому врагу. Кардинал был отослан обратно в королевский лагерь.
После неудачи легата Карл поспешил вновь атаковать. 15 августа была предпринята еще одна попытка взять штурмом стену у Капперрины, но и она провалилась. Блокада становилась все более суровой. Жители города были готовы пострадать за свое дело; от голода их спасли небывалый урожай фруктов и овощей, выращенных на участках, отведенных под посевы внутри города, и исключительно большие уловы рыбы в гавани. Штурм северной стены, проведенный 2 сентября, также потерпел неудачу. 14 сентября Карл объявил общий штурм. Бой в тот день был яростнее, чем все предыдущие. Но вновь штурмующие ничуть не продвинулись, и, после того как двое аристократов, стоявших рядом с Карлом, были убиты камнем, брошенным со стены, Карл прекратил атаку и отступил в свой лагерь. Там он написал Аламо письмо, в котором обещал ему, что если тот сдастся и восстановит в городе власть Карла, то получит в награду наследные владения, где только пожелает, и деньги в возмещение военных расходов. Все, о чем просил Карл, — шестеро граждан Мессины по его выбору должны быть переданы ему для наказания. Все остальные жители Мессины будут прощены.
Аламо с презрением отверг предложение. Он и его правительство осознавали опасность своего положения, но надеялись найти избавителя. Когда Папа через своего легата отверг их проект превратить Сицилию в группу коммун под властью Святейшего Престола, они поняли, что для будущего Сицилии надо искать другое решение. И одно такое решение было под рукой.310
Король Педро Арагонский, отправляя посольство к Папе Мартину, чтобы испросить благословения для своего крестового похода, не очень рассчитывал на доброжелательный ответ. Его главный посол, каталонец Гильом де Кастельно, получил указание задержаться на обратном пути в Палермо и связаться там с лидерами восстания. К тому времени палермцы уже знали: ничто не заставит Папу отречься от короля Карла. Сперва сицилийцы не хотели менять одного иноземного монарха на другого. Но в одиночку им было не выстоять. Королева Констанция Арагонская была, в конце концов, представительницей дома Гогенштауфе-нов и последней наследницей великой династии сицилийских королей. Ее муж находился недалеко от сицилийской прекрасной армии. Дальновидность, а также разумность такого решения побудили сицилийцев признать Педро и Констанцию своими королем и королевой. Гильом де Кастельно уплыл к своему господину в Колло, везя с собой троих сицилийских посланников. Один из них был мессинским дворянином по имени Гульельмо, жившим в то время в Палермо, двое других были палермскими судьями, чьи имена неизвестны.
Сицилийская
делегация предстала перед королем
Педро в его лагере в Колло и,
выразив ему свое почтение,
рассказала о положении, в котором
оказался их осиротевший остров. Они
сказали, что Констанция — их
законная королева, которой следует
передать корону, а после нее — ее
сыновьям, инфантам Арагонским. Они
умоляли Педро прийти им на помощь и
позаботиться о том, чтобы королева
вступила в свои права. Педро принял
посланников с уважением, но пока не
решался брать на себя
ответственность. Четыре дня спустя
прибыл корабль с двумя рыцарями и
двумя горожанами из Мессины,
которые проскользнули сквозь
блокаду Карла Анжуйского. В то же
время трое других жителей Мессины
добрались до Палермо, чтобы заявить,
что они присоединяются к просьбе,
обращенной к королю Педро. Педро
продолжал делать вид, что
колеблется. Но он уже посоветовался
со своими полководцами и выяснил,
что те охотно последуют за ним на
Сицилию. После должных проявлений
скромности Педро великодушно
объявил, что отвечает согласием на
просьбу сицилийцев: он поплывет на
Сицилию и возведет свогю жену на
трон ее предков. Педро пообещал
сицилийцам, что их вольности будут
соблюдены и то все будет так же, как
было при короле Вильгельме Добром.
Затем он снова отправил Гильома
Кастельно к папскому двору с
подробным и смиренным объяснением
своих мотивов.311
К
концу августа арагонский лагерь в
Колло свернули. Три дня
военачальники руководили
загрузкой солдат, оружия и провизии
на ожидавшие их галеры и
транспортные суда. Сицилийский
корабль поспешил домой, чтобы
объявить, что его команда видела,
как король Педро готовится к
отплытию. Какие-то два дня спустя, 30
августа
Глава
XIV
ПОЕДИНОК
КОРОЛЕЙ
Резня в Палермо и доблестная оборона Мессины были заслугой одних лишь сицилийцев. Но их восстание было результатом большого заговора. Возможно, они получали оружие из Генуи и Арагона; золото они, несомненно, получали из Византии – но сражались сицилийцы в одиночку. Страстная ненависть к угнетателю пока питала их силы. Но будущее оставалось туманным. В Мессине Карла удалось остановить, но не сокрушить – он еще мог рассчитывать на подкрепление. Ожидались еще корабли из Венеции. Французские рыцари под предводительством графа Алансонского вот-вот должны были отправиться в Италию. Папа отказался поддерживать восстание. Чтобы предотвратить повторное завоевание Сицилии Карлом, была необходима помощь из-за границы, и король Арагонский, чья жена могла заявить свои наследные права, а армия находилась неподалеку, был как раз тем человеком, который мог помочь мятежникам. Но король Педро был почти так же амбициозен, как король Карл. Каждый из них выстроил свою систему военных союзов, и, когда они столкнулись, война приняла слишком широкие масштабы, чтобы кто-то из участников долго помнил об интересах одной лишь Сицилии.
Высадившись в Трапани, король Педро и его армия двинулись в Палермо, а флот последовал за ними вдоль побережья. Педро прибыл в Палермо 2 сентября. Он хотел, чтобы его короновали как короля Сицилии сразу же. Но архиепископ Палермский умер, а архиепископ Монреальский бежал, будучи сторонником французов. Таким образом, Педро был лишь провозглашен королем в присутствии коммуны 4 сентября. В ответ он торжественно пообещал соблюдать права и свободы сицилийцев, как было при короле Вильгельме Добром. Затем Педро призвал всех здоровых мужчин Палермо и Западной Сицилии вступить в его армию и пойти вместе с ним освобождать Мессину. Несколько дней спустя он не спеша двинулся на восток через Никозию и Троину к центру острова, а флот неотступно следовал за ним вдоль северного побережья. Педро уже отправил двоих послов, Педро де Керальта и Родриго де Луна, к королю Карлу — потребовать, чтобы тот покинул остров.313
Карл узнал о высадке Педро лишь через несколько дней. Двое кармелитов видели арагонских послов в Никозии, на островной дороге из Палермо в Мессину, и узнали об их миссии. Монахи поспешили обратно к Карлу с этим известием. Жители Мессины пока ничего не знали, и общий штурм, назначенный Карлом на 14 сентября, было попыткой подчинить город, пока горожане не узнали, что союзник уже на подходе. Условия заключения мира, предложенные Карлом Аламо сразу же после неудачного штурма, были также попыткой решить дело до того, как станет известно о вторжении арагонских войск.314
Послы Педро предстали перед королем Карлом 16 сентября. Карл принял их не очень учтиво и ответил им не сразу. Послам было велено вернуться на другой день. Они воспользовались освободившимся временем, чтобы подойти как можно ближе к стенам Мессины и крикнуть, что их король Педро — уже в Палермо. Их приняли за провокаторов, и никто им не поверил, кроме низложенного капитана, Балдуина Мюссоне. Он пробрался наружу через линию вражеской осады, чтобы присоединиться к Педро Арагонскому и снискать королевское расположение раньше, чем это удастся его сопернику, Аламо. Мюссоне был остановлен какими-то крестьянами, которые и привели его обратно в город. Горожане были в ярости. Его хотели растерзать как дезертира, и Аламо пришлось взять Мюссоне под стражу, чтобы спасти ему жизнь. Мюссоне был заключен в темницу вместе с неким Федерико Фальконио, который вел пораженческие речи. Судье Энрико да Паризи и трем его друзьям повезло меньше. Их заподозрили в предательских переговорах с врагом и спешно казнили.315
Карл, прежде чем дать ответ посольству, выслушал мнение своих советников. Он узнал, что войско Педро огромно, в особенности — его флот. Карл же не мог полностью положиться на свою эскадру: наемные команды были ненадежны, а генуэзцы даже открыто братались с сицилийцами. Он не хотел попасться в ловушку в Мессине, что непременно случилось бы, если бы путь к отступлению через пролив перекрыли бы арагонские корабли. Не хотел он также вступать в решающий бой, пока не подоспели его французские союзники. Среди всех советников Карла самым инициативным оказался Томмазо д'Ачерра. Он был сыном одной из внебрачных дочерей Фридриха II, а потому был на подозрении у короля; но теперь Карл был готов ему поверить. Томмазо заявил, что было бы лучше дожидаться подкрепления на сильной позиции на другом берегу пролива, в материковой Италии; сицилийцы вскоре устанут от арагонцев — тогда можно будет снова нанести удар по острову, предпочтительно — в более слабой точке, чем Мессина.316
Когда Карл снова встретился с арагонскими послами 17 сентября, он дал им расплывчатый ответ, сообщив, что не признает притязаний Педро на Сицилию, но при этом упомянул о том, что готовится уводить свои войска с острова, хотя не обещает, что не вернется однажды без предупреждения. Неделю спустя, обнаружив, что его двусмысленный ответ не помешал Педро неспешно продвигаться к Мессине, Карл начал переправлять свою армию и осадные орудия через пролив в Калабрию. К тому времени мессинцы узнали об арагонском вторжении. Генуэзский купец, своими глазами видевший короля Педро на острове, добрался до Мессины и сообщил новость Аламо. Горожане возликовали и, увидев, что неприятельская армия готовится свернуть лагерь и погрузиться на корабли, начали делать вылазки. Не вся армия успела эвакуироваться до подхода арагонского авангарда. В панике военачальники Карла Анжуйского смогли погрузить большую часть своих солдат на транспортные корабли, но некоторые остались и были убиты; было также брошено огромное количество вооружения и других трофеев.317
Король Педро совершил триумфальный въезд в Мессину 2 октября. Он не спешил на пути из Палермо. Как и король Карл, он не хотел вступать в решительное сражение, а, напротив, стремился дать анжуйской армии время переправиться в Калабрию, чтобы без боя заполучить весь остров. Педро не был уверен, что настроения сицилийцев останутся неизменными, но прекрасно понимал, что его основное преимущество в глазах жителей острова — это его армия и его флот. Король Педро пока не был готов рискнуть ни тем, ни другим, поскольку уже имел неутешительный опыт. Во время остановки в Милаццо к нему ночью явился старик в лохмотьях, представившийся как Виталис деи Джудичи из Мессины. В свое время он был преданным другом короля Манфреда, после гибели которого потерял все и с тех пор жил как нищий, в отличие от большинства сицилийских сеньоров. Против их непостоянства старик как раз настоятельно и предупреждал короля. Он сказал Педро, чтобы тот в особенности остерегался Аламо да Лентино, отважного капитана Мессины, который уже предал сначала короля Манфреда, а затем короля Карла. А еще хуже, чем Аламо, была его жена Махальда и ее отец Джакомо да Скалетта. Король Педро ответил весьма резонно, что его цель — завести друзей на Сицилии, а не оскорблять сицилийцев подозрительностью и обвинениями в прошлых преступлениях. Предостережение мстительного старика лишь подвигло его на следующее утро объявить амнистию всем политическим преступникам.
На следующий вечер король наверняка вспомнил того старика. Педро собирался провести ночь в деревне Санта-Лючия, расположенной в двух милях от Милаццо, и обнаружил, что там его поджидает та самая синьора Махальда. Он уже встречался с ней двумя днями раньше в Рандаццо на северных склонах Этны, когда остановился, чтобы поприветствовать делегацию, прибывшую из Мессины с известием о том, что король Карл покинул остров; а Махальда прибыла туда из Катании и привезла с собой ключи от города. Она решила, что ей вполне подойдет место королевской любовницы, и теперь пыталась реализовать свой план. Король Педро провел вечер, чувствуя себя весьма неловко. Он спасся только подробным рассказом о своей преданности королеве Констанции. Это был не тот аргумент, который мог понравиться Махальде. С этих пор она не скрывала своей ревности к королеве и стала использовать свое влияние на собственного мужа, Аламо, чтобы втянуть его в интриги против арагонской династии. 318
На тот момент Аламо был непреклонен. Он приветствовал Педро в Мессине и передал городское ополчение под командование короля. Сицилийцы и арагонцы отнеслись друг к другу по-братски и, полные воодушевления, отправились грабить калабрийское побережье. Отступление Карла было таким поспешным, что у него не хватило времени на ремонт кораблей. Карл встал лагерем в Реджо, пытаясь восстановить свое войско в ожидании союзников из Франции. Он не успел атаковать арагонцев до того, как последние корабли их эскадры прибыли наконец в Мессинскую гавань 9 октября. Два дня спустя несколько кораблей анжуйца пытались выскользнуть из порта Реджо, чтобы плыть в Неаполь. Арагонцы отправились в погоню, и тогда Карл приказал своему основному флоту атаковать. Однако его эскадра была оттеснена обратно в гавань Реджо с тяжелыми потерями, в числе которых были и две галеры, нанятые в Пизе. 14 октября состоялся второй морской бой, у Никотеры, где-то в тридцати милях к северу от пролива. Арагонцы, несмотря на то что численностью уступали противнику, сумели захватить двадцать одну груженную вооружением галеру, плывшую из Неаполя.319
Короля Педро эти успехи вдохновили, и он задумал высадить свои войска на материк. Он полностью контролировал Сицилию и — по крайней мере, на тот момент — господствовал на море. В конце октября солдаты Педро сошли на берег возле Никастро, на самом узком участке Центральной Калабрии, и заняли перешеек между Тирренским морем и заливом Таранто, таким образом отрезав Реджо и армию короля Карла от остального материка. Правда, это была не очень эффективная блокада. Карл Хромой, князь Салернский, с шестью сотнями рыцарей из Франции сумел войти в Реджо в начале ноября, и графы Алансона и Артуа последовали за ним месяц спустя. Карл доверил защиту области двоим своим лучшим французским военачальникам, Бертрану Артю и Понсу де Бланкефору, вместе с влиятельным итальянским магнатом, Пьетро Руффо, графом Катандзаро. Талантливые полководцы, они хорошо выполнили возложенную на них задачу и с помощью подкреплений, полученных из Франции, не дали арагонцам упрочить свои позиции.320
К
ранней зиме война, казалось, зашла в
тупик, и единственным выходом из
него могло быть только
вмешательство новых сил. Король
Педро очень хотел избежать
подобного поворота событий. Он
выиграл первый раунд с помощью
сицилийцев и мог рассчитывать на
поддержку гибеллинов Северной и
Центральной Италии. Действительно,
после известия о Вечерне гибеллины
в Перудже устроили переворот, и
большая часть Умбрии теперь была
под контролем гибеллинов. В
деревнях сжигали изображения
ненавистного Папы-француза Мартина
IV. Первого мая Гвидо да
Монтефельтро с отрядом тосканских
и эмилианских гибеллинов устроил
засаду в Форли папскому наместнику
Романьи, французу Жану д'Эппу, и
перебил большую часть его отряда.
Знатное семейство Орсини подняло
мятеж в Риме, но было вынуждено
укрыться в своих замках в провинции.
Конрад Антиохийский, внук Фридриха
II, появился с армией в горах возле
Тиволи.321 Но хотя гибеллины
могли помешать врагам Педро и
отвлечь их, они не могли оказать
арагонскому королю реальную помощь.
Среди других его друзей Генуя разделяла
его враждебность к королю Карлу,
хотя и готова была сдавать внаем
галеры для армии анжуйца. Но Генуя
была слишком занята своим
соперничеством с Венецией из-за
торговли на Востоке, а также войной
с Пизой.322 У Педро был
потенциальный союзник в лице
императора Михаила Палеолога в
Константинополе. Но теперь, когда
исчезла угроза похода короля Карла
на Константинополь, византийцы
могли себе позволить игнорировать
Запад. Им было чем заняться на
Балканском полуострове и в
Анатолии. Сам Михаил был болен, и
конец его был близок. Он умер 11
декабря
У короля Карла были более надежные союзники. Правда, итальянские гвельфы были едва ли более полезны ему, чем гибеллины — его противнику, и Венеция, хотя и изъявившая готовность присоединиться к Карлу в его походах на Константинополь, даже меньше, чем Генуя, хотела быть вовлеченной в итальянскую войну. Но французский король рассматривал восстание на Сицилии как личное оскорбление, нанесенное французам. Он полностью поддерживал своего дядю. Когда князь Салернский поспешил из Прованса в Париж, чтобы сообщить королю Филиппу о Вечерне, его приняли очень тепло. Филипп не только разрешил своим кузенам графу Алансона и Артуа присоединиться к анжуйской армии, но также предложил заем в размере 15 000 турских ливров на военные расходы. Карл также просил сына, чтобы тот попытался добиться примирения с королевой-матерью Маргаритой, великодушно предложив ей новое урегулирование ее претензий на Прованс. Возможно, благодаря посредничеству Филиппа вдовствующая королева согласилась не предпринимать активных действий против Карла на данный момент.325
Благосклонность французского двора была очень важна для Карла. Но пока война шла в Италии, французы могли разве что присылать ему наемников и одалживать деньги. Карл, несмотря на предупреждение короля Филиппа, сделанное им королю Педро до Вечерни, не был уверен, что французы захотят объявить войну Арагону. Однако в этом их мог бы убедить Папа — а Мартин IV был самым преданным союзником Карла. Мартин без колебаний отождествлял дело Карла со своим. Победы гибеллинов на папских землях лишь укрепили его в этом мнении. Папа отлучил от Церкви своих и Карла врагов: короля Педро, императора Михаила, Гвидо да Монтефельтро и гибеллинские города — Перуджу, Сполето и Ассизи. С практической же стороны — он одолжил Карлу деньги с церковных доходов, но взамен вынужден был попросить Карла о военной помощи, чтобы защитить свои владения. Для Мартина IV моральный и военный вопросы были взаимосвязанными: его авторитет был попран Педро Арагонским и мятежными сицилийцами; обязанность всех добрых христиан состояла в том, чтобы сплотиться и сокрушить обидчиков.326
Если Карл в чем-то и не разделял точку зрения Папы, то виной тому был финансовый вопрос. Война становилась дорогим удовольствием. Ни один король больше не мог рассчитывать на то, что феодальное ополчение явится во всеоружии по его приказу. Большинство бойцов теперь ожидали, что им будут платить и снабжать их оружием. Вооружение стоило дорого, так же как и корабли, вне зависимости, построены ли они для военно-морских нужд, или взяты в аренду. Кроме того, войны обычно мешали торговле и таким образом сокращали пошлины и таможенные сборы, которые составляли большую часть государственных доходов. Ни Педро, ни Карл не хотели издержек долгой войны. Педро был довольно беден. Арагон не был богатой страной, и его аристократия пользовалась конституционными привилегиями, которые ограничивали размер налогов, взимаемых королем. В его владениях находились такие процветающие купеческие города, как Барселона и Нарбонн, но у купцов тоже были свои права, и они не слишком стремились оказать финансовую поддержку королю ради войны, которая неизвестно как скажется на международной торговле. Педро поднял все налоги, какие мог, и увеличил свою прибыль за счет дани, которую платили мусульманские правители Южной Испании или Африки. Он боялся расходов долгой и широкомасштабной войны. Карл же мог рассчитывать на значительные доходы. Он установил строгий финансовый контроль над своими владениями и облагал их тяжелыми налогами. Но было ясно, что слишком высокие налоги могут спровоцировать беспорядки. Потеряв Сицилию, Карл больше не мог рассчитывать на дань, которую до сих пор присылал ему эмир Туниса. Претенциозная внешняя политика Карла всегда стоила ему немалых денег и в значительной степени оплачивалась за счет займов. Король задолжал огромные суммы своим кредиторам. Деньги, предназначенные для его похода на Константинополь, были истрачены. Первые итоги строительства его империи были неутешительны с финансовой точки зрения: Ахейское княжество было достаточно богатым для того, чтобы обеспечивать свое существование, но не имело свободных денег, особенно сейчас, когда сама власть Карла, казалось, пошатнулась; то, что осталось от его Албанского и Иерусалимского королевств, не приносило ничего, кроме расходов, — их доходы были мизерны, а он должен был снабжать их не только гарнизонами и оружием, но даже продовольствием. Карл жаждал вернуть Сицилию, но это стоило бы ему недешево.327
Возможно,
что, именно опасаясь военных
расходов, Карл сделал любопытное
предложение в надежде избежать
затяжных боевых действий. Ближе к
концу
Теперь уже никто не скажет, насколько искренними были Карл и Педро, планируя свой поединок. Человеку свойственно стремление обращаться к некоему суду, чей моральный авторитет общепризнан, даже если сам истец не собирается подчиняться неблагоприятному для него решению. Современный человек обращается в международную ассамблею. В средние века взывали к более праведному суду — суду Божьему. К XIII в. обращение к суду Божьему посредством битвы уже редко встречалось в судебной практике, но люди все еще верили, что это способ проверить справедливость чьего-либо дела: если будут обеспечены равные условия, Бог отдаст победу правому. Возможно, и Карлу, и Педро показалось, что подобное предложение дает возможность решить сицилийский вопрос, избегнув трудностей и трат, неизбежных в случае широкомасштабной войны. Каждый понимал, как ценно с точки зрения пропаганды показать свое желание подчиниться приговору суда Божьего. Для Педро, у которого в случае начала войны были гораздо более мрачные перспективы, чем у Карла, поединок был вполне привлекательной идеей. Педро был в расцвете сил, воспитан он был при дворе с галантными и рыцарскими традициями, среди товарищей, которые одобрили бы такую авантюру. Карл, подвергался большому риску, но, несмотря на свой суровый нрав и амбиции, он был набожным человеком. Вполне вероятно, что он искренне верил в то, что его право владеть Сицилией, дарованное ему Святой Церковью, будет поддержано Господом. По зрелом размышлении каждый король мог бы усомниться в разумности этой затеи, но, однажды дав свое согласие, ни один из них не мог решиться запятнать свою репутацию отказом.
Их сомнения могли лишь усилиться, когда они узнали, как восприняли новость европейские монархи. Папа Мартин был откровенно напуган. Если им нужен суд Божий, то вот же он, представитель воли Господней на земле. Выказав немного доверия к Божьему суду, он написал Карлу, спрашивая, разумно ли биться на равных условиях с врагом, который настолько слабее его. Только вполне понятное чувство раздражения, считал Папа, могло побудить Карла принять столь безрассудное решение. Он запретил Карлу вступать в поединок, а королю Английскому — разрешать проводить встречу в своих владениях. Сам король Эдуард Английский считал поединок проявлением легкомыслия.329 Сицилийцы, столкнувшись с риском оказаться вновь под властью Карла Анжуйского вследствие схватки, на исход которой они сами никак не могли повлиять, должно быть, разделяли его взгляды. Но король Карл не стал открыто менять свое решение. Возможно, он все равно собирался нанести визит к французскому двору и в свои владения во Франции и был рад, что во время его отсутствия в королевстве его сын, Карл Салернский, на свой страх и риск сможет успокоить волнения. Король Педро был также рад возможности на время вернуться в Арагон, хотя он не собирался уезжать с Сицилии, не упрочив свое военное присутствие в Калабрии.330
12
января
Король Педро не так спешил, он хотел закрепить свои военные успехи. В начале января, до того, как король Карл покинул Реджо, отряд арагонских солдат совершил набег на морской порт Катону и ворвался в дом, где остановился граф Алансонский, который погиб в схватке. Морской арсенал был уничтожен. Такие налеты подрывали моральный дух анжуйской армии, военачальники которой старались по возможности заменять местные войска солдатами из Франции и Прованса. А король Педро, напротив, сделал красивый жест, отпустив две тысячи итальянцев, взятых им в плен.332
13
февраля
Раз уж была необходимость в таком множестве реформ, значит, управление королевством переживало плохие времена из-за дорогостоящей и амбициозной политики Карла, которая так и не принесла никакой выгоды. Неясно, какие из этих реформ были осуществлены в реальности. Некоторые юристы королевства зашли так далеко, что даже запросили Папу Мартина, в чем именно заключались эти пресловутые вольности, которыми пользовалось население во времена короля Вильгельма Доброго. Папа в сердцах ответил, что не знает, поскольку не жил в ту эпоху. Но с точки зрения пропаганды указы Сан Мартино мало что дали. Итальянские подданные короля Карла были, как и прежде, готовы изменить ему, как только представится благоприятный момент. Анжуйцы скорее могли бы извлечь больше пользы от похолодания, наступающего в отношениях между сицилийцами и их арагонскими спасителями.335
Ранней
весной
В действительности ни он, ни Карл уже не собирались вступать в поединок, но комедию следовало доиграть до конца. Король Эдуард, послушный воле Папы, отказался принимать личное участие в их деле. Он остался в Англии и не дал участникам гарантии неприкосновенности на своих французских землях. Но он позволил своему сенешалю в Гиени, Жану де Гральи, сделать необходимые приготовления для встречи гостей и оборудовать ристалище. Король Карл прибыл в Бордо с большой помпой, в сопровождении короля Франции и великолепного эскорта французских рыцарей, из которых он мог выбрать свою сотню бойцов. Мир должен был видеть, что он все еще великий король. Педро выбрал другую тактику. Он прибыл скромно со своими рыцарями, тщательно стараясь не рисоваться, словно показывая, что полагается только на Бога.
Битва была назначена на 1 июня, но, к сожалению, никто не назвал точное время. Рано утром король Педро и его бойцы выехали на арену и обнаружили, что они там одни. Герольды Арагона официально объявили о прибытии своего государя на бой. Затем Педро вернулся к себе, объявив, что его противник не явился на место встречи и, таким образом, победа должна быть признана за ним. Несколько часов спустя король Карл прибыл на место встречи во всеоружии и проделал точно такую же процедуру. Он также объявил себя победителем. Враждующие короли уехали из Бордо несколько дней спустя, причем каждый из них называл другого трусом, не осмелившимся предстать перед судом Божьим.338
Настоящая схватка состоялась на более просторной арене. Король Педро и король Карл, возможно, и хотели бы ограничить войну итальянскими землями. Но Папа Мартин IV хотел совсем другого. Он уже объявил о начале крестового похода на Арагон и, поступая таким образом, рыл могилу средневековому папству.
Глава
XV
СМЕРТЬ
КОРОЛЯ КАРЛА
Трагедия папства заключалась в том, что на тот исторический момент его судьбу вершил французский патриот. С самого начала Папа Мартин воспринял восстание на Сицилии как бунт, направленный против него лично. Более рассудительный Папа понял бы его причины и то, что сицилийцы искренне желают вверить себя покровительству понтифика. Мартин же помнил лишь о том, что именно папство возвело французского принца Карла на сицилийский престол, и было бы предательством по отношению к Церкви и Франции выказывать сочувствие восставшим. Непримиримость Папы толкнула Сицилию в руки Арагона. В ответ на это Папа использовал все могущество Церкви против Арагона.
Педро
Арагонский был отлучен от Церкви в
ноябре
Тем
временем в Париже и в Бордо король
Карл вместе со своим племянником
королем Филиппом обсудили, как
следует провести крестовый поход
на Арагон. Карл хотел как можно
сильнее увлечь этой затеей
французский двор. Скорее всего,
именно по его предложению в
августе
Король
Филипп воспользовался всеми этими
колебаниями, чтобы добиться от
Папы обещания выплачивать
церковную десятину в течение
большого срока. Понтифик был
раздражен настолько, что сделал официальное
заявление о том, что планируемый
Францией поход на Арагон
действительно будет крестовым. Наконец,
2 февраля
Тем временем война в Италии продолжалась. Гибеллинов Центральной Италии удалось остановить. Энергичный папский легат Бернард, кардинал Порто, ездил по стране, ободряя гвельфов. Война между Генуей и Пизой не позволяла ни той, ни другой оказывать поддержку делу гибеллинам. Жан д'Эпп, папский наместник Романьи, получил свежие подкрепления и деньги, благодаря которым купил лояльность некоторых городов Романьи и Анконской марке, а другие взял штурмом, начиная с Форли, чьи стены он сровнял с землей. Но города Умбрии остались в руках гибеллинов; и Гвидо да Монтефельтро в своем апеннинском замке Мендола и Конрад Антиохийский в Сарачинеско в Абруцци остались непобежденными, несмотря на то что их противники получили все привилегии крестоносцев.341
В
Южной Италии дела шли не так хорошо,
у Папы было меньше поводов для
оптимизма. Карлу Салернскому
отчаянно не хватало денег. В
течение февраля
Ясно
было, что, пока арагонцы не могли
предложить Сицилии ничего, кроме
финансового гнета, островитяне
продолжат плести заговоры. Победа
Руджеро ди Лауриа всех
воодушевила. Король Педро прислал
поздравительные письма из Арагона,
но не прислал денег для моряков.
Когда Джованни да Прочида написал
Педро, жалуясь на неповиновение
арагонских наемников, Педро
ответил, что тот мешает арагонским
властям на острове исполнять свои
обязанности. Педро также не дал
разрешения сицилийскому
духовенству отобрать у светских
властей полномочия, данные им в
переломный момент восстания. Когда
королева Констанция поняла, что ее
муж не собирается присылать ей
помощь из Арагона, где ему
требовалось беречь силы ввиду возможного
вторжения из Франции, она решила, по
совету Джованни да Прочиды,
обратиться за финансовой помощью к
Константинополю: византийский
император финансировал заговор,
приведший к Вечерне, — он, конечно
же, не откажется дать денег на
продолжение войны. В
Такая
похвальная щепетильность со
стороны короля, который уже был
отлучен от Церкви, не произвела
впечатления на Папу и не принесла
сицилийскому правительству денег,
в которых оно нуждалось. Война в
Италии продолжалась только потому,
что рейды Руд-жеро ди Лауриа
приносили достаточно трофеев,
чтобы удовлетворить аппетиты его
матросов. На суше дела не двигались
с мертвой точки. К счастью для Педро,
вторжение в Арагон было не так
легко подготовить. Король Эдуард
узнал от своих агентов в тот момент,
когда французский король
согласился принять арагонский
престол, что активные действия
начнутся не раньше чем через год.
Французам не хватало энтузиазма, в
папской канцелярии тянули время.
Только в мае
Карл Анжуйский знал о затруднениях Педро. Он решил набрать новую армию и флот в Провансе и велел своему сыну в Неаполе созывать под свои знамена все войска, какие можно собрать в Италии, но придерживаться строго оборонительной позиции до его прибытия. Карл Салернский послушно собрал армию из феодального ополчения, сарацин из Лучеры и гвельфских бойцов из Тосканы и отправил ее под командованием графа Артуа к границам Калабрии. Подчиненным ему местным властям было приказано проследить за обороной прибрежных городов и замков и вести наступательные действия только против таких мест, как Скалеа, где противник располагал опорными пунктами. Были спешно построены новые корабли на верфях Неаполя, чтобы быть готовыми к крупномаштабному походу короля Карла, который начнется с его возвращением из Франции.347
Сицилия была спасена благодаря таланту адмирала Руджеро ди Лауриа. На тот момент он господствовал на море и извлек максимум из своего положения. Аль-могаварские партизанские десанты высаживались то здесь, то там на побережьях Калабрии и Базиликате, всегда исчезая прежде, чем войска графа Артуа могли их настичь. В мае Руджеро привел свой основной флот в Неаполитанский залив. Анжуйцы не смогли отбить острова Капри и Искию. Руджеро использовал эти острова как базу для своих рейдов в заливе. Он занял маленький островок Низиду, неподалеку от мыса Позиллипо, и поставил эскадру на якорь под его прикрытием, что позволило ему блокировать гавань. Любое неаполитанское судно, вошедшее в залив, тут же захватывали или топили. Блокада разъярила неаполитанцев. Они потребовали, чтобы правительство приняло меры, а когда власти ответили промедлением, заговорили о перевороте. Карл Салернский не знал, что делать. Его отец, перед которым он благоговел, запретил ему атаковать врага. Папский легат, кардинал Герард, по-прежнему находившийся рядом с Карлом Салернским, повторял совет его отца. Сам же Карл был неуверенным в себе молодым человеком: в результате несчастного случая в детстве он остался хромым и жил с сознанием собственной ущербности. Карла глубоко беспокоили последствия блокады. Он не знал, когда прибудет отец. Возможно также, что он стремился доказать всему миру, что, несмотря на хромоту, может сражаться отважно.
Король
Карл отплыл из Прованса во главе
своего флота в конце мая
Когда известие о поражении принца достигло Неаполя, там вспыхнули бунты. Французов, обнаруженных на улице, убивали, а их дома были разграблены и сожжены. Легат и члены правительства, не захваченные в плен вместе с принцем, нашли убежище в крепости. Другие города на побережье последовали примеру Неаполя. Руджеро ди Лауриа, зная, что королева Констанция стремится освободить свою сводную сестру Беатрису — дочь Манфреда от жены-гречанки, — отправил послание княгине Салернской с сообщением о том, что не отвечает за жизнь принца, пока ему не передадут Беатрису. Княгиня была вынуждена уступить, и Беатрисе даровали свободу, которой она была лишена на протяжении восемнадцати лет заключения. Адмирал, переправив своих главных пленников на флагманский корабль, на следующий день встал на рейде в Сорренто, где к нему явилась делегация горожан с цветами и, что более существенно, с деньгами. Взойдя на борт флагмана, горожане приняли пленного принца за Руджеро. «О, если бы только Господу было угодно, чтобы ты победил отца, как победил сына», — воскликнули они и объявили, что первыми перешли на его сторону. Принц Карл, рассмеявшись, повернулся к адмиралу. «Святой Боже! — сказал он. — И это добрые верноподданные моего господина и короля». Затем арагонский флот поплыл вместе со своими высокопоставленными пленниками в Мессину.348
Король
Карл прибыл со своим флотом в Гаэту,
самый северный порт королевства, 6
июня, на следующий день после
неаполитанской катастрофы. Он вскоре
узнал новости, и его первой
реакцией был гнев на собственного
сына. «Кто теряет дурака — не
теряет ничего, — сказал Карл и
добавил с горечью: — Почему он не
погиб, раз ослушался нас?» Король
Карл поспешил в Неаполь. Легат к
тому времени сумел подавить бунты с
помощью местных аристократов.
Приезд Карла довершил
восстановление порядка. Карл
приказал повесить сто пятьдесят
зачинщиков мятежа. Все остальные
были помилованы. 9 июня он написал
Папе, чтобы дать полный отчет о
случившемся. Это письмо было
преисполнено чувства собственного
достоинства и свидетельствовало о
том, что произошедшая катастрофа
никоим образом не повлияла на
честолюбивые устремления Карла.
Он писал, что скорбит в связи с
потерей сына, но зато у него есть
множество внуков. И в самом деле —
хотя Карл Салернский и был
единственным оставшимся в живых
сыном короля Карла и ни один из
братьев Карла Салернского не
оставил потомства, у него самого
было тринадцать детей, из них —
восемь сыновей. Затем король
сообщал Папе, что у него все еще
большое войско. Он перечислил
тридцать четыре хорошо оснащенных
галеры и четыре галиона, приведенные
им из Прованса. Еще одна эскадра из
тридцати трех кораблей, большую
часть из которых построили недавно,
располагалась в неаполитанской
гавани. Еще более многочисленное
войско ожидало его приказаний в
Бриндизи. У Карла было столько
солдат и матросов, сколько
требовалось. Он писал, что мог бы
преуспеть и в более трудном
предприятии, чем планируемая им
кампания. 349
У короля Карла были корабли и солдаты. Но хоть его корабли и были хороши, солдаты оставляли желать лучшего. Воины, набранные в королевстве, устали от боевых действий, в которых иноземные король и аристократы заставляли их участвовать. Солдаты из Франции и Прованса были прекрасными бойцами, но они презирали итальянцев и доставляли своим командирам постоянные хлопоты, грабя и насилуя в тех областях, чье дружеское расположение было сейчас так необходимо. Большую часть армии составляли наемники, профессиональные солдаты, которые сражались хорошо, если им вовремя платили. Карл похвалялся перед Папой своей мощью, но вынужден был попросить у него финансовой поддержки. Чтобы начать поход, нужно было собрать заем в 50 000 эскудо у банкиров Рима и Тосканы. В королевской казне не хватало денег на долгую кампанию.350
Тем не менее армия, вышедшая из Неаполя 24 июня, была впечатляющей. Король двинулся с ней по прибрежной дороге. Это было многочисленное войско: проникнутые благоговейным трепетом хронисты, как всегда, склонные к преувеличению, писали о десяти тысячах всадников и сорока тысячах пехотинцев, желая тем самым лишь засвидетельствовать, что армия была необычайно большой. Флот вместе с прибывшей на подмогу пизанской эскадрой следовал за армией вдоль берега. Они продвигались медленно, Карл был намерен не оставить у себя за спиной ни одного неприятельского отряда. В конце июля армия дошла до «носка сапога» в Калабрии и взяла Реджо в осаду с моря и с суши. Город держался, но Карл, укрепившийся в Катоне неподалеку, получив подкрепление в виде флота из Бриндизи, попытался высадиться на самой Сицилии. Его нападение отбили, и он решил, что время для этого еще не пришло. А пока Карл воспользовался численным перевесом своего флота, чтобы запереть Руджеро ди Лауриа и сицилийско-арагонский флот в Мессинской гавани.
И снова Руджеро проявил себя как более искусный моряк, чем флотоводцы Карла Анжуйского. Он дождался, когда шторм разметает вражеский флот, затем выскользнул из гавани и принялся опустошать побережья в тылу Карла. Король не хотел снимать блокаду с Реджо, особенно когда арагонская эскадра из четырнадцати галер под предводительством барселонца Раймунда Маркетта прибыла в пролив и начала грабить торговые суда. Карл не мог себе позволить послать достаточно кораблей против Руджеро, и тот либо уходил от них, ведя более искусную морскую тактику, либо топил.351
Король Карл стоял у стен Реджо меньше двух недель. Он подбадривал солдат, убеждая их, что они вот-вот переправятся через пролив и окажутся на Сицилии, но его неудача в попытке быстро взять Реджо пошатнула моральный дух армии. Когда Руджеро начал высаживать партизанские силы в тылу Карла, тот понял, что должен отступить. Он оставил Катону вместе со своей армией 3 августа. Из-за успешных налетов Руджеро на тирренское побережье Карл выбрал дорогу, идущую вдоль восточного побережья Калабрии. 17-21 августа он был в Кротоне, а неделю спустя — в Бриндизи. Его войско покинуло Калабрию и было размещено на линии, проходящей через южную часть Ба-зиликате и соединяющей залив Поликастро с заливом Таранто.352
Друзьям Карл объявил, что откладывает свой поход до следующей весны, когда его можно будет предпринять одновременно с французским вторжением в Арагон. Но даже теперь Карл, должно быть, начал терять уверенность. В его армии росло дезертирство, и угрозы наказания никого не останавливали. Красивые обещания торговых привилегий для купцов Акры, которые одолжат ему корабли или деньги, мало к чему привели. Были предложены новые реформы, и Папа даже велел своему легату разузнать, наконец, какими именно вольностями пользовались подданные короля Вильгельма Доброго.353 Население сохраняло угрюмое безразличие. Арагонские и сицилийские солдаты все еще совершали вылазки с Капри и Искии, чтобы перерезать сообщение в Неаполитанском заливе. На северной границе Конрад Антиохийский совершал набеги через Абруцци из своего замка в Сарачинеско. Сын и наследник короля Карла находился в заключении на Сицилии, и многие сицилийцы требовали его смерти как справедливого возмездия за смерть Конрадина, казненного его отцом. Королеве Констанции, чья природная доброта подкреплялась к тому же пониманием того, что живой принц представляет большую ценность, чем мертвый, было весьма непросто защитить его от разгневанных толп в Мессине. Она перевела Карла Салернского в замок в Чефалу для его же безопасности. Сам король Карл мог бы хладнокровно перенести смерть сына, которого он презирал. Но удар по его престижу был бы невыносимым.354
Однако Карла могли утешить вести о событиях, происходящих на Сицилии. До сих пор главной опорой арагонского правления на Сицилии был Аламо да Лентино. Он был одним из троих заговорщиков, упоминавшихся в легенде как сообщники Джованни да Прочиды: он был капитаном Мессины и руководил ее героической обороной. Теперь Аламо стал главным юстициарием королевства. И вдруг он попал под подозрение. Молва обвиняла его жену, синьору Махальду. Она не смогла простить короля Педро за то, что тот отверг ее домогательства. Махальда отчаянно завидовала королеве Констанции. Королева обычно путешествовала верхом, но когда однажды из-за недомогания ей пришлось по пути к усыпальнице в Монреале въехать в Палермо в паланкине, Махальда, которая чувствовала себя превосходно, тут же прошествовала по улицам Палермо в более пышном, завешенном алой тканью паланкине, покоившемся на плечах недовольно ворчавших слуг ее мужа, которым пришлось нести ее всю дорогу до Никозии. Когда молодой инфант Хайме совершал королевскую поездку по острову, Махальда настояла на том, чтобы поехать с ним, потребовав обращаться с ней как с членом королевской семьи. Затем она оскорбила королеву, отменив под очевидно неблаговидным предлогом предложение Аламо, чтобы Констанция стала крестной их младшего ребенка. Все были уверены, что Махальда намеревается сама стать королевой Сицилии.
Возможно, она повлияла на Аламо; но также вероятно, что он и сам уже сомневался относительно того, насколько выгодным станет для острова правление арагонской династии. Великий заговор, в котором Аламо принял участие, должен был освободить остров, но сбросившие ярмо сицилийцы сначала попытались вверить себя покровительству Папы, а не Арагона. Когда Аламо получил власть в Мессине, то отправил послания не в Барселону, а в Константинополь. Обстоятельства вынудили его смириться с арагонским вторжением. Но король Арагона и его жадные солдаты мало делали для блага острова. Возможно также, что Аламо завидовал своим соратникам — Джованни да Прочида и Руджеро ди Лауриа были итальянцами с материка, не островными жителями. Они хранили верность не Сицилии, а королеве Констанции, дочери старого покровителя Джованни и молочной сестре Руджеро. Им было важно процветание Сицилии, но только если у власти будет королева Констанция и ее дети.
Как
бы вызывающе Махальда себя ни вела,
предательство Аламо зашло не
слишком далеко. Возможно, он лишь
критиковал необузданную жадность
альмога-варских войск и обсуждал со
своими близкими друзьями, можно ли
образовать лучшее правительство,
свободное от власти арагонцев. Но
королева и ее советни-ки не хотели
рисковать. Аламо был вызван на
Совет под председательством
инфанта Хайме, который заявил, что
Аламо стоит нанести визит королю
Педро в Барселоне. Аламо не мог
отказаться. Он покинул остров в
ноябре
Из трех основных сицилийских лидеров Гвалтьери да Кальтаджироне теперь был казнен, Аламо — до самой смерти оставался в темнице, а третий, Палмьери Аббате, канул в безвестность, подвергнувшись опале. Дела на Сицилии были плохи. Имелось, однако, достаточно денег на тот момент, чтобы оплатить вооруженные силы, поскольку Руджеро ди Лауриа воспользовался отступлением короля Карла и рассредоточением его флота, чтобы совершить рейд на африканский остров Джерба. Это оказалось очень выгодным предприятием. Было взято огромное количество трофеев, и при попытке бежать в Тунис в плен попал эмир. Эмир, Маграм ибн Зебир, был заключен в мессинской цитадели, где ему вскоре составила компанию синьора Махальда. Она шокировала своих тюремщиков, выйдя сыграть с ним в шахматы в весьма легкомысленном и нескромном наряде.356
Известия
о таких волнениях на Сицилии и
приготовления к крестовому походу
на Арагон воодушевили короля Карла,
и он стал энергично готовиться к
весенней кампании. Зиму он решил
провести в Апулии. Это была богатая
провинция, пока не затронутая
войной. В отличие от Неаполя,
который был блокирован вражескими
гарнизонами, расположившимися на
Капри и Искии, огромный порт
Бриндизи был открыт, и через него
Карл мог поддерживать связь со
своими заморскими владениями на
Востоке. Правда, от них мало что
осталось. Ахейское княжество было в
то время верно Карлу, поскольку он
назначил местных магнатов своими
наместниками, но они не посылали
ему в помощь ни солдат, ни деньги из
княжества. Далее на север Карл все
еще контролировал Корфу и одну или
две крепости на материке напротив
острова, но содержать их стоило
дорого. В его албанском королевстве
только город Дураццо остался за
Карлом, и там тоже нужно было разместить
сильный гарнизон. В иерусалимском
королевстве его власть
ограничивалась городом Акра.
Вскоре после Вечерни он вызвал
своего бальи, Руджеро да Сан
Северино, обратно в Италию со всеми
войсками, которые тот мог собрать.
Теперешний бальи, Эд де Пуалешьен,
был настолько неуверен в своих
силах, что, заключив перемирие с
мамлюкским султаном Калауном в
Карл не отчаивался. В месяцы, проведенные им в Бриндизи, из его канцелярии вышла целая вереница указов. Были приняты меры по укреплению власти. Юстициариям было велено договориться о взимании субсидии со всего населения; доход от этого налога должен был пойти на войну, задуманную на следующий год. Если наедине с собой Карл и сравнивал провал своей последней кампании со славными временами Беневента и Тальякоццо, то на людях он оставался все тем же деятельным и суровым правителем, что и раньше.358
В декабре Карл переехал в Мельфи, чтобы встретить там Рождество, и 30 декабря двинулся дальше, в Фоджу. Здоровье его ухудшалось, но он пока держался. Карл был потрясен, узнав, что некоторые его чиновники отчуждали свое имущество в пользу Церкви, чтобы избежать налогообложения. 2 января он издал строгий указ, запрещающий такую практику. Это был последний публичный акт Карла.359
17 января в Мессину прибыла делегация из города Галлиполи, расположенного в заливе Таранто у кромки Апулии. Члены делегации заявили, что их сограждане хотят отдать себя под покровительство сицилийского правительства. Они также объявили, что король Карл мертв и его тело отвезено в Неаполь для похорон. Вскоре последовали делегации из других городов Апулии с теми же просьбами о покровительстве и с той же новостью.360
Карл
умер десятью днями раньше. 6 января
он понял, что угасает, и написал
завещание. В том случае, если его
сына Карла Салернского не
освободят из плена, его
королевство и французские графства
должны будут перейти старшему
внуку короля Карла — Карлу Мартелу.
До совершеннолетия мальчика или до
возвращения Карла Салернского из
плена регентство должен
осуществлять Роберт, граф Артуа, а
общее военное руководство —
камергер и друг короля Карла, Жан де
Монфор. Карл распорядился, чтобы
Карл
прожил эту ночь, поддерживаемый
церковными обрядами и уверенный в
своем спасении. Рассказывали, что
умирая он шептал молитву губами: «Господи,
ибо я верю, что Ты воистину мой
Спаситель, я молю Тебя, помилуй мою
душу. Ты знаешь, что я захватил
Сицилийское королевство во имя
Святой Церкви, а не для собственной
выгоды. Так что Ты простишь мои грехи».
На следующее утро в субботу, 7
января
Двадцать лет Карл Анжуйский господствовал в Средиземноморье. Он вошел в историю как один из великих политиков своего времени. Казалось даже, что он создаст большую и прочную империю. Но Карл умер, потерпев неудачу. Его личные достижения были многочисленны. Он был отважен, решителен и хладнокровен, деятелен и требователен к себе, способен планировать грандиозные проекты и не упускать мельчайшие подробности. Он был опытным военачальником и правителем. Его благочестие было искренним. Карл был воспитан при дворе таких выдающихся государей, как королева Бланка и Людовик Святой, и он воочию видел, как должен править хороший король. Но всего этого было недостаточно для той роли, которую он для себя выбрал. Неудачу потерпел не король, а человек: в натуре Карла не было ни доброты, ни жалости, ни даже мнимого сочувствия, его личные устремления были слишком грубы и прямолинейны, и его набожность помогала претворить их в жизнь, поскольку он считал себя орудием в руках Господа и защитником Его Святой Церкви. Карл не был беспринципным авантюристом того типа, каким будет восхищаться Макиавелли. Он был человеком чести в соответствии со своими убеждениями — но это были убеждения ограниченные и эгоистичные. Люди могли восхищаться им, его придворные и чиновники были искренне преданны ему и восхваляли его деяния. Но лишь немногие из них любили Карла. Не мог он пробудить любовь и среди своих подданных. Его погубило отсутствие человеческого такта. Карл выстраивал свои планы аккуратно и четко, но они рухнули из-за протеста, который вызывали в людских сердцах. Казнив Конрадина, Карл поступил в соответствии с хорошо обдуманным политическим расчетом, но, сам не ведая жалости, он не понимал, что казнь заставит мир содрогнуться от ужаса и страдания. Его человеческими слабостями были тщеславие, которое заставило его стремиться к таким бессмысленным титулам, как король Иерусалимский, и определенный избыток самоуверенности, из-за чего с течением лет он стал недооценивать своих врагов. Несмотря на предостережения, Карлу не могло прийти в голову, что обнищавший арагонский двор осмелится бросить ему вызов. Он не мог поверить, что напуганный византийский император сплетет хитроумную интригу прямо в его собственных владениях. И последняя и роковая ошибка: то, что сицилийцы будут так печься о своей свободе, что восстанут против самого могущественного правителя своего времени, было выше его понимания. Карл привык к французам: французская знать причиняла беспокойство короне, но простые люди приветствовали королевскую власть. Ни его опыт, ни его воображение не позволяли ему представить целый народ, борющийся за свою свободу.
Как бы это ни задумывалось и подготавливалось, но именно один мартовский вечер Вечерни в Палермо пошатнул империю короля Карла. Но Карл молил Бога, чтобы тот лишь позволил ему спускаться короткими шагами, и его молитва была услышана. Власть Карла рушилась медленно, а вскоре после его смерти разрушение прекратилось вовсе, и Анжуйская династия пошла по новым путям развития. Сицилийцы, приведшие короля Карла к пропасти, мало от этого выиграли. Их запутанная и несчастливая история на протяжении нескольких последующих десятилетий была жалким вознаграждением за их храбрость.
Глава
XVI
ВЕЧЕРНЯ
И СУДЬБА СИЦИЛИИ
В месяцы, последовавшие после смерти короля Карла, казалось, ничто не могло спасти королевство. Новый король был пленником в руках врага. Калабрия была потеряна, один за другим апулийские города переходили врагу. В самом Неаполе кипело восстание. Папа Мартин тоже не упростил ситуацию, отказавшись полностью принять последнюю волю короля. Он не признавал королем пленного Карла Салернского, называя его лишь сыном покойного короля. Только несколько дней спустя он признал Роберта д'Артуа регентом, а затем назначил своего легата, кардинала Герарда, на такой же пост — оба были регентами папского престола, а не пленного монарха или мальчика-принца. Мартин дал понять, что в королевстве наступило междуцарствие и что Папа, как сюзерен, по праву берет руководство в свои руки. Его подход был не лишен смысла, поскольку уменьшал значимость пленного Карла Салернского и его ценность в качестве заложника и источника выкупа, которые арагонцы могли за него потребовать. Но такой подход требовал некоторого количества опытных администраторов при папском дворе и преданных служителей папства, которые могли бы работать в королевстве.362
Французский
двор, занятый подготовкой к крестовому
походу на Арагон, был потрясен
известиями из Италии. Теперь, когда
Карл был мертв, а в его королевстве
воцарился хаос, Сицилии не угрожало
нападение, и король Педро мог
сосредоточить все свои силы для
защиты Арагона. Но огромную армию,
собранную королем Филиппом, нельзя
было отправить домой ни с чем. В
конце мая
События
на других фронтах также были
неутешительны. У регентского
совета в Неаполе хватило ума
назначить правителем в Ахейю, где
можно было ожидать беспорядков,
самого богатого и талантливого из
окрестных аристократов Гильома,
герцога Афинского. До самой своей
смерти в
Дело
анжуйцев было спасено благодаря
ряду своевременных для них
смертей.
5 октября Филипп III, король Франции, умер в Пер-пиньяне, «спасая бегством лилии от позора», как презрительно отметил Данте; и с его смертью армия крестоносцев растаяла. Филипп был слабовольным и глуповатым человеком. Во время последней болезни, когда паланкин уносил его на север от Пиренеев, у него было время поразмыслить над тем позором, к которому его привело благоговение перед своим дядей Карлом.367
Пять недель спустя, 10 ноября, пришел черед Педро Арагонского, который умер на пике своего триумфа. Несмотря на его достижения, его личность не так очевидно выделяется на фоне истории. Педро был великодушным и обаятельным человеком. Он произвел хорошее впечатление на сицилийцев, но не был ни глубоким политиком, ни умелым руководителем. Покинув Сицилию, чтобы вернуться на Арагон, Педро вскоре забыл о ее нуждах и был недоволен, когда его жена и ее советники напомнили ему о них. В нем было что-то легкомысленное, но он становился все опытнее, и авторитет его рос. Смерть Педро была ударом для его народа.368
Появившиеся на сцене новые действующие лица сильно отличались от своих предшественников. Карл Салернский — Карл Хромой, как его прозвали за физический недостаток, — обладал чертами, характерными для сына нелюбящего и деспотичного отца: он был неуверен в себе, и его сомнения усугублялись осознанием собственной глупости, приведшей его в плен, и унизительностью его положения; он был скрытен и терпелив; и он обладал чувствительностью, которой его отец был начисто лишен; он был добр, как и подобало любящему отцу тринадцати детей. В конечном счете Карл Салернский проявил себя как справедливый и разумный правитель и проницательный дипломат. Но в то время, спрятанный от мира в комфортабельной тюрьме в Каталонии, он мало что мог сделать.369
Новый
Папа, Гонорий IV, был римлянином,
членом семьи Савелли и состоял в
родстве с великой династией
Орсини.370 Он был человеком не
большой набожности, но зато он был
дальновидным политиком и стремился
принести в Италию мир. Как бы мало
одобрения ни вызывала у Гонория
политика его предшественника, он
решил, что авторитет папства
пострадает сильнее, если он
полностью изменит политику, чем
если продолжит ее в более мягкой
форме. Гонорий был полон решимости
сохранить целое и неделимое
Сицилийское королевство для
Анжуйской династии — папство
слишком далеко зашло, чтобы
оставить остров арагонцам. Но
Гонорий также был полон решимости
провести реформу управления в
королевстве. В сентябре
Сицилийцев, однако, реформы Папы оставили равнодушными: они не собирались подчиняться Анжуйской династии, даже если Папа гарантировал реорганизовать управление. К тому же на самом деле часть реформ оказалась невыполнимой, а другими было легко пренебречь. Не лишила сицилийцев мужества и смерть Педро Арагонского. Как он и обещал, Сицилия перешла его второму сыну, Хайме, а Альфонс, старший сын, стал королем Арагона. Новому королю Арагона исполнился двадцать один год. Умный и храбрый юноша, преданный своей матери и братьям, Альфонс уже был помолвлен с дочерью короля Эдуарда Английского, который был о нем весьма высокого мнения. Король Сицилии был на два года младше. Хайме тоже был способным юношей, но менее открытым и более склонным к внутренним поискам. На тот момент он находился под сильным влиянием своей матери, королевы Констанции, и ее опытного советника, Джованни да Прочида.373
Новый
король Франции был самым
талантливым из всех правителей,
пришедших к власти в
Папа
Гонорий был готов отказаться от
крестового похода на Арагон, тем
более что новый король Альфонс не
претендовал на титул короля
Сицилии. Папа не мог допустить
отделения Сицилии. Король Хайме был
коронован в Палермо в феврале
История
следующих нескольких лет — это
история неудачных соглашений о
мире. Пленный Карл Салерн-ский был
готов на жертвы ради своей свободы,
а его тюремщики готовы были
отпустить его в обмен на признание
их прав на Сицилию и Калабрию. Но
папство решительно отказалось
дать Карлу разрешение отдать
остров, а французский двор боялся
любого значительного усиления
власти арагонцев. Договор, подписанный
в Париже в июле
Война
в Южной Италии продолжалась,
продолжались и партизанские
налеты на западном побережье.
Теперь Папа планировал вторжение
на Сицилию, которое началось
весной
Большая армия выступила из Бриндизи и высадилась возле Аугусты, между Катанией и Сиракузами, 1 мая и взяла город в осаду. К концу июня запасы провианта заканчивались, а Аугуста все еще держалась. На поддержку армии в Неаполе был снаряжен флот под предводительством графа Фландрского. 23 июня Руджеро ди Лауриа с флотом вошел в Неаполитанский залив и выманил графа на битву. И снова он одержал полную победу. Он захватил сорок восемь галер вместе с командами, насчитывавшими в общей сложности пять тысяч человек, в числе которых были граф Фландрский, главнокомандующий анжуйскими войсками Жан де Монфор, граф Жуанвиль и многие другие аристократы Прованса и Франции. За битвой с берега наблюдал посол монгольского ильхана Персии, священник-несторианин Раббан Саума, приехавший в Европу в расчете на то, что христианский мир готов объединиться против мусульман Востока. После известия об этой битве огромная армия на Сицилии оставила поле битвы. Но Руджеро не завершил свою победу. Он удовольствовался тем, что отпустил своих пленников за огромный выкуп, который позволил ему заплатить своим матросам сильно задержанное вознаграждение и отложить сколько-то денег на будущее.378
Папа
Гонорий не увидел результатов
своего упрямства. Он умер в Риме 3
апреля
Теперь сотрудничать отказался король Франции. Его беспокоил пункт, касающийся Прованса, и он хотел быть уверенным, что его брат, претендующий на титул короля Арагона, получит должную компенсацию. Карл остался в тюрьме. Новый Папа вскоре проявил то же упрямство, что и его предшественники: он требовал полного подчинения от короля Альфонса и его брата Хайме. Папа отказался выслушать арагонских послов, пытавшихся объяснить ему, что восстание на Сицилии было законным протестом против угнетения, а произвол, допущенный в отношении французов, шокировал большинство сицилийцев.381 Но Папа Николай был обеспокоен возрождением гибеллинов в Центральной Италии. Гвидо да Монтефельтро снова «вышел на тропу войны», и даже римские горожане стали проявлять симпатии к гибеллинам. Кроме того, с Востока пришли известия о том, что мамлюки планируют новую кампанию против того, что осталось от Святой Земли.382 Папа убедил Эдуарда Английского снова попробовать себя в роли посредника.
По
договору, подписанному в Канфранке
в октябре
При
французском дворе Карла приняли
неприветливо. Филипп IV пока не
собирался заключать мир с Арагоном.
Он арестовал арагонских послов,
сопровождавших Карла; а когда Карл
несколько недель спустя отправился
в Италию, Филипп навязал ему в сопровождение
хорошо вооруженных рыцарей. Когда
Карл прибыл в Италию, его не
воспринимали как вестника мира.
Гвельфы повсюду оказывали ему
восторженный прием. Папа
приветствовал его как героя. Сам
Николай, решив, что в Риме слишком
много гибеллинов, чтобы ему там
ничего не угрожало, перебрался в
Рие-ти, рядом с границей
королевства Карла. Там Папа
короновал Карла как короля Сицилии
на Пятидесятницу
К чести Карла следует отметить, что он продолжал добиваться мира. Возможность подвернулась неожиданно. Альфонс Арагонский, разгневанный из-за обмана, планировал высадиться вместе с Руджеро ди Лауриа на побережье королевства, и его убедили, что город Гаэта восстанет против анжуйцев. Его обманули. Альфонс высадился возле Гаэты, но горожане отказались открыть перед ним ворота. Пока Альфонс осаждал город, подоспела большая анжуйская армия под предводительством Карла Мартелла и графа Артуа и поймала его в ловушку у городских стен. Противостояние продлилось почти два месяца. Затем появился сам Карл. Он беспокоился за своих пленных сыновей. Эдуард Английский прислал к Карлу посольство, умоляя его выполнить свои обязательства. Пришла весть о том, что египтяне взяли Триполи и Сирию, и Эдуард рвался в крестовый поход. Карл предложил Альфонсу заключить перемирие на три года. Папа, узнав об английском посольстве, послал двух кардиналов проследить за тем, чтобы Карл не предпринимал никаких попыток заключить с врагами мир. Карл проигнорировал их. Его рыцари жаловались на то, что в его армии слишком много священников и проповедей по сравнению с весельем, царившим в лагере Альфонса, но благочестие Карла не успокаивало Папу. Один их двух кардиналов, Бенедет-то Каэтани, будущий Папа Бонифаций VIII, так никогда и не простил Карлу его миролюбия.385
Несмотря на неодобрение папства, политика Карла Салернского оказалась мудрой. Хотя гаэтанское перемирие не распространялось на Калабрию и Сицилию (где Хайме Сицилийский продолжал воевать), заключив его, король Альфонс начал постепенно отдаляться от своего брата. Король Арагона начал размышлять о том, не смогут ли сицилийцы сами о себе позаботиться и не стоит ли ему отступить, сохранив те достижения, которых он добился, и сосредоточиться на укреплении своей власти в Испании.
Следующим
миротворческим шагом Карла Салернского
был приезд во Францию с целью
успокоить французов и Карла Валуа.
Чтобы успокоить свою совесть и оправдаться
перед Арагоном, он 1 ноября
И снова вмешался рок. 18 июня, когда пора уже было отправляться в Рим, король Альфонс умер от внезапной лихорадки в возрасте двадцати семи лет. Предательство по отношению к сицилийцам запятнало его репутацию. Но нельзя винить его одного. Альфонс зависел от арагонской знати, а она устала воевать за Сицилию. Желание сохранить Сицилию могло стоить Альфонсу короны. Но его матери и брату, остававшимся на Сицилии, было трудно его простить. Брак Альфонса с Алиенорой Английской так и не состоялся, поскольку он долгое время был отлучен от Церкви. Таким образом, наследником Альфонса стал его брат, Хайме Сицилийский. Но Альфонс, выполняя завещание своего отца, повелел, чтобы после того, как Хайме получит корону Арагона, он передал Сицилию их младшему брату — инфанту Федерико. Арагонцы, испугавшись анархии, поспешили отправить корабль за Хайме, который находился в Мессине. После короткой поездки по острову Хайме отплыл из Трапани 23 июля.387
Хайме
отказался соблюдать договоры или
заветы своего брата: он заявил, что
является законным наследником
Арагона, но не станет отрекаться от
сицилийского престола. Он
назначил инфанта Федерико своим
наместником, но не королем. Хайме
прервал свою поездку из Барселоны
на Майорку и объявил Балеарские
острова неотъемлемой
собственностью арагонской короны,
что бы по этому поводу ни говорил
Папа. Таким образом, Бриньольский
договор был расторгнут. Папа
Николай снова отлучил Хайме и
сицилийцев от Церкви, и все вновь
приготовились к войне.388 Но
став королем Арагонским, Хайме
оказался в том же положении, что и
его покойный брат. Его арагонские
подданные были сыты по горло
Сицилией. Тогда Хайме намекнул, что
за соответствующее вознаграждение
готов уступить Сицилию анжуйцам. К
папскому двору отправился
арагонский посол, чтобы предложить
Папе верность своего короля.
Несколько дней спустя, 4 апреля
Последовавшее
после его смерти междувластие длилось
два года. Все это время Карл
Салернский по-прежнему пытался
заключить мир с Арагоном и вернуть
себе Сицилию. Потенциальных
союзников сицилийцев — например,
генуэзцев — подкупом или угрозами
склонили к нейтралитету. С королем
Хайме начали вести переговоры при
посредничестве короля Санчо Кастильского,
поскольку Эдуард Английский теперь
воевал с Францией.390 Карл
Салернский был особенно заинтересован
сохранить средиземноморскую
колонию, поскольку у него теперь
имелись новые идеи, касательно его
династии. Король Венгрии Владислав IV
умер в
В
декабре
И
снова договор учитывал интересы
всех, кроме сицилийцев. Получив
известие о Фигерасском перемирии,
сицилийцы отправили посольство в
Барселону, чтобы сообщить королю
Хайме, что остров никогда не
подчиниться власти французов.
Инфант Федерико колебался.
Руджеро ди Лауриа и Джованни да
Прочида, а также барселонский и
неаполитанский дворы убеждали его
согласиться. Против была лишь мать
Федерико, королева Констанция.
Федерико не хотел предавать
сицилийцев; он сомневался, что даже
в случае его женитьбы на Катерине
поход на Константинополь будет
осуществимым. Когда настоящие
условия договора в Ананьи стали
известны на Сицилии, сицилийцы
заявили Федерико, что хотят видеть
его своим королем, но будут
защищать остров от него и от любого,
кто попытается вернуть власть
французам. Чтобы выиграть время,
Федерико объявил, что, если
Катерина де Куртенэ до сентября
В
начале
Сицилийцы
остались в одиночестве. Но новый
союз короля Хайме, короля Карла II и
Папы приносил на удивление мало
результатов. После ряда кампаний,
проведенных осенью и зимой
Эта победа воодушевила гибеллинов Италии. Многие генуэзцы, включая лучшего адмирала республики Коррадо Дория, поступили на службу к сицилийскому королю. Поползли слухи, что сама Генуэзская республика собирается официально вступить в войну. Сенешаль Прованса был так напуган, что начал вторжение на генуэзскую территорию к неудовольствию короля Карла, который поспешил отправить в Геную посольство с извинениями, пообещав территориальные уступки, если генуэзцы не вступят в войну. Действия Руджеро ди Лауриа оказались еще эффективнее обещаний Карла: 14 июня он перехватил объединенный генуэзско-сицилийский флот с Коррадо Дориа во главе на рейде у Неаполя возле острова Понца и разбил его. Генуэзцы вышли из войны, и республика объявила нейтралитет.404
Несмотря
на эту победу, вторжение анжуйцев
на Сицилию ничуть не продвинулось.
Руджеро ди Лауриа не смог найти
места для высадки новых войск.
Роберт прошел от Катании до Мессины
и взял ее в осаду, но город
сопротивлялся ему так же стойко,
как его деду в
Неаполитанский двор признал перемирие. Папа Бонифаций не одобрил его, но был слишком занят другими заботами, чтобы протестовать. В Северной Италии возрождалось движение гибеллинов под предводительством Аццо д'Эсте, синьора Феррары. В Романьи и Марке начались восстания гибеллинов. Все города Умбрии, кроме Перуджи, повторно подтвердили свою приверженность делу гибеллинов. Дело усложнялось еще и тем, что гвельфы в тех городах, где они господствовали, как, например, во Флоренции, начали делиться на фракции: на «Черных» и «Белых». Папа Бонифаций почувствовал, что утрачивает свое влияние. Он назначил нового гонфалоньера — Карла Валуа, чья жена-неаполитанка умерла, и он недавно женился на законной латинской императрице, Катерине де Куртенэ. Карл Валуа полагал, что он подчинит Италию своему влиянию и это поможет ему в предстоящем походе на Константинополь, который он намеревался завоевать. Но Карл Валуа был безответственным авантюристом, принесшим мало пользы делу папства. Когда перемирие на Сицилии закончилось, его отправили туда, назначив главнокомандующим войск Анжуйской династии. Принц Роберт остался на острове в качестве наместника своего отца, но Бонифаций VIII ему не доверял. В тайном донесении кардинала Герарда Пармского, папского легата, говорилось, что Роберт находится под сильным влиянием своей жены-арагонки, чья смерть при родах годом позже в силу этих причин не вызвала у Папы сожаления.406
В
конце мая
Кальтабелоттский
договор дал Сицилии независимость.
Все анжуйские войска были отозваны
с острова, а все сицилийские войска
— с материка. Федерико получал
титул короля острова Сицилия, с тем
чтобы Сицилийское королевство
официально осталось за Анжуйской
династией. Федерико должен был
жениться на младшей дочери короля
Карла Алиеноре и оставаться
королем только до своей смерти.
После его смерти корона должна
вернуться к анжуйцам, а наследники
Федерико в качестве компенсации
должны были получить королевство
Сардинию, или королевство Кипр, (правда,
ни одно из них анжуйцы не имели
права дарить), или
Все
приняли договор со вздохом
облегчения. Король Карл оставил
надежду на завоевание острова, но у
него все еще была вероятность
получить остров мирным путем после
смерти Федерико — а тот мог умереть
очень молодым, как его брат Альфонс.
Кроме того, пункт договора,
согласно которому остров в итоге
возвращался Анжуйской династии,
спасал репутацию Карла. Папа
Бонифаций, хоть и недовольный тем,
что Сицилия досталась отлученному
от Церкви государю, тоже мог найти
утешение в этом пункте. Он лишь настоял
на том, чтобы титул Федерико звучал
«король Тринакрии»[18],
чтобы избежать слова «Сицилия», а
также чтобы правление Федерико
официально начиналось со дня
подписания договора. Папа дал свое
благословение на подписание
договора и принял Федерико и
сицилийцев обратно в лоно Церкви.
Он приберег свой гнев для Карла
Валуа, которого принял очень холодно.408
В скором времени, в мае
На
самом деле и для Бонифация, и для
Карла II сицилийский вопрос имел
второстепенное значение. Первый
был слишком занят ссорой с Филиппом
IV Французским, ссорой, достигшей
своего апогея в унизительной
сцене пленения Бонифация VIII
французскими посланцами в его
собственном дворце в Ана-ньи.410
Главной же целью Карла II сейчас
было укрепление своей династии в
Венгрии. Его жена, венгерская
принцесса, передала свои права
своему старшему сыну, Карлу Мартелу,
многообещающему юноше, чья смерть
от лихорадки в
Карл
Мартел и его жена Клеменция
Габсбург, умершая вскоре после
своего мужа, оставили троих маленьких
детей, сына и двух дочерей. Когда
Бонифаций VIII взошел на папский
престол, они с Карлом II договорились,
что итальянские и провансальские
владения короля перейдут его
третьему сыну, Роберту, поскольку
второй его сын, Людовик, принял
духовный сан, а второй сын Карла
Мартела, Карл-Роберт или Каробер,
получит венгерский трон. После
смерти Андраша III в начале
Пристальное внимание, с которым неаполитанский двор наблюдал за молодым королем Каробером, отвлекло его от Сицилии. Венгерский трон давал более широкие возможности, чем владение средиземноморским островом, и в итоге именно в Венгрии Анжуйская династия достигла своего расцвета. Карл Анжуйский, женив своего сына на дочери венгерского короля, не мог предвидеть, какую славу он таким образом принесет своей династии, и все же из всех его решений это в конце концов оказалось самым удачным.
Король Карл II мог пережить потерю Сицилии с холодной невозмутимостью. Для Федерико Арагонского Кальтабеллотский мир был достойной наградой за усилия. Его не беспокоило, что он лишь прижизненный владелец острова, этот вопрос можно было еще обсудить позже. Не подчинился Федерико Папе и в его решении датировать начало его правления лишь с момента утверждения договора Папой. Успех также привел Федерико к примирению со своим братом, королем Хайме Арагонским, который, выжав все, что было можно, из союза с врагом, позволил своим семейным привязанностям вновь одержать верх.413
Сицилийскому народу этот договор принес даже большую, но вполне заслуженную, награду. Война была выиграна благодаря стремлению сицилийцев к свободе. На протяжении двадцати лет после Вечерни они отклоняли уловки правителей и государственных деятелей и дали понять, что не примут мирный договор, который отдавал бы их обратно под власть ненавистных французов. Сицилийцы не сожалели, что у их нового короля не было владений на материке, — он мог лучше позаботиться об их процветании. На протяжении наступающего столетия Сицилия была свободным и независимым королевством, не очень богатым и играющим не слишком большую роль в мировой политике, но зато счастливым.414
Анжуйцы,
конечно, не оставляли надежды
отвоевать Сицилию. В
В
Сицилия уже никогда не была независимой после 1409г. От королей Арагонских она перешла к их наследникам, королям объединенной Испании. В XVIII в. после кратких перерывов Австрийского и Пьемонтского правления она была передана вместе с Неаполем одной из ветвей французской династии Бурбонов, которая правила Испанией. Их королевство было названо королевством Обеих Сицилии, но из этих двух Сицилии остров был младшим компаньоном, если не считать тех нескольких лет, когда войска Наполеона вынудили королевскую династию искать убежище в Палермо. От Бурбонов Сицилия была освобождена Гарибальди, чтобы стать частью объединенной Италии, но частью, которой долго пренебрегали и обделяли. Теперь, наконец, у Сицилии снова есть свой парламент, и ее друзья могут надеяться, что свирепое мужество, проявленное народом Сицилии на протяжении всей ее истории, будет вознаграждено.
Глава
XVII
ВЕЧЕРНЯ
И СУДЬБА ЕВРОПЫ
Эту тему следует рассматривать с двух сторон. События Вечерни в Палермо отметили жестокую и важную поворотную точку в истории Сицилии. Они также преподали урок всей Европе.
Со
смертью императора Фридриха II и
упадком империи Гогенштауфенов
папство, казалось, восторжествовало
над своим главным соперником в
борьбе за всеевропейское
господство. Для сохранения победы
политика папства заключалась в
предотвращении сосредоточения
слишком большой власти в руках
одного монарха. Со времени смерти
Фридриха в
Когда Фридрих умер, основной целью Пап стало предотвращение возрождения власти Гогенштауфенов. Это было непросто. Еще оставались талантливые и блистательные члены этой семьи, чьи подданные хранили им верность, в то время как итальянцы, с их страстью к партийной политике, делились на две враждующие партии — гвельфов и гибеллинов — и использовали все средства для достижения своих целей. Чтобы установить в Италии мир, была необходима направляющая сила. Папа же не мог чувствовать себя в безопасности на своем престоле в Риме. Когда Манфред получил наследство Гогенштауфенов в Италии, его итальянская политика приняла столь же угрожающий папству курс, как и у его отца; но в отличие от Фридриха II, Манфреда не отвлекали беспорядки в Германии. Чтобы сокрушить Манфреда и создать в Италии послушное правительство, Папа решил пригласить принца из-за границы, располагающего достаточными денежными средствами для организации военной кампании. Английский принц подошел бы, если бы в Англии нашлась подходящая кандидатура и если бы на английском троне сидел более рассудительный король. Но юность принца Эдмунда и бездарность короля Генриха III в сочетании с финансовыми требованиями папства делали английскую кандидатуру неприемлемой. Тогда спасителя стали искать во Франции.
К сожалению, именно в тот момент понтификом выбрали француза. В условиях, когда итальянские кардиналы ссорились между собой, выбор Папы Урбана IV, который был патриархом Иерусалима и обладал большим международным опытом, казался наилучшим выходом из сложившейся ситуации. За полтора века до того Папа Урбан II — тоже француз — проявил себя как самый дальновидный и широко мыслящий из всех средневековых Пап. Но за эти полтора столетия во Франции зародилась нация и ее сыновья стали истинными французами. Для Урбана IV было вполне естественным пригласить французского принца для спасения Церкви от германо-итальянской династии, тем более что на примете был французский принц, обладавший выдающимися способностями.
Союз
с Карлом Анжуйским не принес
папству ничего, кроме бед. Карл был
необычайно амбициозный человек, и
приглашение в Италию дало ему все
возможности показать себя в деле.
Вскоре он стал так же опасен для
независимой Церкви, как и
Гогенштауфены. На самом деле он был
куда более опасен, поскольку, возглавив
вместо Папы партию гвельфов в
Италии, мог оказать им материальную
помощь, что для них было намного
полезнее, чем духовная поддержка
Папы. Карл также мог влиять на
выборы Папы, на что за прошедшие
два столетия были способны лишь не
многие императоры. Избрание Папы-француза
означало, что он сделает нескольких
французов кардиналами, которые
вместе с союзниками-гвельфами
впоследствии, на выборах нового
понтифика, могли возвести на
папский престол француза или
человека, сочувствующего французам,
— тем более что Карл со своей
армией всегда был поблизости. Урбан
IV, пригласивший Карла в Италию, был
французом, как и Климент IV, тепло
принявший Карла. После смерти
Климента последовала реакция
конклава, в результате которого
папский престол пустовал почти три
года. Это вполне устраивало Карла,
так же как его устроило бы избрание
Папы-француза. Избрание Григория X
означало для Карла неудачу, и
Григорий действительно помешал
некоторым его планам. Сменившие
Григория один за другим трое пап,
проживших недолго — савойец,
итальянский гвельф и португалец, —
были благосклонны к Карлу. Затем он
получил новый отпор с избранием
Николая III, чему причиной послужило
то, что Карл несколько отошел от дел
из-за болезни. У Николая III, как и у
Григория X, было несколько более
широкое понимание папских
обязанностей. После смерти Николая
Карл не стал рисковать и подготовил
избрание самого непреклонного из
французских Пап, Мартина IV. Таким
образом, к
На первый взгляд кажется странным, что политическая деятельность Карла, талантливого государя, которого поддерживали и папство, и Франция, и итальянские гвельфы, окончилась провалом. Он потерпел неудачу из-за своей черствости и недостаточного понимания нужд тех народов, с которыми должен был иметь дело. Французы проявили себя как самый энергичный и предприимчивый народ средневековой Европы, и они знали об этом. Они начали считать себя высшей расой. Французы организовали движение крестоносцев, и по большей части именно они снабжали его солдатами и руководили походами в Святую Землю. Они установили свои порядки в Палестине и Греции. Власть над всем христианским миром была их предназначением. Карл был французом. Более того — он был французским принцем, а именно французская королевская династия, главным образом, дала стране единство и национальное самосознание. И именно короли династии Капетингов давали порядок и правосудие народу и ослабляли деспотичную и разрушительную власть аристократов. Пока Карл был ребенком, его мать и брат занимались усмирением непокорной французской знати. В юности ему пришлось усмирять знать Прованса. Карл вырос в убеждении, что народные симпатии — на стороне централизованной власти.
Гордясь своим происхождением и положением, Карл совершил две роковые ошибки: одну внешнеполитическую и одну внутриполитическую. Он считал себя наследником правителей-крестоносцев, в особенности в Восточной Европе. Французы гордились Четвертым крестовым походом и созданием Латинской империи в Константинополе. Ее падение потрясло их. Им не приходило в голову, что для византийцев, как и для арабов на Востоке, французы несли с собой не прекраснейший расцвет цивилизации, а были жестокими захватчиками, склонными к религиозным гонениям. Карл был убежден, что восстановление Латинской империи будет простым делом, если только ему позволят устроить крестовый поход на Константинополь. С военной точки зрения Карл был прав, но он не учел ни той страстной ненависти, которую византийцы питали к Западу, ни того, как далеко они смогут зайти, чтобы предотвратить его вторжение; недооценил он также их искусство дипломатии, отточенное веками. Карл с презрением относился к арагонскому двору и не думал о том, насколько эффективно притязания арагонцев могут быть использованы против него. Он недооценивал всех своих иностранных врагов и никогда не понимал, что они могут быть опасны, если объединятся.
Их
объединение стало возможным,
благодаря ошибкам, допущенным
Карлом в управлении своим королевством.
Он знал о силе национализма. Он знал,
что может доверять своим
соотечественникам-французам, и
больше не доверял никому. Карл, по
возможности, во всех своих
владениях назначал чиновниками
подданных из других своих
владений. Но он не учел, какое
негодование может вызвать такая
политика. Похоже, он полагал, что,
как и во Франции, здесь основной
угрозой для монархии является
знать и что народ сам собой
сплотится вокруг короля. В своих
итальянских владениях Карл ослабил
власть местной аристократии и
опирался на французских
аристократов и рыцарей, которым
никогда не давал слишком большой
территориальной власти. Он не
понял ни того, что эти приглашенные
аристократы не стали немедленно
умелыми и неподкупными
руководителями только потому, что
их оторвали от их наследных земель,
ни того, что местное население
могло невзлюбить иноземных
правителей, даже если бы они
действительно знали свое дело. Карл
был умелым государем, но он не мог
уследить за всем. По реформам,
которые он поспешно провел, когда
дела пошли не так, становится ясно,
что в его правлении была масса
изъянов, главным из которых было то,
что оно не устраивало сицилийцев.
Именно здесь сицилийский вопрос переплетается с европейским. Карл забросил Сицилию. Он считал, что она беднее других его владений, а потому менее полезна. Сицилийцы вывели Карла из себя восстанием, случившимся в начале его правления. Он никогда надолго не приезжал на остров и никогда не проверял его правительственный аппарат. Чиновники на острове были более продажными и деспотичными, чем на материке, где Карл мог лично следить за их деятельностью. И все же, несмотря на прежнюю непокорность сицилийцев, Карл, похоже, не ждал от них неприятностей. Народ Сицилии был многонационален. Всего полвека назад греческую и арабскую составляющие можно было легко отличить от латинской. Карл запросто мог решить, что люди столь разных кровей никогда не смогут сплотиться настолько, чтобы представлять постоянную угрозу его власти. Но на самом деле несчастья, обиды и помыслы всего острова сплотили его жителей. Это яркий пример того, как мало национальное чувство зависит от чистоты расы. На острове произошел переворот, задуманный, поддержанный и организованный иноземными врагами Карла, но осуществленный благодаря яростной храбрости самих сицилийцев, которая и разрушила империю Карла. Некоторые сицилийские лидеры могли дрогнуть. Вмешательство Арагона и навигационный гений Руджеро ди Лауриа могли внести свой вклад в победу, но только твердая целеустремленность самих сицилийцев, которую не сломило последующее предательство союзников, освободила их от ненавистной власти Анжуйской династии.
Главная причина неудачи, которую потерпел Карл в строительстве империи, кроется в его непонимании средиземноморского мира того времени. Если бы он удовольствовался ролью короля Сицилии, у него было бы время научиться править сицилийцами. Но Карл считал себя воином Господним, которого Святая Церковь избрала своим защитником. Западная империя рухнула потому, что противилась Церкви. Он собирался создать новую империю при поддержке Церкви, как мирской представитель церковной власти. Карл опоздал. Христианский мир был расколот на слишком много частей, у каждой из которых были свои интересы, национализм развивался слишком быстро, он затронул даже самого Карла. Что бы сам Карл ни думал о своей роли, действовал он отчасти в интересах папского империализма, отчасти — в интересах французского империализма, а отчасти — в угоду своим личным и династическим амбициям; и все эти понятия переплетались. Позже Анжуйская династия снискала славу, взойдя на венгерский престол, но только пока ограничивала свои интересы Центральной Европой. Когда она попыталась объединить свои владения в Италии с центрально-европейскими, задача оказалась слишком сложной. Короли из Анжуйской династии почти все были людьми выдающихся способностей, оставившими свой след в истории Европы. Но это был мимолетный след, давший Европе мало хорошего.
Вечерня положила конец попытке короля Карла построить империю. Но в этой кровавой резне погибло также нечто большее. Это был конец папства Григория VII. Папство предало себя в руки Карла. Немногие мудрые Папы, такие как Григорий X и Николай III, пытались ослабить влияние Карла, но безуспешно. Сами сицилийцы сделали все, что могли, чтобы дать папству путь к спасению. Папа, более компетентный, чем Мартин IV, мог бы сократить потери папства в то время, но избежать их было невозможно. Отказ Карлу в поддержке означал бы признание неправоты Рима. Но такая слепая поддержка Карла, идущая вразрез с желаниями преданного папству народа и с совестью большей части Европы, а затем поражение, к которому Карл привел папство, означали гораздо более жестокое унижение. Папство бросило в бой все силы. Оно тратило больше денег, чем могло себе позволить. Оно использовало оружие Священной войны, и все напрасно. Папство оказалось финансово истощенным и, чтобы восстановить свои финансы, было вынуждено попробовать получить от светских властей больше, чем те были готовы заплатить. Его духовное оружие оказалось запятнанным, поскольку немногие европейцы за пределами Франции и гвельфских городов Италии могли увидеть в усмирении сицилийцев духовную цель. Идея Священной войны уже была скомпрометирована, когда ее использовали против Гогенштауфенов. Теперь она уже окончательно заработала себе дурную славу. Папство растратило свой высокий авторитет на проигрышное дело, не имея убежденности в том, что правда на его стороне. Не было идеи прекраснее, чем Вселенская Церковь, объединяющая христианский мир в одну великую теократию, управляемую справедливой мудростью наместника Божьего. Но в этом грешном мире даже наместнику Божьему нужна вполне материальная поддержка для претворения в жизнь своей священной воли. Средневековое папство не смогло найти во всем христианском мире ни одного представителя светской власти, на которого могло бы положиться. Разрушив Вселенскую империю, которая одна, возможно, могла бы дать папству такую поддержку, Папы поставили перед собой трудную задачу. То, что их выбор пал на Карла Анжуйского, легко понять, но это был роковой выбор. Когда власть Карла была сломлена событиями Вечерни в Палермо, Папы слишком глубоко увязли. Все это привело к оскорблению, нанесенному Бонифацию VIII в Ананьи, к Авиньонскому пленению[19] и после Великой схизмы[20] и крушения иллюзий — к Реформации.
Сицилийцы с обнаженными клинками, толпой валившие по улицам Палермо в тот кровавый вечер, наносили свои удары во имя свободы и чести. Они не могли знать, к каким последствиям это приведет их, а вместе с ними и всю Европу. Кровопролитие — дело дурное, и оно редко приводит к добрым последствиям. Но кровь, пролитая в тот вечер, не только спасла отважный народ от угнетения. Она в корне изменила историю христианского мира.
Этот
урок не был полностью забыт. Более
чем три века спустя король Генрих IV
Французский похвалялся перед
испанским послом тем, какой урон он
может нанести испанским землям в
Италии, если король Испании будет
чрезмерно испытывать его терпение.
«Я позавтракаю в Милане, — сказал
он, — а пообедаю в Риме». — «Тогда,
— ответил посол, — Ваше Величество
несомненно поспеет на Сицилию как
раз к Вечерне».
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Об истории Сицилии во времена греков и римлян см. соответствующие отрывки в «Camridge Ancient History». Хорошей книги по общей истории древней Сицилии не существует.
2.
См. Bury. History of the Later
3.
Ostrogorsky. History of the
4.
Vasiliev. Byzance et les Arabes. V. I. P. 61-88, 127-137, 187-188,
204-208, 219-222, 260-264; V. II (original edition in Russian).
P. 20-25, 43-46, 58-68, 84-87, 122-130, 258-262, 302-309. Amari.
Storia dei Musulmani in Sicilia. 3 vols. 1854-1872, остается
лучшей полной историей того периода.
5. Ostrogorsky. Op. cit. Р. 293-294.
6.
О нормандском завоевании Сицилии
см. Chalandon. Histoire de
7.
Chandalon. Op. cit. V. II. P. 439-
8.
Kantorowicz. Kaiser Friedrich der Zweite. V. I. S. 11-12.
9.
10. Ibid. P. 172-173; Kantorowicz. Op. cit. S. 20-21.
11.
О несовершеннолетии Фридриха см. Bathgen.
Die Regentschaft Papst Innocenz HI im Konigreich Sizilien; Van
Cleve. Markward of Anweiler; Luchaire. Innocent III. V.
12.
13.
Лучшее краткое описание характера Фридриха
можно найти в
14.
О падении Византии см. Ostrogorsky. History of
the
15. См. Hitti. History of the Arabs. P. 484, 652-658.
16. См. Runciman. History of the Crusades. Vol. III. Р. 237-254.
17. Кроме упомянутых детей у Фридриха была еще законная дочь от Изабеллы Английской Маргарита, которая вышла замуж за Альбрехта Тюрингского, маркграфа Мейсенского. Об их сыне Фридрихе см. далее на стр. 41. Из незаконных дочерей императора одна, Сильваджа, вышла замуж за Эццелино III, веронского тирана; другая, Виоланта, вышла за Риккардо, графа Казертского; имена еще двоих его дочерей неизвестны; одна из них была замужем за Джакомо, маркгафом Каретским, другая — за Томмазо Аквинским, графом Ачерры.
18.
Boemer. Regests Imperii, no 3835 V. V,
19. См. Runcimsn. History of the Crusаdes. V. III. Р. 182, 220-221, 275.
20.
21.
Итальянская история этого периода
подробно изложена в Jordan. L'Allemagne et 1'Italie.
P. 289-296.
22.
23.
Nicolas of Cabrio. Vita Innocentii IV (Muratori//R.I.S. V. III. P.
592); Rymer. Foedera. V. I. P. 302; Jordan. Les Origines. P.
238-239; Leonard. Les Angevins de Naples. P. 38.
24. Matthew Paris. Chronica Majora. V. IV. P. 242; Paulus. Geschichte des Ablasses im Mittelalter. Bd. II. S. 27.
25.
Baronius-Raynaldi. Annales Ecclesiastici. Vol. II. P. 505. Гвельфы
обвиняли Манфреда в том, что тот
подстроил убийство Конрада при
помощи отравленного клистира,
который поставил Конраду
придворный лекарь Джованни да
Прочида. См. Salimbene de Adam. Cronica (M.G.H.
Scriptores. V. XXXII. P. 444, 472).
26.
Hampe. Geschichte Konradins von Hohenstaufen. S. 4-7; Runciman
History of the Crusades. V. III. P. 281.
27.
28.
Nicolas of Carbio. Vita Innocentii IV. P. 592; Boehmer. Regesta. №
4644. Vol. V. I. P. 855.
29.
Nicolas of Jamsilla. Historia de rebus gestis Friderici II,
Conradi et Manfredi (Muratori//R.I.S. V. VIII. P. 513-41). См. Hefele-Leclercq.
Histoire des Conciles. Vol. VI,
30.
Nicholas of Jamsilla. Loc. cit.;
31. Hefele-Leclercq. Op. cit. P. 18, n. 3. О характере Иннокентия см. Jordan. Les Origines. P. LXXIX-LXXXI.
32. Nicholas of Carbio. Op. cit. P. 592; Salimbene de Adam. Op. cit. P. 453-454. Салимбене называет Папу Александра ученым и миролюбивым. Более резкое суждение можно найти в Jordan. L'Allemagne et 1'Italie. Р. 323.
33. Nicholas of Jamsilla. Historia. P. 543; Jordan. Les Origines. P. XIII-XIV. О соглашении Манфреда с партией Конрадина см. Boehmer. Regesta, № 4771. Vol. I. P. 882.
34. Nicholas of Jasmilla. Historia. P. 584; Baronius-Raynaldi. Annales Ecclesiastic. V. III. P. 24-25; Capasso. Historia Diplomatica Regni Siciliae. P. 167-168 (о денонсировании коронации Папой). Причастность Манфреда к распространению слухов о смерти Конрадина рассматривается в Schirrmacher. Die letzten Hohenstaufen. S. 449.
35. Данте описывает Манфреда так: «Он русый был, красивый, взором светел» («Чистилище, III, ст. 107») и называет его прославленным героем и покровителем литературы в «De Vulgari Eloquentia» (кн. I, §12) («О народном красноречии»). Гвельфские хроники обвиняют Манфреда во всех пороках, но трубадур Раймунд Тор, друг Карла Анжуйского, восхваляет его честность, справедливость и утонченность; неизвестный трубадур уже после гибели сицилийского короля, когда уже ничего не мог выиграть, восхвалял Манфреда, называя его доблестным, несущим радость и добродетельным правителем. De Bartholomaeis. Poesie Provenzali Storiche raelative all'Italia. Vol. II. P. 212-215, 234. Современные историки судят его более строго. Для Previte-Orton («Cambridge Medieval History». V. VI. P. 184) он был «ленивый и нерешительный», «дитя гарема», «влюбленный в вымысел о собственном величии» и ему было присуще «азиатское сочетание самоуверенности и слабости». Leonard. Les Angevins de Naples. P. 40, дает оценку сдержанную и справедливую.
36. См. Libertini, Paladino. Storia della Sicilia. Р. 444-445.
37.
О «двойных выборах» см. Jordan. L'Allemagne et
1'Italie. Р. 304-310, с комментариями, и Hefele-Leclercq.
Histoire des Conciles. V. VI. P. 23-26.
38.
39.
40.
cm. Longnon. L'Empire Latin de Constantinople. P. 178-186; cм.
также — Wolff. Mortgage and Redemption of an Emperor's Son
// Speculum. V. XXIX. P. 45-54, где содержатся полезные
сведения о долгах Балдуина II.
41.
Vasiliev. History of the
42. Ostrogorsky. Op. cit. P. 384-391.
43. Ibid. P. 371-395.
44.
Miller. The Latins in the
45.
Я считаю, что принято придавать
слишком мало значения стремлению
Манфреда переломить недовольство
папства его правлением, выступив в
качестве защитника католицизма на
Востоке. Об Иннокентии IV и Ричарде
Корнуэльском см. Powicke. King Henry III and the
Lord Edward. V. I. P. 197, n. 2.
46.
О Констанции, которую византийцы
перекрестили в Анну, см. Gardner. The
Lascarids of
47.
48.
О женитьбе Гильома и приданом см. Geneakoplos.
The
49.
50. Dolger. Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches. V. III. S. 31; George Acropolita. Historia/Ed. Heisenberg. P. 165; Norden. Op. cit. P. 382.
51.
Пелагонская битва описана в: Chronicle of
Morea. 11. 3602-3900 (Greek version, ed. Kalonaros); Acropolita.
P. 165-170; Pachymer. Op. cit. P. 83-86; Nicephorus Gregoras.
Historia Byzantina. V. I. P. 71-75, поздний и запутанный
отчет, который приписывает Манфреду
участие в битве. Хорошее
современное описание см. Geneakoplos. Op.
cit. P. 120-136; но см. Nicol. The Date of the
52.
Gаrdner. Op. cit. P. 254-260; Ostrogorsky. Op. cit. Р. 399-400.
О Нимфийском договоре см. Dolger. Op. cit. V.
III. S. 36-38.
53.
Chronicle of Morea (Greek version). 11. 4324-4348; Pachymer. Op.
cit. P. 88; Longnon. Op. cit. P. 228-230; Dolger. Op. cit. V. III.
S. 38-39.
54.
Pachymer. Op. cit. P. 89. Стратегопул был передан
Манфреду и впоследствии обменян на
императрицу Констанцию (Анну), сестру
Манфреда.
55.
Дураццо, хоть и упомянутый в
февральском документе
56.
Wolff. Mortgage and Redemption. P. 65-66; Miller. Latins in the
57.
Hefele-Leclercq. Histoire des Conciles. V. VI,
58.
59.
О замужестве Констанции см. Carini. Gli
Archivi e le Biblioteche di Spagna. V. II. P. 185-186.
Помолвка состоялась 28 июля
60.
61.
Ibid. P. 336-355.
62 Libertini and Paladino. Storia della Sicilia. P. 444-445.
63. Innocent IV. Registre/ Ed. Berger. V. II. P. CCLXXVI-CCLXXXV; Matthew Paris. Historia Anglorum. V. III. P. 126, где говорится, что Ричард спрашивал о правах Конрада, но намекнул, что мог бы согласиться, если ему хорошо заплатят; см. также Chronica Majora. V. V. P. 346-347, где говорится, что Ричард наотрез отказался и произнес фразу о луне.
64.
Rymer. Foedera. V. I, 14 (1816 ed.). P. 297, 301.
65.
Ibid. P. 301-302; Matthew Paris. Chronica Majora. V. V,
66.
Powicke. King Henry III and the Lord Edward. V. I. P. 236-238.
67.
Ibid. P. 239-242
68.
Ibid. P. 370-375.
69.
Ibid. P. 376-378.
70.
Ibid. P. 385-387, Boehmer. Regesta. № 9178. V. V, 2. P. 1423.
71.
Urban IV. P. Registres/ E. Guiraud V. I. P. 145.
72.
Hefele-Leclercq. Histoire des Conciles V. VI, I. P. 38, n. I;
Jordan. Les Origines. P. 374-378.
73.
74.
Boehmer. Regesta, № 4737a. V. V,
75.
Pachymer. De Michaele Palaeologo. S. 88.
76.
77.
Ibid. P. 392-396.
78.
Ibid. P. 397-401.
79.
Ibid. Loc. cit.
80. Письмо Балдуина к Манфреду и письмо Урбана с комментариями на этот счет можно найти в Martene еt Durand. Thesaurus novus anecdotorum. V. II. Р. 23. Королева Маргарита заставила своего семилетнего сына, будущего Филиппа III, поклясться никогда не действовать сообща со своим дядей Карлом. Король Людовик пришел в ярость, узнав об этом; а Папа прислал письмо, освобождающее мальчика от данного обета. См. Wolff. Op. cit. Р. 66-68.
81. Все условия договора можно найти в Jordan. Op. cit. Р. 20-26.
82. Об амбициях Беатрисы подробно рассказывается в Villani. Cronica. Vol. II. Р. 129-130.
83.
Карла очень сурово судят
германские историки, которые не
могут простить ему смерть
Конрадина, и итальянские историки,
как, например, Амари, который
всячески подчеркивал гнет
правления Карла, стараясь
оправдать восстание на Сицилии.
84. Leonard Op. cit. P. 47-48.
85.
Ibid. P. 48-49. История правления Карла в
Провансе подробно изложена в Sternfeld. Karl
von Anjou als Graf der Provence.
86. Leonard. Op. cit. P. 47-48.
87.
88. Ibid. P. 478-479.
89.
Ibid. P. 460-462. Папа разъяснил свою точку
зрения в письме Альберту Пармскому,
которое приводится в Martene. P. Durand.
Thesaurus. V. II. P. 50.
90. Jordan. Op. cit. Саму переписку см. в Martene, Durand. Thesaurus. V. II. P. 33-43.
91. Ibid. P. 468-475, где можно найти все встречные предложения Карла.
92. Ibid. P. 486-490; Urban IV. Registres. V. IV. P. 807-809, 816-836.
93.
94.
95.
Thierry of Vaucouleur. Vita Urbani IV. P. 420; Potthast. Regesta
Pontificum Romanorum. V. II. P. 1540.
96.
Sternfeld. Op. cit. P. 214 ff.
97.
Jordan. Op. cit. P. 516-517.
98.
Ibid. P. 299-303.
99.
Ibid. P. 521-522.
100.
Annales Januenses // M.G.H. Scriptores. V. XVIII. P. 249;
Pachymer. Op. cit. S. 167-168; Caro. Genua und die Machte am
Mittelmeer. Bd. I. S. 142-157, 167; Jordan. Op. cit. P. 570-575.
101.
Sternfeld. S. cit. P. 242-246.
102.
103.
Boehmer. Regesta, no. 4763. Bd. V,
104.
105. Ibid. P. 534-535.
106. Финансовые вопросы кампании детально рассматриваются в Jordan. Op. cit. P. 536-558.
107. Ibid. P. 592-598.
108. Ibid. P. 593-596; Leonard. Op. cit. P. 55-56.
109. Boehmer. Regesta, № 14276. V. V, 2. P. 2060; булла, уполномочивающая кардиналов, датируется 29 декабря; ibid, nos. 9622-9623. P. 1479; Villani. Cronica. V. II. P. 142-143, о коронации.
110.
Leonard. Op. cit. P. 57; Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI,
111.
Leonard. Op. cit. P. 57-58;
112.
Отчеты современников о битве при
Беневенте можно найти в Andrew of Hungary. Descriptio
Victoriae a Karolo reportatae (M.G.H. Scriptores. V. XXVI),
где приводятся письма участников
битвы, как, например, Гуго де Бо;
отчеты Карла Папе — в Baronius-Raynaldi, Annales
Ecclesiastici. V. III. P. 188-189;
113.
Del Guidice.
114.
Martene et Durand. Thesaurus. V. II. P. 319.
115. Hampe. Geschichte Konradins von Hohenstaufen. S. 65-67; Jordan. P. L'Allemagne et 1'Italie. S. 366-367; Leonard. P. Les Angevins de Naples. P. 60.
116.
Del Guidice.
117.
118.
См. Trifone.
119. См. выше, примеч. 35.
120.
Boehmer. Regesta, № 9667, 9713, 9730, 9761-9762. V. V, 2. S.
1484, 1488, 1490, 1493.
121.
122.
123.
124.
Leonard Op. cit. P. 372-375.
125. Salimbene de Adam. Cronica. Р. 473. Ее тело было перевезено в Экс-ан-Прованс для похорон.
126. Hampe. Op. cit. S. 21-41, 176 (о Фридрихе Австрийском).
127.
Ibid. S. 24.
128.
Ibid. S. 68-69.
129.
Ibid. S. 95-100.
130.
Martene et Durand. Thesaurus. V. II. P. 456-458, 525, 574; Jordan.
Op. cit. P. 377-379.
131. Hampe. Op. cit. S. 111-150. 111-150. Поэтическое приветствие, написанное Энрике для Конрадина, можно найти в d'Ancona and Comparetti. Le Antiche Rime Volgari. V. II. P. 305-307.
132.
133. О манифесте Конрадина см. Hampe. Op. cit. S. 346-350. О его отъезде из Германии, ibid. S. 172-174.
134.
135. Hampe. Op. cit. S. 211-269, подробное описание путешествия Конрадина. Савва Маласпина (Op. cit. Р. 842-844) дает живое описание приема Конрадина в Риме.
136.
137. Hampe. Op. cit. S. 270-282.
138.
Самый полный современный источник
о битве при Тальякоццо — хроника
монаха Примата, выдержки из которой
приводятся у Жана де Виньи (M.G.H. Scriptores.
V. XXVI. Р. 655-667). Савва Маласпина дает
хорошее описание (Op. cit. Р. 845-848).
Собственный отчет Карла Папе и
народу Падуи сообщает дальнейшие
подробности. Baronius-Raynaldi. Annales
Ecclesiastici. V. III. P. 242-243; Annales S. Justinae Patavini//
M.G.H., Scriptores. V. XIX. P. 190-191. Отчет Виллани,
как обычно, слишком живописен (V. II,
Р. 181-189). Современные описания см. в Hampe.
Op. cit. S. 288-295, и
139.
140.
Hаmpe. Op. cit. S. 305-306, 314.
141. Ibid. P. 312-327, 358-365. Большинство современных хроник говорят о смерти Конрадина с сочувствием к жертве, хотя Салимбене (Р. 476) говорит небрежно и ошибочно, что после смерти его имя растаяло, как дым.
142.
De Bаrtholomseis. Poesie Provenzali. V. II. P. 230.
143.
Маргарита была дочерью и
сонаследницей Матильды де Бурбон —
графини Оксера, Невера и Тоннера —
и Эда, старшего сына герцога
Бургундского. Она унаследовала
графство Тоннерское и часть Оксерр
и баронии в Монмирай, Аллюе, Ториньи
и Брюньи — все в Северо-Восточной
Франции. Карл отдал ей город Ле Ман
во вдовью долю. См. Leonard. Les Angevins de Nаples.
Р. 72, 75-76.
144.
De Boiiard. Le Regime politique et les Institutions de Rome au
Moyen Age. P. 76-79, 137-138, 162-163, 172-175; Gregorovius.
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter / Ed. Schilmann. V. II. S.
64-65, 1411; Jordan. P. L'Allemagne et 1'Italie. P. 401-402. О проекте
университета см. del Guidice. Codice Diplomatico. V.
I. P. 68.
145.
Sternfeld. Cardinal Johann Gaetan Orsini. S. 152; Jordan. Op. cit.
P. 394-395.
146.
147.
Annales Placentini Gibellini // M.G.H. Scriptores. V. XVIII. P.
542-545; Jordan. Op. cit. P. 414.
148.
149.
Annales Placentini Gibellini. P. 535-539; Jordan. Op. cit. P. 411-413.
150.
151.
152. Del Guidice. Codice Diplomatico. V. II. P. 239, 250, 258, 322.
153. Leonard. Op. cit. P. 80-82, со ссылками на источники.
154. Ibid. P. 82-83. Полный перечень высокопоставленных чиновников есть в Durrieu. Les Archives Angevines de Naple. V. II. P. 189-213.
155.
156.
Передвижения Карла полностью
прослеживаются в Durrieu. Les Archives Angevines.
V. II. P. 163-189.
157. Durieu. Op. cit. Р. 267-400, дает перечень французов, служивших Карлу. Об использовании французского языка см. del Guidice. Op. cit. V. I. P. 17.
158. Об острове Сицилия. С. 254-255. Он был разделен на две административные провинции, граница между которыми проходила по реке Сальсо.
159. Leonard. Op. cit. P. 75-77.
160. Ibid. P. 77-80.
161. См. выше с. 70-71.
162.
Pachymer. De Michaele Paleologo. S. 508; Miller. The Latins in
the
163.
Текст договора приводится в Buchon.
Recherches et Materiaux pour servir A une Histore de
164.
Miller. Loc. cit.
165. Runciman. History of the Crusades. V. III. P. 313, 331-332.
166. Leonard. Op. cit. P. 105-106.
167. Притязания дочери Балдуина Елены, королевы Сербии, которая, хотя и будучи замужем за принцем-схизматиком, была ярой проповедницей католицизма, похоже, не брались в расчет в Витербо.
168. Miller. Op. cit. Р. 129-130, и Р. 253-253 о завещании, якобы написанном в пользу Маргариты.
169.
Martene, Durand. Thessurus. V. II. P. 469 (письмо Климента
Михаилу); Pаchymer. Op. cit. S. 359-361; Norden. Das Pаpаttum
und Byzаnz. S. 448-457.
170.
Pachymer. Op. cit. S. 361-362; Annales Januenses. P. 264; Norden.
Op. cit. S. 265-266.
171.
Sternfeld. Ludwigs des Heiligen Kreuzzug nach
172. Sternfeld. Op. cit. S. 201; он неубедителен в утверждении, что Карл не знал об африканском проекте своего брата. Савва Маласпина (Op. cit. Р. 859) открыто говорит, что он договорился о нападении на Африку; Joinville. Histoire de Saint Louis / Ed. De Wailly. P. 398-400.
173.
Sterfeld. Op. cit. S. 237-248; Runciman. Op. cit. V. III. P. 291-292;
Hefele-Leclercq. Histoire de Conciles. V. VI. P. 64-66. Главный
источник — это Гильом де Нанжи, «Gesta
Sancti Ludovici» (Bouquet, R.T.F. V. XX). P. 440-
174.
Виллани (Op. cit. V. II. Р. 203-204)
рассказывает о недовольстве
крестоносцев. Об Эдуарде см. Ромске.
King Henry III and the Lord Edward. V. II. P. 598-599.
175. William of Nangis. Gesta Philippi III (Bouquet, R.T.F. Vol. XX). P. 476-478, 482-484; Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI. P. 66.
176.
О королеве Маргарите. С. 95 Король
Филипп снова женился в
177.
Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI,
178.
Powicke. Op. cit. V. II. P. 609-610.
179.
Leonard. Op. cit. P. 107-108; Miller. Op. cit. S. 516-517; Essays
on the Latin Orient. P. 432-433; Boucart; L'Albanie et les
Albanais. P. 98; Norden. Op. cit. S. 477-480.
180.
Longnon. L'Empire Latin. P. 240-242; Diehl, Oeconomos, Guilland
and Grousset. L'Empire Orientale de
181.
Gregorii X Vita Auctore Anonymo Scripta / Muratori // R.I.S. V.
Ill,
182.
Annales Januenses. P. 262, 272-273; Caro.
183.
Annales Placentini Gibellini. P. 554-555; Annales Januenses. P.
273-274; Potthast. Regesta. V. II. P. 1456.
184. Gregory X. Registres. P. 129-132; Jordan. Op. cit. P. 406-407.
185. Gregory X. Registres. Р. 65-67. Письмо Альфонса не сохранилось, но его содержание ясно из ответа Григория.
186.
Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI, I. P. 68-69;
187. Champollion-Figeac. Lettres des Rois, Reines et autres Personages. V. I. P. 652.
188.
Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI, I. P. 71;
189. Отакар, похоже, надеялся, даже после выборов, что Григорий все же его поддержит. См. Throop. Op. cit. S. 105-106. О протесте самого Отакара, M.G.H. Constitutiones. V. III. P. 19.
190. См. ниже, с. 195.
191. Caro. Op. cit. V. I. P. 319, приводится текст венецианского демарша.
192. Annales Januenses. P. 280-282; Caro. Op. cit. S. 265-278.
193. Norden. Op. cit. S. 471-472, 491-492; Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI, I P. 159-160; Champan. Michel Paleologue. P. 113-114.
194. В переводе с латыни — «и от сына»; эти слова были добавлены в VII в. западно-христианской церковью к христианскому «Символу Веры»; в соответствии с этим добавлением Святой Дух исходит не только от Бога-отца, но «и от сына». Это добавление не было принято Православной церковью и стало одной из причин разделения церквей.
195.
Norden. Op. cit. S. 499-520, подробное описание
переговоров со ссылками на
источники; Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI,
196.
Potthast. Regesta. V. II. P. 1672; Longnon. Op. cit. P. 242-243.
197.
Pachymer. De Michaele Paleologo. S. 317-318, 342-355.
198.
Ibid. S. 308-309, 332-334, 410.
199.
Annales Placentini Gibellini. P. 553; Caro. Op. cit. V. I. P. 288;
Chapman. Op. cit. P. 96.
200. Gregory X. Registres. V. I. P. 123; Norden. Op. cit. S. 518, n. 2.
201.
Powicke. Op. cit. V. II. P. 609-
202. Виллани подробно пишет об отравлении Фомы (V. IV. Р. 195), и Данте, «Чистилище», XX, ст. 68-69, соглашается с этим.
203.
Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI, I. P. 168-172; яркий и
хвастливый рассказ короля Хайме
Арагонского о его роли на Соборе
есть в «Chronicle of James I Aragon»/ Ed. Forster. V. II. P.
639-654. Эфель-Леклерк пишет об указах Op.
cit. V. VI,
204.
Pachymer. Op. cit. S. 384-396; Norden. Op. cit. S. 520-522;
Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI,
205.
Pachymer. Op. cit. S. 396-399; Norden. Op. cit. S. 520-536;
Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI,
206.
Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI,
207. Gregory X. Registres. P. 123; Leonard. Op. cit. P. 116-117; Norden. Op. cit. S. 537-553. Pachymer. Op. cit. S. 410, пишет, что Карл был так зол из-за того, что ему запретили нападать на Константинополь, что откусил верхушку своего скипетра.
208.
Fournier. Le Royaume d'Arles et
209.
Annales Placentini Gibellini. P. 558-559; Monti.
210.
Annales Placentini Gibellini. P. 559-560; Monti. Op. cit. P. 50-52.
211.
О Марии Антиохийской и ее
притязаниях см.
212. Potthast. Op. cit. V. II. P. 1702-1703.
213.
Potthast. Regesta Pontificum Romanorum. V. II. P. 1704. Карл
оставался в Риме на протяжении
всего понтификата. Durrieu. Les Archives
Angevines de Naples. V. II. P. 179.
214.
Potthast. Regesta. V. II. P. 1705.
215.
Annales Januenses. P. 283; Caro. Genua und die Ma'chte am
Mittelmeer. Bd. I. S. 367-380; de Bou'ard. Actes et Lettres de
Charles ler concernant
216. Potthast. Op. cit. V. II. P. 1709-1710; Савва Маласпина (Historia Sicula. Р. 871-872) описывает противозаконное вмешательство Карла в избрание Адриана.
217.
Potthast. Op. cit. V. II. P. 1710-1711; Durrieu. Op. cit. V. II.
P. 180.
218.
John XXI. Registres / Ed. Cadier.
219.
Leonard. Les Angevins de Naples. P. 121-123.
220.
Annales Placentini Gibellini. P. 564-565; Villani. V. II. P. 224-225.
221.
Hefele-Leclercq. Histoire des Conciles. V. VI,
222.
Redlich. Op. cit. S. 420-421.
223.
Pachymer. De Michaele Paleologo. S. 398-402; Chapman. Michel
Paleologue. P. 120-121.
224.
Norden. Das Papsttum und Byzanz. S. 563-680; Hefele-Leclercq. Op.
cit. V. VI,
225. Norden. Op. cit. S. 546-548. Наржо де Туси был вынужден просить подкрепления из Италии.
226.
Pachymer. Op. cit. S. 324-336; Sanudo. Istoria del Regno di
227.
Pachymer. Op. cit. S. 410-413; Sanudo. Op. cit. P. 125-126, 136;
Miller. Op. cit. S. 136-140; Dolger. Regesten der Kaiserurkunden
des Ostromischen Reiches. V. III. S. 68-69.
228.
Miller. Op. cit. S. 141-142.
229.
Runciman. History of the Crusades. V. III. P. 345-348.
230.
Ibid. P. 346-347, 387.
231.
Hill. History of
232.
Potthast. Op. cit. V. II. P. 1718.
233.
О карьере Николая до восшествия на
папский престол см. Sternfeld. Der Kardinal
Johann Gaetan Orsini. Passim. О назначенных им кардиналах
см. de Mas Latrie. Tresor de Chronologic.
234.
Ibid. P. 1719-1720. Передвижения Карла
летом и осенью
235.
Nicholas III. Registres. P. 332.
236.
Redlich. Op. cit. S. 307-320; Fournier. Le Royaume d'Arles et de
237.
Nicholas III. Registres. P. 369-376; Fournier. Op. cit. P. 233-234;
Leonard. Op. cit. P. 126-127.
238. Nicholas III. Registres. P. 378-379; Fournier. Op. cit.; Leonard. Op. cit.
239. Leonard. Op. cit. P. 127-128.
240. Ibid. P. 128-129.
241. Свидетельств о финансовом положении Карла того времени нет; однако он не просил о финансовой помощи.
242.
Nicholas III. Registres. P. 127-
243. Pachymer. Op. cit. S. 449-466; Norden. Op. cit. S. 589-601; Hefele-Leclercq. Op. cit. P. 211-216.
244. Pachymer. Op. cit. S. 462-463; Norden. Op. cit. S. 605-606. О денежном вопросе. С. 250.
245.
Potthast. Op. cit. V. II. P. 1754-1757; Hefele-Leclercq. Op. cit.
V. VI,
246. О карьере Мартина до восшествия на папский престол см. выше, стр.
247.
Potthast. Op. cit. V. II. P. 1758; Leonard. Op. cit. P. 131.
248. Villani. Op. cit. V. II. P. 264-267.
249.
Monti.
250. Fournier. Op. cit. Р. 248-255. В январе 1282г. Мартин попытался установить мир между Маргаритой и Карлом (Rymer. Foedera. V. I, 2. P. 601).
251.
Pachymer. Op. cit. S. 505; Hefele-Leclercq. Op. cit. V. VI,
252.
Текст договора Карла, Филиппа и
венецианцев приводится в Tafel, Thomas. Urkunden
zur altern Handels- umd Staatgeschichte der Republik Venedig. V.
III. S. 287-
253. Potthast. Op. cit. V. II. P. 1763; Pachymer. Loc. cit. Полный текст приводится в «Annales Altahenses» (M.G.H. Scriptores. V. XVII. P. 409).
254. См. ниже.
255.
Pachymer. Op. cit. S. 508-519; Sanudo. Op. cit. P. 129-130;
Norden. Op. cit. S. 621-623; Miller. Op. cit. P. 171-173; Chapman.
Op. cit. P. 140-142.
256.
Pachymer. Op. cit. S. 518-519.
257.
Miller. Op. cit. P. 161-164.
258.
Sanudo. Op. cit. P. 130, 132.
259.
Pachymer. Op. cit. S. 430-449; Jireheek. Geschichte der Bulgaren.
S. 275-280.
260.
Jireheek. Geschichte der Serben. V. I. S. 326-331.
261. Leonard. Op. cit. P. 134.
262. Pachymer. Op. cit. S. 472-474; Chapman. Op. cit. P. 150-151.
263.
Пророчество приводится Иорданом
Оснабрюккским (De Prerogativa Romani Imperii. P. 79).
Caнyдo (Istoria
264.
О притязаниях Констанции на
сицилийский престол и о ее
королевском титуле см. Wieruszowski.
265. В «Хронике Хайме I Арагонского», которая почти наверняка написана им самим, приводится самое яркое описание этого тщеславного, но сильного правителя.
266.
Wieruszowski. Op. cit. V. I. P. 147-152; Cartellieri. Peter von
Aragon und die Sizilianische Vesper. S. 23-26. Среди
других изгнанников-придворных
Манфреда была тетка Констанции,
Констанция-Анна, бывшая никейская
императрица. Она была в Неаполе во
время вторжения графа Анжуйского,
но Карл разрешил ей уехать в Испанию
в
267. О юности Джованни см. Предисловие Сикарди к «Duе Cronache del Vespro» (Muratori, R.I.S. V. 34). Он был одним из свидетелей, подписавших завещание Фридриха II (см. выше, 34). Его подробную биографию можно найти в de Renzi. Il Secolo decimo terzo e Giovanni da Procida. Про обвинение в отравлении короля Конрада см. выше, 59. Рекомендательное письмо от кардинала Орсини Королю Карлу приводится в Martene et Durand. Thesaurus. V. II. P. 298. Виллани. V. 234-235, рассказывает о жестоком обращении с его женой и дочерью. О его переговорах с Фридрихом Тюрингским см. Busson. Friedrich der Friedige als Pratendant der Sizilianischen Krone und Johann von Procida // Historische Aufsatze dem Andenken an Georg Weitz gewidmet. Подробные дискуссии о всей его карьере приведенные у Сикарди в его предисловии к «Due Cronache del Vespro», хотя и снабжены хорошими ссылками, но сами по себе некритичны, поскольку автор не желает слышать ни одного дурного слова о своем герое.
268. Cartellieri. Op. cit. S. 28-53.
269. См. ниже.
271.
Cаrini. Gli Archivi e le Biblioteche di Spаgna. V. II. P. 2-4,
190.
271.
Lu Rebellamentu di Sichilia//Due Cronache del Vespro. P. 5-11;
Liber Jani de Procida et Palialoco // P. 49-52; Leggenda di
Messer Gianni di Procida // P. 65-68. B «Rebellamentu»,
написанной на сицилийском диалекте,
о Джованни пишется как о герое, а в «Liber
Jani» и в «Leggenda», написанных на
итальянском (причем последняя,
вероятно, написана моденским
гвельфом), — как о злодее. Ricordano
Malespini. Storia Fiorentina / Ed. Follini. P. 180-181; Brunette
Latini. Tresoro / Ed. Amari // Altre Narrazioni del Vespro
Siciliano. P. 60-89; Villani. Cronica. V. II. P. 233-237, 239-242,
дают краткие изложения этой легенды.
272.
Rebellamentu. P. 14-17; Liber Jani. P. 52-55; Leggenda. Р. 68-71.
273. Wieruszowski. Der Anteil Johanns von Procida an der Verchworung gegen Karl von Anjou. S. 230, где приведен маршрут Джованни и документы, свидетельствующие о том, что он не мог доехать даже до Рима. О «взяточничестве» Николая см. выше, С. 250.
274.
О сицилийских аристократах см. Due
Cronache del Vespro, introduction. P. XXXVII. n.
275. D'Esclot. Cronica del Rey en Pere // Buchon. Chroniques Etrangeres relatives aux Expeditions Fransaises, P. 624; Muntaner. Cronica / Ed. Coroleu. P. 86-88; William of Nangis. Gesta Philippi III. P. 514; Cartellieri. Op. cit. S. 63-64, опровергает историю, рассказанную Мунтанером о грубости Педро по отношению к Карлу Салернскому. Однако история содержит убедительные подробности; короли Французский и Майоркский напоминают Педро, что Карл женат на его кузине. Кроме того, Гильом де Нанжи предполагает, что имела места некая ссора. Письмо Педро в Милан, копии которого были отправлены другим основным коммунам гибеллинов в Ломбардии, приводится в Carini. Op. cit. V. II. P. 41.
276.
См. выше, С. 232. О взимании церковной
десятины на Сардинии, Martin IV. Registres. №
116.
277. D'Esclot. Op. cit. P. 626; Muntaner. Op. cit. P. 100-101; Cartellieri. Op. cit. P. 80-81, 149.
278.
Ptolemaeus of
279.
Carini. Op. cit. V. II. P. 45.
280.
Bartholomew of Neocastro. Historia Sicula // Muratori. R.I.S. V. XIII,
III. P. 10, глава под названием «Как король
Карл притеснял народ»; Nicholas Specialis. Historia
Sicula//Muratori. R.I.S. V. X. P. 924,
281.
Norden. Das Papаttum und Byzanz. S. 626-629. Карл
провел январь в Риме и Орвьето, но
был в Капуа и Неаполе в феврале и
оставался в Неаполе весь март. Мы не
знаем, действительно ли он
собирался сам возглавить поход. Durrieu.
Les Archives Angevins de Naples. V. II. P. 187.
282. Виллани. Ор. сit. V. II. Р. 242, пишет, что король Филипп предупреждал Карла, но тот был слишком самонадеян, чтобы прислушаться к предупреждению. Виллани добавляет в качестве комментария народную пословицу: «Коли утверждают, что у тебя отвалился нос, потрогай это место». Карлу были чужды такие предосторожности.
283.
Amаri.
284. Ibid. P. 193, n. 1. Дата, понедельник, 30-е, указана у Бартоломео да Неокастро и у других сицилийцев того времени. Та самая церковь сегодня затерялась на огромном кладбище.
285. Описания самой резни есть у Бартоломео да Неокастро. (Historia sicula. Р. 11-12); Nicholas Specislis. Historis Siculs // Muratori. R.I.S. V. X. P. 924-925; продолжение Saba Malaspina. Rerum Sicularum Historia // Muratori. V. VIII; Annales Januenses. P. 576; Ricordano Malespini. Storia Fiorentina. P. 182-183; Villani. Cronica. V. II. P. 242-243; Rebellamentu. P. 19-20; Legenda. P. 72-73; D'Esclot. Cronica del Rey en Pere. P. 628-629; Muntaner. Cronica. P. 94-95; William of Nangis. Gesta Philippi III. P. 516. Есть более короткие изложения в большинстве хроник того времени. История блестяще изложена у Amari. Op. cit. V. I. P. 193-200.
286. Возглас «Смерть французам» упоминается во всех источниках. Даже Данте ссылается на него, «Рай», VIII, ст. 73-75.
287. Amari. Op. cit. V. I. P. 301, сочетает различные источники.
288.
Nicholas Specialis. Historia Sicula. P. 924-
289.
Ibid. P. 201-202.
290.
Ibid. P. 203-220.
291. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 12-15. Бартоломео жил в Мессине и играл большую роль в общественной жизни города. Его изложение случившегося отличается полнотой и убедительностью.
292. Ibid. P. 18-22.
293. Ibid. P. 21-22.
294. Ibid. P. 36-37; Michael Poleologus. De Vita Sua Opusculum. Под ред. Троицкого // Христианское Чтение. Т.П. С. 537-538. Бартоломео (Op. cit. Р. 10-11) упоминает среди претензий сицилийцев к Карлу то, что тот выступил с «разбойничьим крестом» против «наших друзей греков».
295.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 22.
296. Ibid.; Виллани (Op. cit. V. II. P. 244) цитирует слова, которые, как считается, произнес Карл.
297.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 15; Villani. Op. cit. V. II.
P. 245-
298.
Potthast. Regesta. V. II. P. 1768-1770.
299.
Villani. Op. cit. V. II. P. 244-245.
300.
Champollion-Figeac. Lettres des Rois, Reines et autres
Personnages. V. I. P.
301.
D'Esclot. Op. cit. P. 626-627; Muntaner. Op. cit. P. 103-108;
Cartellieri. Op. cit. P. 192-193.
302.
D'Esclot. Op. cit. P. 631-632; Cartellieri. Op. cit. P. 199.
303.
D'Esclot. Op. cit. P. 628, 630-631; Muntaner. Op. cit. P. 108-111.
304.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 23-25; Amari. Op. cit. V. I.
P. 232; Leonard. Les Angevins de Naples. P. 147.
305.
Potthast. Op. cit. V. II. P. 1771; Bartholomew of Neocastro. Op.
cit. P. 27.
306.
Trifone. Legislazione Angioina. ns LVIII. P. 92-93.
307.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 24-25.
308.
Ibid. P. 29, 67.
309.
Ibid. P. 33-36.
310.
Ibid. P. 33-36.
311. Ibid. P. 29; D'Esclot. Op. cit. P. 632-634; Muntaner. Op. cit. P. 112-113, 116-118, Педро также написал оправдательное письмо Эдуарду Английскому, Rymer. Foedera. V. I, 2. Р. 612.
312. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 30; D'Esclot. Op. cit. P. 635-636; Muntaner. Op. cit. P. 119-120.
313.
D'Esclot. Cronica. P. 636-637; Muntaner. Cronica. P. 112-113,
где ошибочно утверждается, что
Педро был коронован в это время; Bartholomew
of Neocastro. Historia Sicula. P. 30.
314.
Bartholomew of Neocastro. Loc. cit.
315.
Ibid. P. 30-32.
316.
Ibid.; D'Esclot. Op. cit. P. 638.
317.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 125-126.
318. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 38-42.
319.
Ibid. P. 42-43; D'Esclot. Op. cit. P. 639-642; Muntaner. Op. cit.
P. 130-132. Письмо Педро к Гвидо да Монте-фельтро,
где он рассказывает о своих победах,
приводится в Carucci.
320.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 45-46; Villani. Cronica. V.
II. P. 260-261. Некоторые указы Карла об
обороне южной части королевства
приводятся в de Bou'ard. Les Comptes des Tresoriers. S.
204 ff.
321.
Villani. Op. cit. V. I. P. 267-270; Gregorovius. Geschichte der
Stadt Rom im Mittelalter. V. II. P. 86-88.
323.
Pachymer. De Michaele Paleologo. S. 531-532; De Andronico
Paleologo. S. 87-88 (о замужестве Ирины
Монферратской, состоявшемся в 1284г.).
Пархимер отмечает, что Ирина была
родом не из королевской семьи, но
приходилась внучкой королю
Кастильскому; но истинной
причиной этого брака были
притязания семейства маркграфов
Монферратских на королевство
Фессалоникское, основанное
Бонифацием II Монферратским в
324.
Об отношениях Рудольфа с папством и
Италией см. Hefele-Leclercq. Histoire des Conciles. V.
VI,
325.
Leonard. Les Angevins de Naples. P. 159-150.
326.
Potthast. Regesta. V. II. S. 1773-1774.
327.
См. Leonard. Op. cit. P. 153.
328.
D'Esclot. Op. cit. P. 642-644; Muntaner. Op. cit. P. 138-141;
Виллани (Op. cit. V. II. Р. 274-275), ошибочно
утверждает, что соглашение было
подписано в присутствии Папы, но
дает проницательное объяснение
мотивов обоих королей. См. Amari.
329.
Potthast. Regesta. V. II. P. 1774-1778; Rymer. Foedera. V. I, 2.
P. 621-628.
330. См. Leonard. Op. cit. P. 15. Брат Педро убедил его вернуться в Арагон в то время. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 47-48.
331.
Durrieu. Les Archives angevines de
332. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. p. 44; D'Esclot. Op. cit. P. 645; Muntaner. Op. cit. Р. 133-136. Это единственный источник, в котором говорится, что граф Алан-сонский был убит во время этого налета.
333.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 45-46; D'Esclot. Op. cit. P.
645-647; Muntaner. Op. cit. P. 145-
334.
Текст реформы приводится в Trifone.
335.
Potthast. Regesta. V. II. P. 1780.
336.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 46-47; D'Esclot. Op. cit. P.
647-648.
337. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 47-51; D'Esclot. Op. cit. P. 648-649; Muntaner. Op. cit. P. 147-150.
338.
B D'Esclot. P. 649-652, дается арагонская
версия; в William of Nangis. Gesta Philippi III. Р. 522-524
- версия Анжуйского; Muntaner. Op. cit. Р. 170-185,
опирается на d'Esclot; Villani. V. II. P. 276-280 (по
его версии Карл появляется на
ристалище раньше Педро); Amari. Op. cit. V.
II. P. 24-26.
339.
Martin IV. Registres, nos. 220, 221.
340.
Ibid. nos. 292-299; Rymer. Foedera. V. I, 2. P. 634-639; Grandes
Chroniques de France. Ed. Viard. V. VIII. P. 93-94, 97; Petit
Charles de Valois. P. 5-6; Leonard. Les Angevins de Naples. P.
155-156.
341.
Villani. Cronica. V. II. P. 270-272.
342.
Cм. Leonard. Op. cit. P. 153.
343. Bartolomew of Neocastro. Historia Sicula. P. 55-56; D'Esclot. Cronica. P. 658-659; Muntaner. Cronica. P. 158-159.
344. Bartolomew of Neocastro. Op. cit. P. 49-50.
345. Письмо короля Педро приводится в Carucci. Op. cit. Р. 122.
346.
Martin IV. Registres. №
347.
Carucci.
348. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 57-58; D'Esclot. Op. cit. P. 663-668; Muntaner. P. 227-234; Villani. Op. cit. V. II. P. 286-288, где приводится история о жителях Сорренто.
349. Villani. Op. cit. V. II. P. 268-270; Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 58-59, неправдоподобный рассказ о том, как Карла утешала его супруга.
350.
См. Leonаrd. Op. cit. P. 158.
351. Bsrtholomew of Neocаstro. Op. cit. P. 60-61.
352. Ibid.
353. Ibid. P. 61-62. Датировку см. в Durrieu. Les Archives Angevins de Naples. V. II. P. 189.
354. Бартоломео да Неокастро (Op. cit. Р. 59) пишет, что жизнь принцу спасла королева Констанция: Мутанер (Op. cit. Р. 234-236) утверждает, что принца уберег инфант Хайме. Принц был спасен, очевидно, благодаря посредничеству неаполитанского аристократа Аденульфо Аквинского. См. Leonard. Op. cit. Р. 158, п. 2. Виллани (Op. cit.. V. II. Р. 292-293) указывает на Констанцию.
355.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 67-69.
356.
Ibid. P. 62-63, 66, 70.
357.
Miller. The Latins in the
358.
Durrieu. Op. cit. V. II. Р. 160. Указ о всеобщем
созыве в войско, обнародованный в
Бриндизи, датируется 5 октября
359.
См. Leonаrd. Op. cit. P. 159.
360. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 70.
361. Villani. Op. cit. V. II. P. 290-291; Salimbene de Adam. Cronica. P. 564-565, где описываются видения, имевшие место после смерти Карла. О завещании Карла см. Leonard. Op. cit. P. 159-160.
362.
Cadier. Essai sur 1'Administration du Royaume de Sicile. P. 112;
Leonard. Les Angevins de Naples. P. 161-163.
363.
Арагонский крестовый поход описан с
точки зрения арагонцев D'Esclot, Cronica.
P. 677-727, и Muntaner. Cronica. P. 246-286, а с точки
зрения французов — William of Nangis. Gesta Philippi
III. P. 528-
364.
Miller. The Latins in the
365. Runciman. History of the Crusades. V. III. P. 396-397.
366. Potthast. Regesta Pontificum Romanorum. V. II. P. 1794; Villani. Cronica. V. II. P. 306. Он умер от несварения желудка. Данте в «Чистилище», XXIV, ст. 20-24, пишет, что это случилось из-за того, что Мартин позволил себе во время поста съесть больсенских угрей с вином.
367.
William of Nangis. Op. cit. P. 534-535; D'Esclot. Op. cit. P. 727-732;
Villani. Op. cit. V. II. P. 298-305. Данте в «Чистилище»,
VII, ст. 105, пишет, что Филипп «пал, как
беглец, честь лилий омрачивший».
368.
Bartholomew of Neocastro. Historia Sicula. P. 80; D'Esclot. Op.
cit. P. 732-736; Muntaner. Op. cit. P. 296-300. Данте в «Чистилище»,
VII, ст. 112-114, пишет, что он «кряжистый»
и «опоясан всем, что люди чтят».
369. О характере Карла см. блестящее изложение в Leonard. Op. cit. Р. 172-174. Карл был переведен с Сицилии в Каталонию незадолго до смерти короля Педро, вопреки желанию сицилийского коронного правительства; Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 78-79.
370.
Potthast. Op. cit. V. II. P. 1795-
371.
Honorius IV. Registres. P. 76-82. Introduction. P. XXII-XXXV.
372. Ibid. Introduction. Loc. cit.
373. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 81; Muntaner. Op. cit. P. 300-301. Хроника д'Экло заканчивается смертью короля Педро.
374. Rymer. Foedera. V. I, 2. P. 662-667. Папа боялся участвовать в переговорах; Honorius IV. Registres. Р. 938-939.
375.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 78, 81; Honorius IV.
Registres. P. 348-349, 548.
376.
Rymer. Foedera. V. I, 2. P. 670-671.
377. Honorius IV. Registres. P. 572.
378. Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 81, 86-88, 93-101; Budge. The Monks of Kublai Khan. P. 171 (перевод рассказа Раббана Саумы). Раббан Саума полагал, что война велась очень благородно, поскольку не затрагивала мирное население.
379.
Potthast. Op. cit. Vol. II. P. 1823-1826. О Николае см.
статью Teetsert in Vacant and Mangenot. Dictionnaire de
theologie catholique. V. XI, I.
380.
Rymer. Foedera. V. I, 2. P. 677-679.
381.
Ibid. P. 680-681; Digard. Philippe le Bel et le Saint-Siege. V. I.
P. 43.
382.
Nicholas IV. Registres. V. I. P. 114; Runciman. Op. cit. V. III.
P. 405-406.
383.
Rymer. Foedera. V. I, 2. P. 685-697; Muntaner. Op. cit. P. 327-329;
Digard. Op. cit. V. I. P. 63-66.
384.
Villani. Op. cit. V. II. P. 331-332; Nicholas IV. Registres. V. I.
P. 212-216, 247; Digard. Op. cit. V. I. P. 66-70.
385. Bsrtholomew of Neocastro. Op. cit. P. 102-111; Villsni. Op. cit. V. II. P. 343-344; Carucci. L3 Guerra del Vespro Siciliano. P. 199.
386. Muntaner. Op. cit. P. 337-340; Digard. Op. cit. V. I. P. 100-110, и Pieces justificatives, no. XII (текст Санлиского договора). V. II. Р. 279-280.
387.
Bartholomew of Neocastro. Op. cit. P. 126; Muntaner. Op. cit. P.
340-341; Villani. Op. cit. V. III. P. 25.
388. Nicholas IV. Registres. V. II. P. 892; Carucci. Op. cit. P. 252-282; Digard. Op. cit. V. I. P. 136-140.
389. Potthast. Op. cit. V. II. P.1914.
390.
См. Digard. Op. cit. V. I. P. 155-160.
391. О наследовании венгерского трона см. далее, 329.
392. Carucci. Op. cit. P. 349.
393.
Potthast. Op. cit. V. II. P. 1915-1916; Hefele-Leclerq. Histoire
des Conciles. V. VI,
394. Digard. Op. cit. V. I. P. 119-120, 190-191; Leonard. Op. cit. Р. 81. Ни Каруччи, ни Сакарди, чье предисловие к «Rebellamentu» является длинной апологией Джованни да Прочида, не желали замечать ничего, что свидетельствовало бы против него. Бартоломео да Неокастро (Op. cit. Р. 120) пишет, что Джованни сам отправился в Рим, чтобы открыть переговоры.
395.
Digard. Op. cit. Р. 190-191.
396.
Potthast. Op. cit. V. II. P. 1921-1924; Hefele-Leclerq. Op. cit.
V. VI,
397. Boniface VIII. Registre/Ed. Digard. Vol. I. P. 68-70; Nicholas Specialis. Historia Sicula. P. 961 (где говорится, что Джованни да Прочида и Руджеро ди Лауриа прибыли с королем Хайме); Digard. Op. cit. V. I. P. 222-224.
398. Acta Aragonensia/ Ed. Finke. V. III. P. 49; Digard. Op. cit. V. I. P. 217-218, 258, 263; Carucci. Op. cit. P. 427-429; Leonard. Op. cit. P. 184-186. Об ответе Катерины см. Boniface. Registres. V. I. P. 290.
399. Boniface VIII. Registres. V. I. P. 68-70, 272-273, 925-935; Acta Aragonensia. V. I. P. 33, 40; Nicholas Specialis. Op. cit. P. 985-986; Carucci. Op. cit. P. 546; Digard. Op. cit. P. 290-292. О Виоланте см. эпизод в Finke. Aus den Tagen Bonifaz VIII // Quellen. S. XXXVI, о том, как Бонифаций неохотно согласился с похвалами Карла II в ее адрес.
400.
Nicholas Specialis. Op. cit. P. 962-965, 995-996.
401.
Ibid. P. 999-1001.
402.
Acta Aragonesia. V. I. P. 55, 70; Finke. Op. cit. P. XIV.
403. Nicholas Specialis. Op. cit. P. 1015-1019; Boniface VIII. Registres. V. II. P. 913-925.
404. Nicholas Specialis. Op. cit. P. 1027. Об отношениях с Генуей см. Leonard. Op. cit. P. 189.
405. Nicholas Specialis. Op. cit. P. 1035; Acta Aragonesia. V. III. P. 107, 113; Finke. Op. cit. P. XX, LV. Обороной Мессины руководил Бласко де Алагон, каталонский адмирал, сохранивший верность Сицилии.
406.
Petit. Charles de Valois. P. 52; Leonard. Op. cit. P. 190-193;
Finke. Op. cit. P. XX.
407.
Nicholas Specialis. Op. cit. P. 1037-1043; Finke. Op. cit. P.
XXXV, XLVI, LII, LII, LVI; Acta Aragonensia / V. I. P. 106, 108,
111; Leonard. Op. cit. P. 194-196; Boase. Op. cit. P. 289-292.
408.
Boniface VIII. Registres. V. III. P. 847-864; Villani. Op. cit. V.
III. P. 75.
409.
Nicholas Specialis. Op. cit. P. 1048-1050.
410.
Digard. Op. cit. V. II. P. 175-185; Boase. Op. cit. P. 341-351.
411.
Leonard. Op. cit. P. 196-197; См. Schipa. Carlo-Martello.
Angioino. Passim.
412. Leonard. Op. cit. P. 197-199.
413.
Caggese. Robero d'Angir e I suoi Tempi. V. I. P. 20. Папа
Бенедикт XI в
414. Внутреннее правление островом на протяжении следующего столетия, похоже, в целом протекало без беспорядков, если не считать периодических войн с Неаполем.
415. Leonard. Op. cit. P. 224, 243-245, 252-255, 326-329, 433-436.
416. Правнучку и последнюю наследницу короля Федерико Марию сменил на троне после ее смерти в 1402г. ее муж Мартин, сын короля Мартина Арагонского. После его смерти сицилийская корона перешла Фернандо, младшему сыну короля Хуана I Кастильского и принцессы Элеоноры Арагонской, чья мать была принцессой Сицилийской. Сын Фернандо Альфонс унаследовал и Арагон, и Сицилию и был усыновлен в 1420г. Джованной II Анжуйской, королевой Сицилийской (Неаполитанской), и таким образом «Две Сицилии» были объединены.
417.
Арагон также ненадолго
восторжествовал над Грецией, где
благодаря солдатам удачи из
Каталонской кампании сицилийская
ветвь династии породила династию
герцогов Афинских.
БИБЛИОГРАФИЯ
1.
Сборники источников
Acta
Aragonensia, aus dem diplomatischen Korrespondenz James II / Ed.
Finke. 3 vols.
Amari,
M. Altre Narrazioni del Vespro Siciliano, в приложении
к Guerra del Vespro Siciliano. См. PaafleJi II. d'Ancona, A.,
Comparetti, D. Le Antiche Rime Volgari.
Baronius,
O., Raynaldi C. Annales Ecclesiastici.
De
Bartholomaeis, V. Poesie Provenzali Storiche relative all'Italia.
Istituto Storico Italiano.
Boehmer,
J. F. Regesta Imperil. V. V: Regesten des Kaiser-reichs / Ed. J.
Picker, E. Winkelmann.
De
Boiiard, A. Actes et Lettres de Charles ler concernant
De
Boiiard, A. Documents en Fran9ais des Archives angevines de
Bouquet,
M. Recueil des Historiens des Gauls et de
Buchon,
J. A. Chroniques etrangeres relatives aux Expeditions francais
pendant le XIIIe siecle.
Carini,
I. Gli Archivi e le Biblioteche di Spagna, in rapporto alia
storia d'ltalia in generale e di Sicilia in particolare.
Champollion-Figeac,
J.J. Lettres des Rois, Reines et autres Personnages des Cours
de France et d'Angleterre. Collection de Documents Inedits.
Dolger,
F. Regesten der Kaiserurkunden des Ostrb'mischen Reiches. Munich-Berlin,
1924-1932. 3 vols.
Duchesne,
A. Historiae Francorum Scriptores.
Finke,
H. Aus den Tagen Bonifaz VIII: Quellen. См. Paafleji II. Fonti
per
Del
Giudice, G. Codice Diplomatico di Carlo II d'Angix.
Hopf,
K. Chroniques Greco-Romanes inedites ou peu connues.
Kern,
F. Acta Imperii, Angliae at Franciae, 1267-1313.
Krammer,
M. Quellen zur Geschichte der deutschen Konigswahl und
Kurfurstenkollegs.
Martene,
E., Durand, U. Thesaurus novis Anecdotorum.
Miklosich,
F., Mu'ller, J. Acta Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana.
Monumenta
Germaniae Historica.
Muratori,
L. A. Rerum Italicarum Scriptores.
Potthast,
A. Regesta Pontificum Romanorum, 1198-1304.
Registres
des Papes. Ecoles Franchises d'Athenes et
Boniface
VIII (ed. G. Digard and others), 1884-1932. 4 vols.
Clement
IV (ed.
Gregory
X, John XXI (ed. J. Guiraud and L. Cadier), 1892-1906. 2 vols.
Honorius
IV (ed. M. Prou). 1888.
Innocent
IV (ed. E. Berger), 1884-1921. 4 vols.
Martin
IV (ed. various), 1901-1935. 3 vols.
Nicholas
III (ed. J. Gay and
Nicholas
IV (ed.
Urban
IV (ed. J. Guiraud), 1892-1929. 4 vols.
Rymer,
T. Foedera (ed. A. Clarke and F. Holbrooke),
Tafel,
G. L., Thomas, G. M. Urkunden zur a'ltern Handels- und Staats-geschichte
der Republik Venedigs, Vienna, 1856-1857. 3 vols.
Trifone,
R.
2. Отдельные источники
Acropolita,
George. Oprea (ed. A. Heisenberg), Leipsic, 1903. 2 vols.
Andrew
of
Annales
Altahenses / Ed. G.H. Pertz // M.G.H. Scriptores. V. XVII, 1861.
Annales
Cavenses / Ed. G.H. Pertz // M.G.H. Scriptores. V. III, 1839.
Annales
Januenses Cafari et Continuatorum / Ed. G.H. Pertz // M.G.H.
Scriptores. V. XVIII, 1863.
Annales
Ottokariani / Ed. G.H. Pertz // M.G.H. Scriptores. V. IX, 1851.
Annales
Placentini Gibellini / Ed. G.H. Pertz // M.G.H. Scriptores. V.
XVIII, 1863.
Annales
Sanctae Justinae Patavini (Monachi Patavini Chronicon / Ed. P.
Jaffe // M.G.H. Scriptores. V. XIX, 1866.
Anonymi
Chronicon Siciliae. Ed. Muratori. R.I.S. V. X.
Bartholomew
of Neocastro. Historia Sicula / Ed. C. Paladino. (Muratori, R.I.S.
vol. XIII, 1922.)
Boccaccio,
Giovanni. De Casibus Illustrium Virorum.
Chronicle
of Morea. Greek version (ed. P. Kalonaros).
Chronicon
Sancti Bertini / Ed. О. Holder-Egger // M.G.H., Scriptores. V.
XXV, 1880.
Dante
Alighieri. Opere / Ed. E. Moore and P. Toynbee) //
D'Esclot
(Desclot), Bernat. Cronica del Rey en Pere, in Buchon. Chroniques
Etrangeres.
Ellenhard.
Gesta Rudolfi et Alberti Regum Romanorum // M.G.H. Scriptores. V.
XVII, 1861.
Gestes
des Chiprois / Ed. G. Raynaud.
Grandes
Chroniques de France / Ed. J. Viard. V. VIII, Paris, 1934.
Gregoras.
Nicephorus. Byzantina Historia / Ed. L. Schopen.
Gregorii
X Papae Vita Auctori Anonymo Scripta // Muratori. R.I.S., III.
Gudo
of Corvaria. Fragmenta Historiae Pisanae // Muratori. R.I.S. V.
XXIV.
Di
Jaci, Athanasio.
Jean
de Vignay. Ex Primati Chronicis per J. de Vignay translates / H.
Brosein M.G.H. Scriptores. V. XXVI 1882.
Joinville,
J. de. Histoire de Saint Louis / Ed. N. de Wailly.
Latini,
Brunette. Libri del Tesoro// Amari. Altre Narrazioni. Leggenda di
Messer Gianni di Procida (ed. E. Sicardi). (Muratori. R.I.S., vol.
XXXIV: Due Cronache del Vespro in Volgare Siciliano.)
Liber
Jani de Procida et Palioloco. Ibid. Malaspina,
Malaterra,
Gaufredus. Historia Sicula, 1099-1265. (Muratori. R.I.S., vol. V.)
Malespini,
Ricordano and Giachetto. Historia Fiorentina (ed. V. Follini).
Matthew
Paris. Chronica Majora (ed. H.R. Luard). (Rolls Series, 7 vols.
Matthew
Paris. Historia Anglorum, sive Historia Minora (ed. F. Madden).
(Rolls Series, 3 vols. London, 1866-1869.)
Michael
VIII Paleologus, Emperor. De Vita sua Opusculum (ed. J. Troitsky//
Christianskoe Chtenie, v. II).
Muntaner,
Ramon. Cronica o Descriptio fets e Hazanyes dell inclyt Rey Don
Jamme (ed. J. Caroleu).
Nicholas
of Carbio (Curbio). Vita Innocentii IV. (Muratori. R.I.S., vol.
III.)
Nicholas
of Jamsilla. Historia de rebus gestis Friderid II
Imperatoris ejusque filiorum Conradi et Manfredi: adnectitur
Anonymi supplementum de rebus gestis ejusdem Manfredi, Caroli
Andegavensis et Conradini Regum. (Muratori, R.I.S., vol. VIII.)
Pachymer,
George. De Michaele Paleologo: De Andronico Paleologo (ed.
I. Bekker), 2 vols.
Petrarch,
Francesco. Itinerarium Syriacum.
Pipino,
Francesco. Chronicon. (Muratori, R.I.S., vol. IX.)
Ptolomaeus
of
Praeclara
Francorum Facinora // Duchesne. Historiae Francorum Scriptores,
vol. V.
Primatus.
See John of Vignay.
Rabban
Sauma. History. Transl. E. Wallis Budge // The Monks of Kublai
Khan, Emperor of
Rebellamentu
di Sichilia / Ed. E. Sicardi Muratori, R.I.S. V.
XXXIV: Due Cronache del Vespro in Volgare Siciliano.)
Salimbene
de Adam. Cronica / Ed. О. Holder-Egger // M.G.H. Scriptores. V.
XXXII, 1905-1913.
Sanudo
Marino. Istoria
Specialis,
Nicholas. Historia Sicula // Muratori. R.I.S. V. X.
Villani,
Giovanni. Cronica.
William
of Nangis. Gesta Sancti Ludovici: Gesta Philippi III. // Bouquet,
R.H.F. V. XX.
II.
Современные работы
Amari,
M.
Amari,
M. Storia dei Musulmani di Sicilia.
Bathgen,
F. Die Regentschaft Papst Innocent III im Konigreich Sizilien.
Boase,
T.S.R. Boniface VIII.
De
Boiiard, A. Le Regine politique et les Institutions de Rome au
Moyen Age.
Bourcart,
J. L'Albanie et les Albanais.
Bury,
J. B. History of the Later
Busson,
A. Friedrich der Friedige als Pratendent der Sizilianischen Krone
und Johann von Procida // Historiche Aufsatzen dem Andenken an
Georg Waitz gewidmet.
Busson,
A. Die Doppelwahl des Jahres 1257 und der romische Ko'nig Alfons
X von Castilien. Minister, 1866.
Cadier,
L. Essai sur l'Administration du Royaume de Sicile sous Charles I
et Charles II d'Anjou.
Caggese,
C. Roberto d'Angir e I suoi Tempi. Florance, 1922-1931. 2 vols.
Caraballesi,
F. Saggio di Storia
Caro,
G. Genua und die Machte am Mittelmeer.
Cartellieri,
О. Peter von Aragon und die Sizilianische Vesper.
Carucci,
C.
Chalandon,
F. Histoire de
Champan,
C. Michel Paleologue, restaurateur de 1'Empire
Byzantin.
Cipolla,
C. Compendio della Storia politica di
Cohn,
W. Das Zeitalter der Hohenstaufen in Sizilien.
Croce,
B. Storia del Regno di
Cutolo,
A. Gli Angioini.
Davidssohn,
R. Geschichte von Florenz.
Diehl,
C., Oeconomos, L., Guilland, R. and Grousset, R. L'Europe
Orientale de
Digard,
G. Philippe le Bel et le Saint-Siege.
Durrieu,
P. Les Archives de Naples.
Egidi,
P. La «Communitas Siciliae» di 1282.
Fawtier,
R. L'Europe Occidentale de
Finke,
H. Aus den Tagen Bonifaz VIII. Minister, 1902.
Fournier,
P. Le Royaume d'Aries et de
Geneakoplos,
D. Greco-Latin relations on the eve of the Byzantine Restoration;
The Battle of Pelagonia, 1259 // Dumbarton Oaks Papers, № VII.
Geneakoplos,
D. Michael VIII Palaeologus and the Union of
Geneakoplos,
D. On the Schism of the Greek and
Gibbon,
E. The Decline and Fall of the
Del
Giudice, G. Don Arrigo, Infante de Castiglia.
Del
Giudice, G.
Gregorovius,
F. Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter (ed. F. Schillmann).
Halpen,
L. L'Essor de 1'
Hampe,
K. Geschichte Konradins von Hohenstaufen.
Von
Hefele, C.J. Histoire des Conciles (revised and translated by H.
Leclercq).
Heyd,
W. Histoire du Commerce du
Hill,
G. History of
Hitti,
P. K. A History of the Arabs.
Iorga,
N. Breve Histoire de 1'Albanie. Bucarest, 1919.
Jireeek,
C. Geschichte der Bulgaren.
Jireeek,
C. Geschichte der Serben.
Kantorowicz,
E. Kaiser Friedrich der Zweite.
Karst,
A. Geschichte Manfreds von Tode Friedrichs II bis zu seiner
Kronung.
Kempf,
J. Geschichte des Deutschen Reiches wahrend des grossen
Interregnums, 1245-1273.
Kretschmayr,
H. Geschichte von Venedig.
Langlois,
C.V. Le Regne de Philippe III le Hardi.
Leonard,
E.G. Les Angevins de Naples.
Libertini,
G., Paladino, G. Storia della Sicilia.
Longnon,
J. L'Empire Latin de Constantinople et
Longnon,
J. Les Fransais d'Outremer au Moyen Age.
Luchaire,
A. Innocent III.
De
Mas Latrie, L. Tresor de Chronologic d'Histoire et de
Geographic.
Merkel,
C.
Merkel,
C. Manfredo I e Manfredo II Lancia.
Miller,
W. Essays on the Latin Orient.
Miller,
W. The Latins in the
Minieri
Riccio, C. Genealogia di Carlo d'AngoT, prima generazione.
Minieri
Riccio, C. Genealogia di Carlo II d'Angio, re di Napoli. Archivio
Storico per le Provincie Napoletane.
Minieri
Riccio, C. II Regno di Carlo I di Angox. 2 vols.
Minieri
Riccio, C. Saggio di Codice Diplomatico di Napoli. 2 vols.
Monti,
G. M.
Monti,
G. M. Nuovi Studi Angioini, включая Gli Angioini di Napoli
nella Poesia Provenzale. Trani, 1937.
Muller,
E. Peter von Prezza, ein Publizist der zeit des Interregnums.
Nicol,
D. M. The Date of the
Norden,
W. Das Papsttum und Byzanz.
Ostrogorsky,
G.A. A History of the
Paulus,
N. Geschichte des Ablasses im Mittelalter.
Pawlicki,
B. Papst Honorius IV. Miinster, 1896.
Petit,
J. Charles de Valois.
Pinzi,
C. Storia della Citta di Viterbo.
Pontieri,
E. Ricerche sulla Crisi della Monarchia Siciliana nel secolo XIII.
Powicke,
F. M. King Henry III and the Lord Edward.
Redlich,
O. Rudolf von Habsburg.
De
Renzi, S. Collectio Salernitana.
De
Renzi, S. II Secolo decimo terzo e Giovanni da Procida.
Rohde,
H. E. Der Kampf urn Sizilien in den Jahren 1291-1302.
Rodenburg,
C. Innocenz IV und das Konigreich Siciliens.
Runciman,
S. A History of the Crusades,
Schipa,
M. Carlo-Martello Angioino.
Schipa,
M. Sicilia ed Italia sotto Federico II. Archivio Storico per le
Provincie Napolitane.
Schirrmacher,
F. W. Die Letzten Hohenstaufen. Gb'ttingen, 1871.
De
Stefano, A. Federico III Aragona, Re di Sicilia.
Sternfeld,
R. Cardinal Johann Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III).
Sternfeld,
R. Karl von Anjou als Graf von Provance.
Sternfeld,
R. Ludwigs der Heiligen Kreuzzug nach
Stamer,
E. Aus der Vorgeschichte der Sizilischen Vesper // Quellen und
Forschungen aus Italienischen Archiven und Biblioteken.
V.
XIX, 1927. Teetaert, A. Nicolas IV // A. Vacant and
Tenckhoff,
F. Papst Alexander IV.
Terlizzi,
S. Codice Diplomatico delle relazioni tra Carlo I d'Angor e
Throop,
P.A. Criticism of the Crusade.
Van
Cleve, T.C. Markward of Anweiler and the Sicilian Regency.
Vasiliev,
A. A. Byzance et les Arabes, vols. I and II, ed. And trans. By H.
Gregoire and M. Canard.
Wieruzowski,
H. Der Anteil Johanns von Procida an der Verschworung gegen Karl
von Anjou, Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens. V.
V. 1930.
Wieruzowski,
H. Conjuraciones y alanzas politicas
Wieruzowski,
H.
Wolf,
R. L. Mortgage and Redemption of an Emperor's Son:
Yver,
G. Le Commerce et les Marchands dans 1'Italie meridionale au
XIIIe et au XIVe Siecles.
Научное издание
Рансимен Стивен
СИЦИЛИЙСКАЯ
ВЕЧЕРНЯ:
История Средиземноморья в XIII веке
Главный редактор В. В. Чубарь
Ведущий редактор А. Ю. Карачинский
Художественный редактор П. П. Лосев
Верстка Н. А. Платонова
Корректор Н. Э. Тимофеева
Подписано в печать 25.02.2007.
Формат 84 х 108 1/32.
Усл. печ. л. 20,16. Гарнитура School.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 44
ООО
«Издательство „Евразия"»
197110, Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 2, лит. А, пом. 3-Н
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ООО «ИПК „Бионт"»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 86
тел.(812) 322-68-43
[1]
* Династия арабских эмиров (800-909 гг.),
правившая на территории Туниса и
Алжира, столицей эмирата был город
Кайру-ван. Аглабиды являлись
вассалами Аббасидов (см. далее). В
[2]
** Династия халифов-исмаилитов (909-1171
гг.). В результате восстания в
[3] * Григорий VII — Папа Римский в 1073-1085 гг. Предпринял ряд реформ, направленных на освобождение Церкви от засилья мирян и повышение чистоты нравов духовного сословия (декреты против женатых священников, продажи церковных должностей и т. д.). Боролся за установление религиозного и политического владычества папства над христианским миром, отстаивал право Пап низлагать королей и императоров. Проводя реформы, вступил в острый конфликт с германским императором Генрихом VII, известный как «Борьба за инвеституру» (право назначать на церковные посты). — Примеч. ред.
[4]
* Аббасиды — династия арабских
халифов, правивших в 750-1258 гг.
Потомки Аббаса - дяди пророка
Мухаммеда. Первый халиф династии -
Абу-л-Аббас (750-754). В
[5]
** Омейяды — династия арабских
халифов, правивших в 661-750 гг. После
того как династия Омейядов была
свергнута Аббасидами в
[6] * Антикороль — король, избранный частью германской знати в противес царствующему монарху. — Примеч. ред.
[7] * В итальянских городах-коммунах ХП-ХVI вв. — глава исполнительной и судебной власти. — Примеч. пер.
[8] * Электоры — германские князья, выбиравшие короля Германии. — Примеч. ред.
[9] * Апанаж - удел, передаваемый во владение младшим сыновьям. — Примеч. ред.
[10] Контадо — земли вокруг города. — Примеч. ред.
[11] * Безант золотая монета Византийской империи. — Примеч. ред.
[12] * Высшая курия — совет баронов Иерусалимского королевства. — Примеч. ред.
[13] * Непотизм — раздача Римскими Папами высших званий и земель своим родственникам. — Примеч. ред.
[14] ** Симония — продажа церковных должностей. — Примеч. ред.
[15] * Богомилы — еретическая секта, возникшая в Болгарии в X в. Богомилы считали, что миром управляют два начала — доброе и злое. Богомилы отвергали обряды, таинства и иерархию Церкви, вели аскетический образ жизни. — Примеч. ред.
[16] * Альмогавары — легковооруженная конница или пехота в Испании эпохи Реконкисты, устраивавшая набеги за добычей на вражескую территорию. — Примеч. ред.
[17] * Гонфалоньер (букв, знаменосец) церкви — главнокомандующий папской армией. — Примеч. ред.
[18] * Тrinacriа — древнее название Сицилии — в переводе с греческого означает «трехконечный». - Примеч. пер.
[19] * Авиньонское пленение Пап — вынужденное пребывание Пап в Авиньоне в 1307-1377 гг. — Примеч. ред.
[20] ** Великая
схизма — разделение Католической
церкви на два лагеря, когда было
избрано одновременно два Папы.
Схизма завершилась в